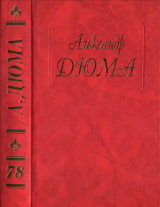
Текст книги "Галлия и Франция. Письма из Санкт-Петербурга"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 52 страниц)
королевство столь благородно, что оно не должно переходить по наследству к женщине и, следственно, к сыну этой женщины ... И монсеньор Филипп был коронован в Реймсе в 1328 году от Рождества Христова, в день Святой Троицы, после чего Францию и многие другие страны постигли великая война и великое разорение, о чем вы можете узнать из нашей истории».[343]
Эпилог
Однако как раз на истории этих войн и этих разорений, которую мы намереваемся в дальнейшем рассказать во всех подробностях, обрывается предпринятый нами труд летописца; ибо краткое введение, только что прочитанное вами, является всего лишь сводом дат и фактов, созданным исключительно благодаря изысканиям историка и не содержащим и малой доли воображения поэта, если только не воспринимать как нечто поэтическое выдвинутые нами религиозные теории и проистекающую из них политическую теорию.
Мы остановились на смерти Карла IV, поскольку с восшествием на трон Филиппа Валуа для Франции начинается новая эпоха. Национальная монархия достигла своей наивысшей точки и далее шаг за шагом спускается с феодальных высот, где Гуго Капет заложил фундаменты своего мощного здания, на равнины простонародья, где Луи Филипп, вероятно последний король этой династии, на один день установил свою палатку. Да будет же нам позволено, коль скоро мы оказались на вершине этой горы, бросить назад и вперед последний взгляд, который охватит с одной стороны Галлию Цезаря, а с другой – Францию Наполеона. Для наших читателей это будет одновременно кратким изложением сочинения, которое мы только что завершили, и план того, который мы намереваемся начать.
Галлия, завоеванная Цезарем, стала при Августе римской провинцией: императоры посылали туда наместника, командовавшего префектами; такой наместник получал приказания непосредственно от республики и передавал их своим подчиненным: политика, принятая в целом по отношению к завоеванным странам, была такой же и для Галлии. Управление осуществлялось мягко и по-отечески, и, поскольку цивилизация принесла варварству прежде неизвестные ему удовольствия, искусства и утехи, ей, развратительнице по своей природе, оказалось нетрудно приучить к римским нравам коренные племена Галлии; здешний юг, чьи богатейшие равнины через Альпы соприкасались с Италией, чьи берега омывало то же самое море и чьи обитатели дышали тем же благоухающим воздухом, что и жители Сорренто и Пестума, стал любимейшей провинцией римлян; римский Нарбон вырос вблизи греческой Массалии; Арль располагал амфитеатром, Ним – цирком, Отён – школой, а Лион – храмами; туземные легионы, каждый воин которых с гордостью носил звание римского гражданина и которые набирали в Нарбонской провинции, через всю Галлию шли подчинять империи Бретань, которую она не могла покорить, точно так же как домашние слоны, обученные царями Индии, помогали им подчинять диких слонов.
За римским владычеством последовало франкское завоевание, за цивилизацией – варварство, и произошло это вовремя; гниение, разъедавшее сердце империи, охватило и ее члены; франкское копье отделило Галлию от римского тела и тем самым спасло ее; примечательно то, что цивилизация, победив варварство, убила его, а варварство, победив цивилизацию, оплодотворило ее.
Франкские вожди сохранили от римского правления все, что они смогли приспособить к своим обычаям, а главное, к своим интересам; власть вождей, как мы уже говорили, при Меровиге и Хлодвиге была единоличной; при их преемниках она оказалась раздробленной.
Раздробление власти, как мы опять-таки говорили, повлекло за собой раздробление земельной собственности; с тех пор, как вожди стали владеть землей, они пожелали иметь своего представителя, подобно тому, как его имела королевская власть (мы уже упоминали, кто представлял в это время народ). Созданная ими должность майордома следовала в своем развитии тем же изменениям, что и королевская власть, которую власть майордома была призвана рано или поздно заменить: временная при Сигеберте[344] и его преемниках, она была пожизненной при Хлотаре и, наконец, стала наследственной при Хлодвиге II; однако, как и в случае королевской власти, в основе своей она являлась выборной. «Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt[345]». Но стоило одной из этих двух соперничающих сил нарушить принцип выборности, как и другой пришлось тотчас же от него отказаться.
Король франков вовсе не обладал, как это можно было бы подумать, абсолютной властью. Помимо майордома, поставленного подле него, чтобы представлять права касты вождей, существовали еще советы, состоявшие из военачальников, которые решали тяжбы народа[346] с королем, общие смотры войск, назначавшиеся обычно на март или на май и уведомлявшиеся о том, что обсуждалось на этих узких собраниях; все это происходило исключительно между завоевателями до тех пор, пока народ, представленный Церковью, не оказался, в свою очередь, собственником части земли; после этого в состав королевского совета вошли епископы, а на Мартовские и Майские поля стали направлять церковных депутатов; таким образом, получили представительство все три сословия собственников: королевская власть в лице короля, вожди в лице майордома и Церковь, или народ, в лице епископов.
Ниспровержение династии Меровингов династией Каролингов привело к возникновению пробела в представительстве этих властей: каста вождей уничтожила королевскую власть и заняла ее место; новые владыки полагали, что королевская власть и власть вождей теперь навсегда слились в одну-единственную силу, но они забыли, что под косой жнеца уже поднимаются всходы новой жатвы. Раз больше не было касты вождей, не было больше и нужды в их представителе; поскольку ее власть слилась с королевской властью, она уже не могла впредь избирать короля. Поэтому должность майордома была упразднена, и Карл Великий поместил на своих монетах девиз: «Carolus, gratia Dei rex[347]».
Таким образом, когда каста вождей стала господствующей, принцип выборности, на основе которого короли получали свою власть, оказался уничтоженным.
В итоге Карл стал первым и последним полновластным правителем, ибо его предшественникам приходилось бороться против власти вождей, а его преемники должны были бороться против власти вассалов. При нем же, напротив, нет ни малейшего намека на сопротивление со стороны какой-либо касты, которую он попирал ногами, стоило только ей поднять голову; никто не утверждает и не проверяет его приказы: он отдает их, и ему повинуются; он желает иметь собственные законы, и на смену кодексу Феодосия приходят капитулярии. Он желает иметь армию, и ее набирают; ему хочется победить – он сражается.
Такое единство власти и силы понадобилось для того, чтобы Карл мог выполнить свою миссию и дойти до своей цели; понадобилось, чтобы один и тот же ум возвел по единому плану защитные стены этой огромной империи, чтобы варварство разбилось о них, не найдя в них ни единой слабой стороны, через которую оно могло бы туда проникнуть; понадобилось, наконец, чтобы царствование Карла было долгим, ибо только он один способен был завершить задуманный им огромный труд, и царствование Карла длилось сорок шесть лет.
Мы уже говорили в свое время, какова наша точка зрения на раздробление империи: наследники Карла проводили в еще больших масштабах тот же самый раздел земель, который начали сыновья Хлодвига, и одинаковые причины привели к одинаковым последствиям, а именно, к возникновению новой касты сеньоров, порожденной земельными пожалованиями, на которые короли династий Меровингов и Каролингов вынуждены были идти, чтобы взойти на трон, а затем, как им казалось, чтобы удержаться на нем. Карл, избавившись от власти франкских вождей, первым избрал в качестве девиза на монетах, которые только он один и имел право чеканить, слова «Carolus, gratia Dei гех». Французские сеньоры, избавившись, в свой черед, от франкского господства, отрицали тот факт, что свое начало они ведут от королевской власти, точно так же как Карл отрицал, что его власть исходит от касты вождей, и двести лет спустя они не только присвоили себе право чеканить монету, подобно императорам, но еще и избрали в качестве девиза на этой монете слова «gratia Dei», пример чего подала им королевская власть.[348]
Мы уже рассказали, каким образом произошел раскол между франкской королевской властью и французскими сеньорами, и объяснили, каким образом земельные собственники противопоставили интересы страны интересам королевской власти, хотя и короли, и сеньоры принадлежали к одному и тому же племени; мы привели достаточно большое число подробностей, касающихся зарождения, борьбы и победы национальной партии, чтобы быть избавленными от необходимости снова показывать здесь картину этой переходной эпохи, занявшей место между королевской властью завоевателей и королевской властью нации.
Когда Гуго Капет взошел на престол, который до него уже занимали Эд и Рауль, первые французские короли, попавшие в череду германских королей, он обнаружил, что земли Франции поделены между семью крупными собственниками, владеющими ими уже не потому, что земли эти были уступлены или на время пожалованы королем, то есть как аллодами или фьефами, а милостью Божьей. Так что монархическая система, которую ему предстояло построить, должна была во многих отношениях отличаться от той, что существовала при Карле Великом или Хлодвиге; королевская власть, полученная им, напоминала скорее председательство в аристократической республике, чем диктатуру в империи: он был первым, но даже не самым богатым и не самым могущественным среди равных себе. Поэтому новый король начал с того, что довел число своих высших вассалов до двенадцати, введя в их состав церковных пэров, чтобы обеспечить себе поддержку со стороны Церкви; затем, на этой прочной опоре из двенадцати мощных колонн, представлявших высший вассалитет, он возвел свод национальной монархии.[349]
Когда же благие деяния, которым предстояло обозначить эту первую эпоху, свершились, то есть когда новый язык, национальный, как и новая монархия, пришел на смену языку завоевателей; когда крестовые походы открыли дорогу с Востока искусствам и наукам; когда булла Александра III, провозгласившая, что всякий христианин свободен, привела к освобождению крепостных; когда, наконец, Филипп Красивый, впервые посягнув на феодальную монархию, изменил ее, учредив три сословия и сделав парламент безвыездным, – этой монархии, исполнившей свои задачи, пришло время уступить место другой, которая должна была исполнить свою собственную миссию. И тогда появился Филипп Валуа, который нанес первый удар секирой по зданию, воздвигнутому Гуго Капетом, и с плеч слетела голова Клиссона.
Танги Дюшатель унаследовал секиру Филиппа Валуа. И через семьдесят лет после того, как тот нанес удар, он ударил в свой черед и с плеч слетела голова Иоанна Бургундского.
Так что, войдя в храм, Людовик XI обнаружил, что две феодальные колонны, поддерживавшие свод, уже разрушены. Его миссия состояла в том, чтобы обрушить остальные. Он был верен ей и, едва вступив на трон, принялся за дело.
И тогда повсюду остались лишь руины феодализма: обломки Беррийского, Сен-Польского, Немурского, Бургундского, Гиенского и Анжуйского владетельных домов усыпали мостовую вокруг здания монархии, и оно, без сомнения, рухнуло бы за неимением опоры, если бы король не поддерживал одной рукой тот самый свод, из-под которого другой рукой он выбивал колонны.
В конце концов Людовик XI остался один, и новой опорой здания, придавшей ему равновесие, стал гений короля.
К его времени восходит первая национальная абсолютная монархия. Однако самовластие он оставил в наследство слишком слабым преемникам, чтобы они могли его продолжать. На место знатных вассалов, сокрушенных Людовиком XI, при Карле VIII и Людовике ХП пришли знатные сеньоры; так что, когда Франциск I вступил на престол и со страхом увидел, как колеблется здание монархии, он, решив использовать первоначальные его опоры и не найдя их, пытаясь найти дюжину людей из железа, но встретив лишь две сотни людей из плюша, понадеялся обрести равную силу в умножении сил, стоящих ниже, и заменил знатными сеньорами знатных вассалов, ничуть не тревожась о том, что высота свода опустится до уровня этих новых колонн, если только понижение свода способно было укрепить здание. И в самом деле, хотя созданные им опоры оказались более тонкими и менее высокими в сравнении с прежними, они были не менее прочными, ибо по-прежнему представляли слой земельных собственников и увеличение их числа находилось в точном соответствии с разделом земель, произошедшим за время между правлением Людовика XI и его собственным царствованием.[350]
Так что Франциск I оказался основателем монархии знатных сеньоров, как Гуго Капет был основателем монархии знатных вассалов.
Затем, когда эта вторая эпоха национальной монархии стала приносить плоды; когда книгопечатание придало некоторую устойчивость возрождающимся наукам и словесности; когда Рабле и Монтень придали языку научную основу; когда вслед за Приматиччо и Леонардо да Винчи на землю Франции вступили искусства; когда Лютер в Германии, Уиклиф в Англии, Кальвин во Франции посредством религиозной реформации подготовили реформацию политическую; когда освобождение Кале, убравшее с французской земли последний след завоеваний Эдуарда III, закрепило наши военные границы; когда Варфоломеевская ночь, произведшая действие, противоположное тому, какое от нее ожидали, пошатнула религию и королевскую власть, которые выступали заодно, проливая кровь гугенотов; когда казнь Ла Моля, убийство Гизов и осуждение Бирона возвестили знатным сеньорам, что время пришло и их час пробил, точно так же, как некогда это дали понять знатным вассалам казнь Клиссона и убийство Иоанна Бургундского, – вот тогда на горизонте, точно красная комета, появился Ришелье[351], этот размашистый косарь, которому предстояло выпустить на эшафоте те остатки крови, какие после гражданской войны и дуэлей еще сохранялись в жилах знати.
Прошло сто сорок девять лет с того времени, как умер Людовик XI.
Мне нет нужды говорить, что миссия у двух этих людей были одна и та же, и всем известно, что Ришелье исполнял ее столь же свято, как и Людовик XI.
Так что Людовик XIV застал внутреннюю часть монархического здания не только лишенной двухсот колонн, которые его поддерживали, но еще и заваленной их обломками: трон так твердо стоял на выровненной земле Франции, что король, хотя он и был ребенком, поднялся на него, не оступившись; затем, когда он достиг совершеннолетия, перед ним открылась дорога к неограниченной власти, проложенная столь широкой стопой, что ученику оставалось лишь двигаться по следу своего учителя, а ему это было необходимо, ибо Людовик XIV не обладал врожденным талантом своевластия и склонность к нему приобрел лишь в результате воспитания.
Тем не менее Людовик XIV исполнил свое предназначение: он сделался средоточием королевства, взял в свои руки все бразды правления и натягивал их столь долго, столь сильно и столь беспрерывно, что, умирая, мог предвидеть, как они порвутся в руках его преемников.
Затем пришло Регентство, разлив свою навозную жижу по всему королевству, и из земли поднялась аристократия.
Так что Людовик XV, достигнув совершеннолетия, оказался точно в таком же положении, в каком некогда находились Франциск I и Гуго Капет. Монархию следовало преобразовать, однако никого уже не было на месте знатных сеньоров, никого не было на месте знатных вассалов: лишь слабые и многочисленные побеги росли там, где прежде стояли крепкие и мощные стволы. И потому ему необходимо было опустить еще ниже свод здания монархии, вновь подменить силу числом и вместо двенадцати знатных вассалов Гуго Капета, вместо двухсот знатных сеньоров Франциска I использовать в качестве опор шаткого сооружения пятьдесят тысяч аристократов регентства герцога Орлеанского.
Наконец, когда эта третья эпоха национальной монархии принесла свои плоды, плоды Асфальтового озера, полные гнили и праха; когда такие люди, как Дюбуа и Ло, Помпадур и Дюбарри, уничтожили уважение к королевской власти, а такие, как Вольтер и Дидро, д'Аламбер и Гримм, погасили религиозную веру, то религия, эта кормилица народов, и королевская власть, эта основательница человеческих сообществ, к тому же еще полностью замаранные от людских прикосновений, вознеслись к Господу, чьими дочерьми они были.
Их бегство оставило без защиты монархию, основанную на божественном праве, и Людовик XVI увидел, как с промежутком в четыре года на востоке засверкало пламя Бастилии, а на западе – нож эшафота.
Но теперь уже не один человек пришел сеять разрушение, ибо одного человека было бы недостаточно для уничтожения монархии: поднялась вся нация целиком и, увеличив число рабочих в соответствии с масштабами предстоящего труда, направила четыреста депутатов, чтобы сокрушить аристократию, эту дочь всесилия знатных сеньоров, эту внучку всесилия знатных вассалов.
Двадцать второго сентября 1792 года Национальный Конвент взял в руки наследственную секиру.
Прошло сто сорок девять лет с того времени, как умер Ришелье.
Есть нечто удивительное и словно ниспосланное Провидением в этом совпадении сроков: Ришелье появляется через сто сорок девять лет после Людовика XI, а Национальный Конвент – через сто сорок девять лет после Ришелье.
Отметим здесь одно великое заблуждение, в которое одни впадают по невежеству, а другие поддерживают по злому умыслу: 93-й год был годом революции, но не республики; это слово стало употребляться из ненависти к монархии, а не из-за сходства понятий. Нож гильотины сделан в форме треугольника, и в то же время треугольник служит символом Бога: однако кто осмелится заявить, что они неразрывно связаны между собой?
Термидорианская реакция спасла жизнь тем остаткам аристократии, каким предстояло вот-вот погибнуть от руки Робеспьера; секира, которая должна была ее убить, лишь нанесла ей глубокую, но не смертельную рану: Бурбоны, вернувшись во Францию в 1814 году, вновь застали там аристократию; древняя монархия тотчас же узнала свою старую опору и доверила ей охранять палату пэров – этот поставленный прямо в сердце Франции последний оплот королевской власти, основанной на божественном праве.
Таким образом, воля Провидения оказалась на короткий миг нарушена преждевременными событиями 9 термидора, и когда то божество, которое печется о законе прогресса, под каким бы именем оно ни выступало – Бога, Природы или Провидения, – бросило взгляд в нашу сторону, оно с удивлением увидело в самом сердце Франции живую и засевшую в своем укрытии аристократию, которая, как ему казалось, была уничтожена Конвентом.
Но вот взошло солнце июля и, как солнце Иисуса Навина, на три дня остановилось на небе.
И тогда свершилась эта удивительная революция, обрушившаяся лишь на то, на что она должна была обрушиться, и уничтожившая лишь то, что она должна была уничтожить; революция, которую считали новой и которая была дочерью 93-го года; революция, которая длилась всего три дня, ибо ей нужно было сокрушить лишь остатки аристократии, и которая, погнушавшись напасть с секирой или мечом на умирающего, удовольствовалась тем, что парализовала его действия с помощью закона и судебного постановления, как поступают с выжившим из ума стариком, которого лишает дееспособности семейный совет.
Это закон от 10 декабря 1831 года, упразднивший наследственное пэрство.
Это постановление от 16 декабря 1832 года, гласящее, что кто угодно может называть себя графом или маркизом.[352]
На следующий день после того как произошли эти два события, Июльская революция завершилась, ибо аристократия была если и не мертва, то, по крайней мере, связана по рукам и ногам; безупречно честная часть палаты пэров, представленная такими людьми, как Фиц-Джеймс и Шатобриан, покинула Люксембургский дворец, чтобы никогда туда не возвратиться, и с их уходом всякое аристократическое влияние в государстве исчезло, уступив место влиянию крупных собственников.
Вот как это влияние установилось.
Луи Филипп занял место возле угасающей королевской власти, словно наследник у изголовья умирающего. Он завладел завещанием, которое народ вполне мог бы отменить; однако народ, с присущим ему глубоким умом, понял, что должна исчерпать себя последняя форма монархии и что ее представителем является Луи Филипп; так что народ ограничился тем, что соскоблил с наследственного герба «Gratia Dei», а если и не начертал на нем слова «Gratia populi[353]», то лишь потому, что был вполне уверен: больше всего король станет вспоминать их в те минуты, когда будет казаться, что он их забыл.
Тем не менее и для нового здания монархии нужны были новые опоры. Но не не существовало уже пятидесяти тысяч аристократов Людовика XV; лежали в могилах двести знатных сеньоров Франциска I; покоились в своих феодальных усыпальницах двенадцать знатных вассалов Гуго Капета, и на место уничтоженных каст, олицетворявших привилегии для немногих, стали приходить возникающие повсюду земельная собственность и индустрия, олицетворяющие право для всех. Луи Филиппу даже не пришлось делать выбор между кастовыми симпатиями и потребностями времени: на место пятидесяти тысяч аристократов Людовика XV он поставил сто шестьдесят тысяч крупных земельных собственников и промышленников эпохи Реставрации, и свод монархического здания опустился еще на одну отметку по направлению к народу – самую низкую и самую последнюю.
Таким образом, после каждой революции, которая все разрушает, настает период спокойствия, в течение которого все строится заново; после каждой жатвы землю оставляют под паром, чтобы на ней поднялись затем ростки нового урожая. После царствования Людовика XI, ставшего ужасом для знатных вассалов, настали царствования Карла VHI и Людовика XII, когда возникла каста знатных сеньоров. После царствований Людовика XIII и Людовика XIV, ставших 93-м годом для знатных сеньоров, настало Регентство, в течение которого появилась аристократия; наконец, после царствования Комитета общественного спасения, выкосившего аристократов, наступила Реставрация, во время которой пустила ростки каста крупных земельных собственников.
И тут самое время обратить внимание на то, какое полное сходство существует между реформатором и реформируемым обществом: разве Луи Филипп с его нарядом, настолько общеизвестным, что он вошел в поговорку, и с его укладом жизни, настолько простым, что он сделался примером для подражания, не был образчиком крупного земельного собственника или крупного промышленника?
А Людовик XV с его бархатным камзолом, покрытым шитьем и блестками, с его шелковым жилетом, с его шпагой со стальным эфесом и бантом из лент, с его распутным нравом, развращенным умом, эгоистичным пользованием дня сегодняшнего и безразличием к будущему, – разве это не законченный образчик аристократа?
Ну а Франциск I, с его головным убором, увенчанным перьями, с его шелковым кафтаном, бархатными туфлями с разрезом, изящно-надменным умом и благороднораспутным нравом, – разве это не совершенный образчик знатного сеньора?
Наконец, их общий предок Гуго Капет, покрытый железными латами, опирающийся на свой железный меч и наделенный железным характером, – разве не видится он нам стоящим на горизонте, словно точный образчик знатного вассала?
Однако тут в голове у наших читателей вполне естественно должен возникнуть вопрос, упреждая который, мы не побоимся прервать цепь наш доводов:
«Как вы впишете в эту грандиозную систему упадка монархии, только что представленную нам, Наполеона?»
Что ж, ответим.
Как нам представляется, еще в незапамятные времена три человека были избраны по замыслу Божьему, дабы совершить дело духовного перерождения: Цезарь, Карл Великий и Наполеон.
Цезарь подготовил приход христианства.
Карл Великий – цивилизации.
Наполеон – свободы.[354]
Мы уже рассказывали, как Цезарь подготовил приход христианства, собрав в руках победоносного Рима четырнадцать завоеванных народов, над которыми вознеслось распятие.
Мы уже рассказывали, как Карл Великий подготовил приход цивилизации, отразив на всех рубежах своей обширной империи натиск варварских народов.
А теперь мы расскажем, как Наполеон подготовил приход свободы.
Когда 18 брюмера Наполеон завладел Францией, она все еще пребывала в лихорадке гражданской войны и во время одного из приступов этой горячки вырвалась так далеко вперед других народов, что они уже не могли идти в ногу с ней; в итоге общее равновесие оказалось нарушенным из-за этого чрезмерного прогресса отдельной нации; то было безумие свободы, которую, по мнению королей, следовало заковать в цепи, чтобы излечить.
Наполеон, с его наитием деспота и воина, с его двойственной натурой человека из народа и аристократа, оказался позади идей Франции, но впереди идей Европы; противодействуя прогрессу внутри страны, он способствовал ему за ее пределами.
Безрассудные короли объявили этому человеку войну!..
И тогда Наполеон собрал все самое чистое, самое мыслящее, самое передовое, что было во Франции; он сформировал из этих людей армии и повел эти армии в Европу; повсюду они несли смерть королям и дыхание жизни народам; везде, куда приходил дух Франции, вслед за ним гигантскими шагами шла свобода, разбрасывая по ветру революции, словно сеятель – семена. Наполеон лишается трона в 1815 году, но не проходит и трех лет, как урожай, который он заложил, уже готов к жатве.
1818 год. Великое герцогство Баденское и Бавария требуют конституцию и получают ее.
1819 год. Вюртемберг требует конституцию и получает ее.
1820 год. Революция и конституция кортесов в Испании и Португалии.
1820 год. Революция и конституция в Неаполе и Пьемонте.
1821 год. Восстание греков против Турции.
1823 год. Учреждение ландтагов в Пруссии.
Только один народ, в силу самого своего географического положения, избежал этого прогрессивного влияния, ибо он был слишком удален от нас для того, чтобы мы могли когда-нибудь помыслить о том, чтобы вступить на его землю. Наполеон, вынужденный обратить на этот народ свой взгляд, в конце концов свыкается с этим расстоянием; вначале ему кажется, что преодолеть подобное расстояние возможно, а затем он приходит к мысли, что сделать это нетрудно; достаточно иметь предлог, и мы завоюем Россию, как уже завоевали Италию, Египет, Германию, Австрию и Испанию; предлог не заставляет себя ждать: английский корабль заходит в какой-то из портов Балтийского моря, вопреки обязательствам России поддерживать континентальную блокаду, и тотчас же Наполеон Великий объявляет войну своему брату Александру I, царю Всея Руси.
Вначале кажется, что промысл Господний рушится, столкнувшись со склонностью человека к деспотизму. Франция вторгается в Россию, однако свобода и рабство никак не соприкоснутся между собой; никакое семя не прорастет в этой заледеневшей земле, ибо перед нашими войсками будут отступать не только войска противника, но и его население. Земля, которую мы завоевываем, оказывается пустыней; столица, которая попадет под нашу власть, окажется уничтоженной пожаром, и, когда мы вступаем в Москву, Москва пуста, Москва охвачена огнем!
Так что миссия Наполеона выполнена, и настал момент его падения, ибо теперь его падение будет столь же полезно для дела свободы, как прежде было полезно его возвышение. Царь, столь осторожный перед лицом побеждающего противника, станет, наверное, неосторожным перед лицом побежденного противника: он отступал перед завоевателем, но, наверное, будет преследовать беглеца.
Господь отводит свою хранительную длань от Наполеона, и, дабы вмешательство небесных сил в дела человеческие стало на этот раз совершенно очевидным, теперь уже не люди воюют с людьми, а изменяется порядок времен года: снег и мороз прибывают форсированным маршем, и стихии уничтожают армию.
И все же то, что заранее постигло в своей премудрости Провидение, происходит: коль скоро Париж не сумел принести свою цивилизацию в Москву, Москва сама придет за ней в Париж; через два года после пожара своей столицы Александр вступит в нашу.
Однако его пребывание там окажется слишком коротким и его солдаты едва коснутся земли Франции; наше солнце, которое должно было бы озарить им путь, всего лишь ослепит их.
Господь вновь призывает своего избранника, Наполеон возвращается, и гладиатор, все еще истекающий кровью после своей последней битвы, идет к Ватерлоо не сражаться, а подставить под удар свое горло.
И Париж вновь открывает ворота царю и его дикарской армии; на этот раз оккупация задержит на три года на берегах Сены этих людей с Волги и Дона; затем, неся на себе отпечаток новых и странных идей и невнятно произнося незнакомые слова «цивилизация» и «свобода», они скрепя сердце вернутся в свои варварские края, и через восемь лет в Санкт-Петербурге вспыхнет республиканский заговор.
Перелистайте гигантскую книгу прошлого и скажите мне, в какую эпоху вы видели столько колеблющихся тронов и столько убегающих в разные стороны королей; дело в том, что, проявив неосмотрительность, они погребли своего недобитого врага живым, и теперь новоявленный Энкелад сотрясает землю каждый раз, когда он ворочается в своей могиле.
И вот, словно живые доказательства высказанного нами утверждения, что, чем более гений велик, тем более он слеп, с промежутками в девятьсот лет приходят: Цезарь, язычник, подготовивший приход христианства;
Карл Великий, варвар, подготовивший приход цивилизации;
Наполеон, деспот, подготовивший приход свободы.
Поневоле возникает соблазн думать, что это один и тот же человек, появляющийся в определенные эпохи и под разными именами, чтобы исполнять некий единый замысел.
И теперь, когда слово Христово исполнилось, народы двинулись равным шагом к свободе, следуя, правда, друг за другом, но на предельно близком расстоянии[355], и, Франция, что бы ни делали от ее великого имени управлявшие ею мелкие людишки, тем не менее сохранила за собой положение революционного авангарда всех народов.
Лишь два человека, два ребенка могли бы сбить ее с дороги и повести не по тому пути, ибо они олицетворяли собой два принципа, противоположных ее принципу движения вперед:
Наполеон II и Генрих V.
Наполеон II олицетворял принцип деспотизма.
Генрих V – легитимизма.
Однако Бог простер обе свои длани и коснулся ими двух крайних точек Европы, одна из которых – Шён– бруннский дворец, другая – крепость Блай.
И что же, скажите мне, сталось с Генрихом V и Наполеоном II?
Теперь, когда, проявляя бесстрастность, мы сделались немногословными, но точными историками прошлого, с той же математической сдержанностью бросим взгляд на настоящее, и, возможно, нам удастся увидеть в нем какие-нибудь проблески будущего.








