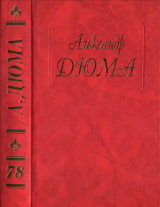
Текст книги "Галлия и Франция. Письма из Санкт-Петербурга"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 52 страниц)
Annotation
Галлия и Франция
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРОЛОГ
ГАЛЛИЯ
ДИНАСТИЯ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ
ГАЛЛИЯ
ПРОЛОГ ЭРМОЛЬДА НИГЕЛЛА
ФРАНЦИЯ
Эпилог
Письма
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
КОММЕНТАРИИ
Пролог
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

Галлия и Франция
Без ненависти, без страха.
ПРЕДИСЛОВИЕ
К РОМАНУ «ГРАФИНЯ СОЛСБЕРИ»
История Франции, благодаря господам Мезре, Велли и Анктилю, приобрела репутацию до такой степени скучной, что в этом отношении она могла бы с успехом соперничать с историей любой другой страны на свете; вот почему исторический роман был совершенно чужд нашей литературе до тех пор, пока до нас не стали доходить шедевры Вальтера Скотта. Я говорю «чужд», ибо не предполагаю, что кто-нибудь всерьез принимает за исторические романы «Осаду Ла-Рошели» г-жи де Жанлис или «Матильду, или Крестовые походы» г-жи Коттен. До того времени нам в действительности были известны лишь пасторальный, нравоописательный, альковный, рыцарский, любовный и сентиментальный романы. «Астрея», «Жиль Блас», «Софа», «Маленький Жан из Сантре», «Манон Леско» и «Амелия Мэнсфилд» стали шедеврами каждого из этих жанров.
Сколь же велико было у нас во Франции удивление, когда после появления «Айвенго», «Кенилвортского замка» и «Ричарда в Палестине» нам пришлось признать превосходство этих романов над нашими. Именно Вальтер Скотт присоединил к интуитивным приемам своих предшественников приобретенные познания, а к пониманию человеческого сердца – знание истории народов; именно он, наделенный интересом к старине, верным взглядом и животворящей силой изображения, сумел своим гением воскресить целую эпоху с ее нравами, интересами и страстями, начиная от свинопаса Гурта и вплоть до Черного Рыцаря Ричарда, начиная от драчуна Майкла Лемборна и вплоть до королевы-цареубийцы Елизаветы, начиная от рыцаря Леопарда и вплоть до придворного медика Салах ад-Дина; короче, под его пером люди и вещи обретают жизнь и место, соответствующие времени, когда они существовали, и читатель, сам того не замечая, оказывается перенесенным в полноценный мир со всей его стройной общественной иерархией и спрашивает себя, уж не спустился ли он при помощи какой-то волшебной лестницы в одно из тех подземных царств, о каких говорится в «Тысяче и одной ночи».
Однако вначале мы не отдавали себе в этом отчета и долгое время полагали, что неведомая нам прежде занимательность, какую мы находим в романах Вальтера Скотта, объясняется тем, что история Англии гораздо богаче разнообразными событиями, чем наша. Мы предпочитали объяснять это превосходство, которое невозможно было отрицать, сцеплением обстоятельств, а не гением человека. Это тешило наше самолюбие и виновником наших неудач в значительной доле делало Господа Бога. Мы еще укрывались за стеной этих доводов и как могли оборонялись под ее защитой, как вдруг вышел в свет «Квентин Дорвард» и проделал брешь в заслоне из наших вялых оправданий. С этого времени приходилось признавать, что и в нашей истории есть романтические и поэтические страницы, а в довершение нашего унижения они были прочитаны нам англичанином и мы узнали о них лишь в переводе с чужого языка.
У нас есть такой недостаток, как тщеславие, но зато, к счастью, нам не присуще упрямство, и если мы побеждены, то открыто признаем свое поражение, пребывая в уверенности, что рано или поздно нам предстоит отыграться и одержать победу. Наша молодежь, которую тяжелые обстоятельства нашего недавнего прошлого подготовили к основательной учебе, со всей страстью принялась за работу; каждый углубился в исторические залежи наших библиотек, отыскивая самую богатую, на его взгляд, золотую жилу; на память пришли Бюшон, Тьерри, Барант, Сисмонди и Гизо с их сокровищами, которые они щедро разбросали по нашим городским площадям, чтобы каждый мог черпать оттуда.
Тотчас же толпа набросилась на бесценную руду, и спустя несколько лет сверх всякой меры появились камзолы, средневековые капюшоны и башмаки с загнутым кверху острым концом; слышался громкий лязг доспехов, шлемов и кинжалов; возникла великая путаница между языками «ойль» и «ок»; наконец, из тиглей наших современных алхимиков вышли на свет «Сен-Мар» и «Собор Парижской Богоматери», два слитка чистого золота на кучу шлака.
В то же время другие попытки, какими бы несовершенными они ни были, дали, по крайней мере, тот результат, что они привили людям вкус к нашей истории; все сочинения, написанные на эту тему, скверные, посредственные и хорошие, были так или иначе прочитаны, и читатели вообразили, что они знают и свои хроники. И тогда все перешли от изучения общей истории к желанию узнать исторические подробности; тотчас же возник огромный заказ на неизданные мемуары; такое направление умов было с ловкостью подмечено уврарами от литературы; каждая эпоха обрела своего Брантома, свою Мотвиль и своего Сен-Симона; все это распродавалось вплоть до последнего экземпляра, совсем не так, как «Мемуары» Наполеона, которые расходились с трудом, ведь они были изданы после сочинений Ла Контан– порен.
Позитивистская школа во всеуслышание заявила, будто все это величайшее несчастье; будто из исторических романов и апокрифических мемуаров нельзя узнать ничего подлинного и основательного; будто они представляют собой ложные, побочные ветви, не принадлежащие ни к одному из литературных жанров, и все, что эти компиляции оставляют в голове у тех, кто их прочитал, служит лишь тому, чтобы создавать неверное представление о людях и событиях, заставляя воспринимать их с ложной точки зрения; к тому же в такого рода книге вниманием читателя всегда завладевают вымышленные персонажи, а потому в памяти у него сохраняется лишь ее романтическая часть. Возражая представителям этой школы, указывают на Вальтера Скотта, который, вне всякого сомнения, с помощью созданных им романов преподал своим соотечественникам больше исторических сведений, чем это сделали Юм, Робертсон и Лингард с помощью своих исторических трудов; они отвечают, что это правда, но ведь у нас не создано ничего, способного сравниться с тем, что создал Вальтер Скотт, и в этом отношении правда на их стороне; и потому они без всякой жалости отсылают нас к прямо хроникам, но вот тут и кроется их ошибка.
Ведь лишь при условии особого изучения языка, на что ни у кого нет времени и что вызывает усталость, выдержать которую хватает духа только у особых людей, можно браться за наши достаточно трудные для чтения хроники, начиная от Виллардуэна и кончая Жуанви– лем, другими словами, с конца двенадцатого века до конца четырнадцатого; а ведь именно на этот период времени приходятся самые значительные царствования нашей третьей королевской династии. Именно в эту эпоху языческий мир Карла Великого сменяется христианским миром Людовика Святого; уходит римская цивилизация, и начинается цивилизация французская; власть вождей уступает место феодализму; на правом берегу Луары формируется язык; с Востока вместе с крестоносцами возвращается искусство; рушатся базилики, возводятся соборы; женщины намечают для себя в обществе то место, какое рано или поздно они в нем займут; народ пробуждается, просвещаясь политически; учреждаются парламенты, основываются школы, и один из королей объявляет, что французы, будучи франками по названию, должны рождаться франками по сути, то есть людьми свободными. Наемный труд сменяет крепостную зависимость, возникает наука, зарождается театр, формируются европейские государства, Англия и Франция отделяются друг от друга, создаются рыцарские ордена, уходят в прошлое ландскнехты, возникают регулярные армии, чужеземное исчезает с национальной почвы, крупные ленные владения и мелкие королевства присоединяются к владениям короны; и наконец, могучее дерево феодализма, принеся все свои плоды, падает под топором Людовика XI, короля-дровосека: это, как видно, и есть крестины Франции, утратившей свое прежнее имя Галлия; это младенчество той эпохи, которая при нас пребывает в своем зрелом возрасте; это хаос, из которого вышел наш мир.
Более того, какими бы красочными ни были повествования Фруассара, Монстреле и Жювеналя дез Юрсена, в совокупности охватывающие еще один промежуток времени длиной около двух столетий, их хроники – это скорее сведенные воедино отрывки, а не завершенный труд, скорее каждодневные заметки, а не погодные записи; это не путеводная нить, позволяющая пройти по лабиринту, не луч солнца, проникающий в темные долины, не дороги, проложенные в девственных лесах; ничто не находится в центре их внимания – ни народ, ни дворянство, ни королевская власть; напротив, все дается порознь, и каждая сюжетная линия приводит в новую точку континента. Читатель беспорядочно скачет из Англии в Испанию, из Испании во Фландрию, из Фландрии в Турцию. За множеством мелких расчетов оказываются скрыты великие интересы, и никому не дано разглядеть в этом непроницаемом мраке светящуюся длань Господню, которая держит бразды правления миром и неуклонно направляет его по пути прогресса; так что человек поверхностный, который прочтет Фруассара, Монстреле и Жювеналя дез Юрсена, сохранит в памяти лишь забавные истории без последствий, события без продолжений и бедствия без причин.
Стало быть, читатель оказывается зажат в пространстве между историей в собственном смысле этого слова, которая представляет собой не что иное, как скучное собрание дат и событий, связанных между собой хронологическим порядком; историческим романом, который, если только он не написан с гениальностью и познаниями Вальтера Скотта, подобен волшебному фонарю, лишенному источника света, цветов и всякой дальности действия; и наконец, подлинными хрониками, источником надежным, глубоким и неиссякаемым, откуда вода, однако, вытекает настолько взбаламученной, что сквозь рябь почти невозможно разглядеть его дно неопытным глазом.
Поскольку у нас всегда было желание посвятить часть своей творческой жизни созданию исторических произведений (речь здесь идет вовсе не о наших драмах), мы сами заперли себя в этом треугольнике, однако основательно размышляли о средстве выйти из него, оставив за собой раскрытую дверь, как только будут последовательно изучены хроники, исторические труды и исторические романы, как только придет осознание, что хроники нужно рассматривать лишь как источник, из которого следует черпать; мы питали надежду, что для нас найдется место между теми, кто не обладает воображением в достаточной степени, и теми, у кого оно имеется в переизбытке; нами владеет убеждение, что даты и перечень событий в их временной последовательности сами по себе не представляют интереса, поскольку их не соединяет никакая живая связь, и что мертвое тело истории не вызывает у нас особого отвращения лишь потому, что те, кто его препарировал, начали с того, что выпустили из него кровь, затем удалили лицевую мышечную ткань, обеспечивающую его узнаваемость, потом мускулы, отвечающие за движение, и наконец, жизненно необходимые органы: в итоге остался скелет, лишенный сердца.
С другой стороны, исторический роман, не обладая способностью воскрешать, ограничивается лишь гальваническими опытами: он по своему усмотрению наряжает труп и, ограничиваясь точностью, принятой у Бабена и Санктуса, сурьмит ему брови, подкрашивает губы, накладывает на щеки румяна, а затем, присоединив мертвое тело к вольтову столбу, заставляет его совершить два-три причудливых прыжка, что придает ему видимость жизни. Те, кто проделывает это, впадают в противоположную крайность: вместо того, чтобы превращать историю в скелет, лишенный сердца, они делают из нее чучело, лишенное скелета.
Главная трудность, по нашему мнению, состоит в том, чтобы уберечься от двух этих ошибок, первая из которых, как уже говорилось, заключается в том, что прошлое иссушивается, как это делает историческая наука, а вторая – в том, что история искажается, как это делает роман.
Единственный способ справиться с этой трудностью, на наш взгляд, таков: как только вы остановили свой выбор на той или другой эпохе, вам следует тщательно изучить различные интересы, которые движут народом, дворянством и королевской властью; выбрать среди главных персонажей этих трех слоев общества тех, кто принял активное участие в событиях, совершавшихся в то время, какое вы намереваетесь описать в своем сочинении; тщательнейшим образом разобраться, каковы были внешность, характер и темперамент этих персонажей, чтобы, заставляя их жить, говорить и действовать в соответствии с этим триединством, можно было бы наблюдать за развитием у них страстей, ставших причинами великих бедствий, даты которых отмечены в анналах истории, и связанных с ними событий, которыми нельзя заинтересовать иначе, как показывая, сколь закономерно они заняли место в хронологических руководствах.
Тот, кто выполнит подобные условия, сумеет обойти оба этих подводных камня, поскольку истина, вновь обретшая тело и душу, будет неукоснительно соблюдена и ни один из вымышленных персонажей не смешается с реальными персонажами, которые, в отличие от них, действуют и в сочиненной драме, и в подлинной истории.
Искусство, таким образом, будет использовано лишь для того, чтобы придерживаться нити, которая, извиваясь по всем трем этажам общества, связывает воедино события, а у воображения будет только одна обязанность – очищать атмосферу, в которой совершаются все эти события, от всякой посторонней дымки, чтобы читатель, пройдя от начала какого-либо царствования и до его конца, мог обернуться и охватить одним взглядом все пространство между двумя этими горизонтами.
Я прекрасно понимаю, что такая задача будет неимоверна трудна и при этом крайне плохо вознаграждена славой, ибо в подобных сочинениях нечего делать фантазии и все созданные в них образы принадлежат Богу. Что же касается того, что повествование может по этой причине утратить занимательность, то, мы уверены, читатель обретет интерес к нему в подлинности описываемых там событий, ибо у него будет твердое убеждение, что герои, по стопам которых он проходит весь их жизненный путь, от их рождения и до их смерти, переживая вместе с ними любовь и ненависть, позор и славу, радости и печали, – вовсе не выдуманные.
Впрочем, это та самая задача, какую мы поставили перед собой еще четыре года тому назад, когда впервые опубликовали в качестве основы подобной системы развернутое введение под названием «Галлия и Франция», содержащее важнейшие события нашей истории, начиная от расселения германцев в Галлии и вплоть до распрей, возникших между Францией и Англией после смерти Карла Красивого. Теперь мы возобновим наш рассказ, избрав на этот раз форму хроники, а не летописи и отказавшись от краткости, присущей хронологическому руководству, в пользу красочности изложения.
Завершим эти рассуждения вспомнившейся нам восточной притчей.
Когда Бог создал землю, ему пришла в голову мысль дать мирозданию владыку, что крайне огорчило наблюдавшего за ним Сатану, который уже полагал землю своей; так что Господь сотворил по своему образу человека, вдохнул в него жизнь, дотронувшись кончиком пальца до его лба, поместил его в раю, поименовал животных, которые должны были ему покоряться, указал ему плоды, которыми он мог питаться, а после этого вознесся, чтобы засеять те тысячи миров, что вращаются в пространстве. Стоило ему удалиться, как тотчас же явился Сатана, чтобы посмотреть на человека поближе; тот же, утомившись, пока его сотворяли, крепко спал.
И тогда Сатана принялся внимательно разглядывать человека во всех подробностях, испытывая злобу, которую совершенство его форм и существующая между ними гармония лишь увеличивали; однако он не мог нанести ему никакого телесного ущерба, ибо за ним наблюдал дух Божий; Сатана уже собирался уйти, отчаявшись завладеть этим телом и погубить эту душу, как вдруг ему вздумалось осторожно простукать пальцем тело человека; добравшись до груди, он услышал гулкий звук пустоты.
– Прекрасно, – промолвил Сатана, – раз там пусто, я вложу туда страсти.
Так вот, именно историю страстей, вложенных Сатаной в эту пустую грудь, мы и намерены предложить нашим читателям.
ПРОЛОГ
Малые размеры места, отведенного нами для пролога, вынуждают нас бросить на первобытные времена лишь один из тех беглых взглядов, какие охватывают явления в целом, но не дают возможности различить отдельные подробности.
Раскрыв иудейские книги, эти древние архивы нарождающегося мира, мы увидим, как первый человеческий род разделился на три ветви, подобные пылающему треугольнику, который символизирует Бога, и, направляемый своими вождями, заложил в трех известных частях света семена будущих народов.
Однако еще до того, как это произошло, с Армянского нагорья, где пристал ковчег, спускается, гонимый проклятием Ноя и сопровождаемый своими одиннадцатью сыновьями, Ханаан, чтобы образовать отдельный народ, первичное ядро, изначальное племя. Он пересекает Иордан, следуя в направлении, противоположном тому, каким впоследствии пойдет Моисей, и не останавливается до тех пор, пока не достигает земли, которая позднее стала называться Палестиной и которой караван изгнанников дал имя своего вождя. Вскоре каждый из братьев встает во главе семьи, каждая из семей образует племя, племена, объединившись, становятся народом, и потомство одного человека распространяется с востока на запад, от реки Иордан до огромного озера, которое мы называем Средиземным морем, а хананеяне, по своему невежеству, именовали Великим морем; и с севера на юг, от горы Ливанской до потока Бесор, или реки Египетской.[1]
Именно там, отделенный от остальных людей горной цепью на севере, рекой – на востоке, потоком – на юге, морем – на западе, отделенный еще до того, как дерзкое предприятие, начатое в Вавилоне, приведет к смешению языков, этот народ сохранит, словно сокровище, за которым два столетия спустя придет сюда Авраам, и изначальное наречие чад Божьих, и первые земли, занятые прародителем людей.
Затем, когда настанет день рассеяния народов и весь свет будет отдан потомкам трех людей, сыновья Хама направятся на юг, оставят по левую руку от себя Красное море, перейдут Нил выше семи рукавов, которыми он впадает в Средиземное море, и под главенством Мицра– има, своего вождя, создадут между Великой пустыней и Аравийским заливом Египетское царство, где спустя пятьсот лет Осимандий построит Фивы, а Ухорей – Мемфис. Их потомки, племена, потемневшие под солнцем Африки, распространятся от Баб-эль-Мандебского пролива до Мавретании, где высятся Атласские горы, и от Суэцкого перешейка до мыса Бурь, где ревут волны, перекатываясь из Атлантического океана в Индийский.
Со своей стороны, потомки Сима разделятся на три колена и направятся на восток, ведомые тремя вождями, словно три рукава одной реки, которые отдаляются друг от друга, выходя из одного источника.
Старший, Арфаксад, создаст по левую сторону от Персидского залива Халдейское царство – особое царство, народ которого однажды станет именовать себя богоизбранным и породит Фарру, от кого родится Авраам.
Второй сын, Елам, перейдет Евфрат и Тигр и по другую сторону безымянного горного хребта создаст у его подножия Эламское царство, память о котором сохранится благодаря великому городу, Персеполю, и великому человеку, Киру.
Третий сын, Ассур, остановится между Месопотамией и Сирией, построит Ниневию и заложит фундаменты Ассирийского царства, где Нимрод-охотник откроет список из тридцати четырех царей, последним из которых будет Сарданапал.
Вот так потомство трех братьев рассеется по земному саду, зовущемуся Азией: оно пройдет через леса, где добывают сандал и мирру, перейдет реки, которые катят по своему руслу коралл и жемчуг, и обнаружит россыпи рубинов, топазов и алмазов, закладывая фундаменты тех чудесных городов, какие будут называться Багдадом, Исфаханом и Кашмиром.
Что же касается потомков Иафета, то они двинутся в сторону пустынных земель и, пробираясь сквозь туманы Запада, распространятся по Европе, на короткое время задержатся в Греции, чтобы построить там Сикион и Аргос, после чего расселятся от Новой Земли до Гибралтарского пролива, от Черного моря до берегов Норвегии, заняв ту часть света, которую евреи, поэтичные в своем невежестве, именовали островами народов в землях их[2].
Затем, как только мир оказался заселен, Господь задумал обучить людей наукам и озарить их светом веры, а чтобы каждый отдельный народ не избежал этого двойного благодеяния, он с помощью завоеваний объединил все народы земли в руках римского исполина.
И вот, чтобы подготовить эту великую эпоху христианства и цивилизации, за пятнадцать столетий до ее наступления, в одно и то же время, содействуя исполнению замысла Господа, Египет покидают: под предводительством Кекропа – колония ученых, которая возведет Афины, колыбель всех наук; под началом Пеласга – армия воинов, потомки которых построят Рим, символ всех завоеваний; в повиновении законам Моисея – толпа рабов, среди потомков которых родится Христос, олицетворение всеобщего равенства.
Затем, торопя свершение божественного замысла, один за другим последуют: в Греции, дабы просвещать, – поэты Гомер и Еврипид, законодатели Ликург и Солон, философы Платон и Сократ, и весь мир будет изучать их сочинения, перенимать их законы, признавать их учения; в Риме, чтобы завоевывать, – Цезарь, полководец и диктатор; его армия пройдет по миру, словно гигантская река, в которую вольются, как горные потоки, четырнадцать народов, образовав общее течение всех своих вод, единый народ из всех своих племен, единый язык из всех своих наречий и выпав из рук завоевателя лишь для того, чтобы образовать в руках Октавиана Августа единую империю из всех своих держав.
Но вот, наконец, настает время, и на краю Иудеи, на востоке, там, где рождается день, на римском горизонте появляется Христос, солнце цивилизации, божественные лучи которого отделят античные времена от нового времени и свет которого будет сиять три века, прежде чем он озарит Константина.
Но, поскольку такая империя слишком велика, чтобы длительное время сохранять равновесие под скипетром одного человека, она выскользнула из рук умирающего Феодосия Великого, раскололась на две части, покатившиеся в разные стороны от его гроба и образовавшие двуединую христианскую империю Востока и Запада, на троны которой взошли Аркадий и Гонорий.
Между тем эти потоки отдельных народов, влившиеся в великую римскую реку, несли с собой больше тины, чем чистой воды: империя, унаследовав науку вошедших в нее народов, унаследовала также и их пороки. В суды проникла продажность, в города – развращенность, в военные лагеря – изнеженность; мужчины исходили пбтом под тяжестью плащей настолько легких, что они развевались на ветру; женщины проводили целые дни в купальнях, а оттуда, набросив покрывало, шли в дома терпимости; солдаты, забыв о латах, спали в раскрашенных шатрах и пили из кубков более тяжелых, чем их мечи. Все стало продажным: совесть гражданина, ласки супруги, служба воина. А ведь народ, для которого богами домашнего очага становятся статуи из золота, уже стоит на пороге гибели.
Юная и чистая мораль Евангелия никак не сочеталась с этим одряхлевшим и продажным миром. Первоначальное племя, дошедшее до святотатства, погибло в водах потопа; новое племя, дошедшее до продажности, должно было очиститься железом и огнем.
И вот внезапно в глубинах неведомых стран, на севере, востоке и юге, грохоча оружием, приходят в движение неисчислимые орды варваров, которые устремляются в западный мир: одни пешие, другие конные, эти на верблюдах, а те на колесницах, запряженных оленями.[3] Реки они преодолевают на своих щитах[4], по морю плывут на ладьях; клинком меча они гонят перед собой целые народы, как пастух гонит стадо деревянным посохом, и сметают их один за другим, как если бы Господь сказал: «Я смешаю земные народы, как ураган мешает земной прах, дабы от их столкновений высекались во всех частях света искры христианской веры, дабы прежние времена и память о них были уничтожены, дабы все кругом сделалось новым».
Тем не менее в подобном разрушении будет определенный порядок, ибо из хаоса возникнет новый мир. Каждый примет участие в этом опустошении, ибо Бог обозначил для каждого ту задачу, какую тот должен исполнить, как хозяин фермы обозначает жнецам поля, которые те должны выкосить.
Вначале Аларих во главе готов проходит через всю Италию, подгоняемый дыханием Иеговы, как корабль – дыханием бури. Он идет вперед. Однако ведет его не собственная воля: его толкает чья-то рука. Он идет вперед. Напрасно какой-то монах бросается ему поперек дороги и пытается остановить его. «То, что ты у меня просишь, не в моей власти, – отвечает ему варвар, – неведомая сила торопит меня разрушить Рим». Вместе со своими воинами он трижды накатывается, словно морской прилив, на Вечный город, беря его в окружение, и трижды отступает, словно отлив. К нему приходят послы, чтобы побудить его снять осаду, и пугают его тем, что ему придется сразиться с силами, численно превосходящими его войско в три раза. «Тем лучше, – говорит жнец человеческих душ, – чем гуще трава, тем легче ее косить!»[5]
Наконец он уступает уговорам и дает обещание уйти, если ему отдадут все золото, все серебро, все драгоценные камни и всех рабов-варваров, какие найдутся в городе.
«Что же ты оставишь жителям?»
«Жизнь!» – отвечает Аларих.
Ему принесли пять тысяч фунтов золота, тридцать тысяч фунтов серебра, четыре тысячи шелковых туник, три тысячи окрашенных пурпуром кож и три тысячи фунтов перца.[6] Римляне, чтобы откупиться, расплавили золотую статую Доблести, которую они именовали воинской добродетелью.[7]
Затем Гейзерих во главе вандалов проходит через всю Африку и движется к Карфагену, где нашли прибежище остатки римского общества; к распутному Карфагену, где мужчины украшали себя венками из цветов и одевались, как женщины, и где, накинув на голову покрывало, эти странные блудницы останавливали прохожих, чтобы предложить им свои противоестественные ласки.[8] Гейзерих подходит к городу, и, в то время как его войско взбирается на крепостные стены, народ заполняет цирк. За стенами лязг оружия, внутри них – шум игр; тут голоса певцов, там крики умирающих; у подножия крепостных стен проклятия тех, кто не может устоять на залитой кровью земле и гибнет в рукопашной схватке; на скамьях амфитеатра песни музыкантов и звуки аккомпанирующих им флейт. Наконец город взят, и Гейзерих лично отдает стражникам приказ открыть ворота цирка.
– Кому? – спрашивают они.
– Властителю земли и моря, – отвечает завоеватель.
Однако вскоре он испытывает потребность нести огонь и меч дальше. Будучи варваром, он не знает, какие народы обитают на земле, но хочет их истребить.
– Куда направляемся, хозяин? – спрашивает его кормчий.
– Куда пошлет Бог!
– С каким народом собираемся воевать?[9]
– С тем, какой хочет наказать Бог.[10]
И вот, наконец, появляется Аттила, которого его миссия призывает в Галлию; каждый раз, когда он устраивает привал, его лагерь занимает пространство, где могут разместиться три обычных города; он ставит в караул у шатра каждого из своих военачальников по одному из пленных царей, а у собственного шатра – одного из своих военачальников; пренебрегая греческой золотой и серебряной посудой, он ест сырое кровоточащее мясо с деревянных тарелок. Он идет вперед, и его войско заполняет придунайские пастбища. Лань указывает ему дорогу через Меотийское болото и тотчас исчезает.[11] Словно бурный поток, проходит он по Восточной империи, оставляя за собой Льва II и Зенона Исавра своими данниками; с пренебрежением проходит через Рим, уже разрушенный Аларихом, и, наконец, ступает на ту землю, какая ныне называется Францией и на какой остались тогда стоять всего два города – Париж и Труа. Каждый день кровь обагряет землю; каждую ночь зарево пожара обагряет небо; детей подвешивают на деревьях за бедренное сухожилие и оставляют живыми на съедение хищным птицам[12]; девушек кладут поперек дорожной колеи и пускают по ним груженые телеги; стариков привязывают к шеям лошадей, и лошади, погоняемые стрекалом, волокут их за собой. Пятьсот сожженных городов отмечают путь царя гуннов, пройденный им по миру; следом за ним тянется пустыня, как если бы она была его данником. Даже трава не будет больше расти там, где прошел конь Аттилы, говорит этот царь-губитель.
Все необычайно у этих посланцев небесной кары: и рождение, и жизнь, и смерть.
Аларих, уже готовый переправиться на Сицилию, умирает в Козенце. И тогда его воины, собрав толпу пленных, отвели воды реки Бузенто, посередине ее обнажившегося русла вырыли для своего предводителя могилу и положили туда под него, вокруг него и поверх него золото, драгоценные камни и дорогие ткани; затем, когда могила была заполнена и засыпана, воды Бузенто вернули в прежнее русло, над гробницей потекла река, а на берегах реки были умерщвлены все, кто принимал участие в погребении, вплоть до последнего раба, с тем чтобы тайну могилы знали только мертвые.[13]
Аттила испускает дух на руках своей молодой жены Ильдико, и гунны остриями мечей делают себе надрезы пониже глаз, чтобы оплакивать своего царя не слезами женщин, а кровью мужчин.[14] Самые знатные из его воинов целый день ходили вокруг его тела, распевая боевые песни; затем, когда настала ночь, труп царя положили в тройной гроб – первый из золота, второй из серебра, а третий из железа – и втайне от всех опустили в могилу, дно которой было устлано знаменами, оружием и драгоценностями, а чтобы людская алчность не осквернила гробницу ради этих несметных богатств, могильщиков сбросили в ту же яму и закопали вместе с погребенным царем.[15]








