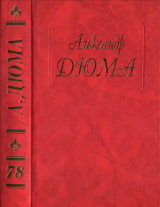
Текст книги "Галлия и Франция. Письма из Санкт-Петербурга"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 52 страниц)
Мы вступали вслед за монархией на каждую из четырех грандиозных ступеней, которые она преодолела и которые обрушивались позади нее, каждый раз указывая ей своим падением, что вернуться назад тем же самым путем невозможно; мы видели, как она шла к нашему времени, опираясь поочередно на двенадцать знатных вассалов Гуго Капета, двести знатных сеньоров Франциска I и пятьдесят тысяч аристократов Людовика XV. И вот сегодня она сделала остановку возле нас, поддерживаемая ста шестьюдесятью тысячами крупных земельных собственников и промышленников, представителем которых, как уже было сказано, является Луи Филипп. А теперь посмотрим, может ли подобное представительство быть достаточным для Франции и должны ли все наши земельные собственники этим довольствоваться.
Мы так не считаем.
Самая верхняя оценка числа землевладельцев, существующих ныне во Франции, составляет пять миллионов, а самая умеренная – четыре с половиной миллиона. Мы примем эту последнюю оценку в качестве нижней.
Среди этих четырех с половиной миллионов землевладельцев набирается в общей сложности сто тринадцать тысяч человек, обладающих имущественным цензом в двести франков и более; владельцы торговых билетов в больших городах, таких, как Париж, Лион, Бордо, Марсель, Нант, Руан и т.д., доводят до ста шестидесяти тысяч число избирателей, включенных в списки 1831 года. Таким образом, крупная промышленность присоединяется к крупной земельной собственности в пропорции один к трем.
Вычтите эти сто тринадцать тысяч из общего числа землевладельцев, равного, как мы только что установили, четырем с половиной миллионам, и останется четыре миллиона триста восемьдесят семь тысяч земельных собственников, лишенных права посылать своих представителей в палату депутатов; тем не менее эти политические парии платят более двух третей всех налогов, тогда как сто тринадцать тысяч привилегированных земельных собственников платят менее одной трети.
Разделим теперь эти сто тринадцать тысяч человек на избираемых и избирателей и получим четырнадцать тысяч лиц с цензом в пятьсот франков и девяносто девять тысяч – с цензом в двести франков.
Таким образом, лишь четырнадцать тысяч человек удостоены права принимать активное участие в управлении государством; девяносто девять тысяч принимают в этом управлении лишь фиктивное участие, посылая людей, которые даже не представляют их, ибо они не являются им ровней, а превосходят их в отношении гражданских прав и имущественного положения.
Среди этих четырнадцати тысяч аристократов земельной собственности, годных к тому, чтобы становиться депутатами и, следовательно, министрами, пэрами, государственными советниками, главными налоговыми сборщиками и префектами, то есть занимать самые лучшие должности, притязать на которые все прочие недостойны и неспособны, примерно семь тысяч, то есть половина, обременены разорительными ипотеками и домогаются депутатства как средства поправить свои расстроенные и скорее номинальные, чем действительные, состояния, продавая свои голоса тем, кто облечен властью.
Таким образом, система государственного управления при Луи Филиппе является в действительности лишь представительством четырнадцати тысяч привилегированных лиц, хотя на первый взгляд кажется, что она опирается на сто шестьдесят тысяч граждан, имеющих избирательный ценз.
И вот тут мы расходимся с республиканскими теориями, предшествовавшими нашей, ибо, вместо того чтобы связывать дух прогресса с пролетариями, мы надеемся обрести его в имущих; дело в том, что в настоящее время имущие составляют чуть ли не большинство во Франции, ведь достаточно только учесть сына, племянника и какого-нибудь наследника каждого из тех, кто входит в число этих четырех с половиной миллионов землевладельцев, и тотчас вы будете располагать девятью миллионами человек, имеющих те же самые интересы и, следовательно, то же самое желание – желание сохранения, желание, о которое разбиваются всякие попытки расхищения, даже если земельная собственность, находящаяся в руках имущих, не будет, как это имеет место теперь, неотчуждаемой, ибо, отделив от оставшихся двадцати миллионов французов женщин, детей и стариков, вы не наберете столько же пролетариев, сколько имеется собственников. Но, повторяем, собственность неотчуждаема, что бы, пытаясь внушить страх и тем самым привлечь на свою сторону, ни говорило своим лживым голосом правительство, которое, обманным путем, как нами доказано, провозгласив себя представителем всех собственников, затем сумело на время внушить имущим, что безопасность их земельных владений заключается исключительно в той защите, какое оно предлагает им против тех, кто, не владея ничем, надеется заполучить землю.
Так что надо всего-навсего успокоить эти страхи, и этого будет достаточно для того, чтобы присоединить к прогрессивному движению земельных собственников, которым сиюминутная нерешительность придает видимость ретроградов и которые, мы уверены, утратят ее сразу же, как только они увидят, что общие интересы подталкивают их вперед и при этом их личные интересы не страдают.
Докажем теперь, что эти страхи беспочвенны.
Если внимательно проследить эту длинную историю Франции, только что прочитанную вами, то можно заметить, что итог каждой очередной революции, картину которой мы разворачивали перед глазами читателя, состоял в том, что земельная собственность дробилась, перемещаясь из рук, в которых она находилась, в руки большего числа людей, причем стоящих все ближе к простому народу: дело в том, что народ, рожденный на земле, один только и имеет право владеть ею, ибо Господь сотворил его ради этой земли, а эту землю ради него; из-за какой-нибудь случайности она вполне может перестать быть его собственностью на какое-то более или менее долгое время, но при этом, до тех пор пока она снова не станет принадлежать ему, гармония будет нарушена; в этом и кроется причина революций, которые кажутся расстройством общественного порядка, тогда как на самом деле являются лишь средством, ведущим, напротив, к восстановлению этого порядка в том виде, в каком он существовал изначально.
Все помнят, что Цезарь превратил Галлию в римскую провинцию, а галлов – в римских граждан; другими словами, от своего присоединения к империи побежденный народ не утратил никаких прав на землю, на которой он жил, и это понятно: римляне захватывали, но не вторгались. Римскому духу было тесно во вселенной, но римскому народу было хорошо в Риме.
Франкское завоевание имело совершенно противоположный характер; ведомые Меровигом племена были насильственно, толчком за толчком, вытеснены из Германии восточными народами, которые спускались с плоскогорий Азии и появление которых под командованием Алариха и Аттилы предстояло увидеть Европе; не жажда воинской славы толкала в сторону Галлии эти вооруженные толпы нищих, двигавшиеся в поисках какого-нибудь королевства, а потребность в крове, способном послужить пристанищем для их отцов, жен и детей; а поскольку к этому времени вся земля была уже занята, они захватили ее у тех, кто был слабее их, выставив предлогом, что те, кто был сильнее их, захватили их собственную землю.
Так что мы видели, как первые короли Франции захватили Галлию и разделили завоеванные земли между своими вождями, ничуть не беспокоясь о том, что они владеют ею по праву сильного.
Мы видели также, что с началом национального противодействия завоеватели переняли интересы французской почвы и выступили против интересов франкской династии; таким образом, они наделили королевство своей национальностью, но, образовав привилегированные касты, сохраняли земли народа.
Людовик XI передал эти земли от знатных вассалов знатным сеньорам, а Ришелье – от знатных сеньоров аристократии, но лишь Конвент передал их от аристократии народу. Только после 93-го года эти земли снова оказались, как и во времена галлов, в руках тех, кто на самом деле имел право обладать ими; но, чтобы это случилось, понадобилось четырнадцать веков и шесть революций; а чтобы все было законно и вопроса о давности владения не стояло, земли следовало выкупать.
И вот ради осуществления этого глубокого замысла, за который те, кто извлек из него наибольшую выгоду, были, возможно, менее всего признательны Конвенту, он пустил в обращение то огромное количество ассигнатов (сорок четыре миллиарда), какое дало народу возможность приобретать землю, ибо стоимость этих обесцененных денег, совершенно искусственная, когда речь шла о любой другой покупке, становилась вполне реальной при покупке недвижимости, которая скорее по наитию, чем осознанно, была названа Конвентом национальным имуществом. Именно благодаря такому приему, способствовавшему, во-первых, упразднению права первородства, а во-вторых, уничтожению майоратов, и произошло это невероятное увеличение земельных собственников, число которых за сорок лет возросло с пятидесяти тысяч до четырех с половиной миллионов.
Таким образом, сегодня владельцы земли могут считать свою собственность неотчуждаемой, а всякую новую революцию невозможной. Да и в самом деле, какую цель могла бы иметь в наше время революция? Ведь теперь, когда все касты, от знатных вассалов до аристократии, уничтожены, раздел земель, которому прежде препятствовали привилегии этих каст, происходит самым естественным образом в среде народа, этой великой и единой семьи, где все люди являются братьями и где все имеют одни и теже права.
Стало быть, земельные собственники, столь влиятельные сами по себе, не нуждаются в искусственной поддержке правительства, которое не представляет их и, получая от них все, тогда как они не получают от него ничего, смертельно опасно для их существования, принимая во внимание кровь, которую оно в виде бюджетных поступлений извлекает из тела нации, чтобы впрыскивать ее в свои собственные жилы. Правительство выполняет в государстве ту же обязанность, какую в человеческом теле выполняет сердце: оно должно возвращать в артерии такое же количество крови, какое артерии ему на время предоставляют; если, судя по пульсу, ее будет хоть на одну каплю меньше, весь механизм окажется расстроенным.
Так что нынешнее правительство падет без какого бы то ни было внешнего толчка, просто благодаря тому, что революционную политику сменит политика целесообразная; оно падет не благодаря усилиям пролетариев, а по воле имущих; оно падет, ибо не представляет никого, кроме аристократии собственности, и зиждется только на ней, а та, ежечасно истребляя себя за счет разделов земель, однажды оставит его без всякой опоры.
И вот как, по всей вероятности, это произойдет.
Избиратели с имущественным цензом в двести франков первыми заметят, что сделанная им уступка избирательного права совершенно обманчива; что второстепенное участие, которое они принимают в управлении государством, не может заставить его отклониться от избранного им направления, даже если это направление противоположно их интересам, поскольку влияние на него таких избирателей является косвенным и осуществляется с помощью депутата, состояние которого, по самой нижней оценке, на три пятых больше, чем у них, а нам прекрасно известно, что только равные нам по имущественному положению понимают наши нужды, ибо испытывают их сами; что только равные нам по общественному положению воспринимают наши интересы, ибо наши интересы являются одновременно и их интересами, и, следовательно, мы должны поручать предвидеть наши нужды и защищать наши интересы только таким людям.
В тот день, когда избиратели убедятся в этой истине – а день этот близок, – они потребуют у депутатов, посылаемых ими в палату, обещания снизить ценз избираемости до двухсот франков, а избирательный ценз – до ста франков; кандидаты дадут такое обещание, чтобы быть избранными, выполнят его, чтобы быть переизбранными, и следствием такого корыстного расчета станет снижение как избирательного ценза, так и ценза избираемости.
И тогда начнется парламентская революция.
Затем, в свою очередь, избиратели с цензом в сто франков заметят, что они представлены избираемыми с цензом в двести франков ничуть не больше, чем те были представлены цензовиками с цензом в пятьсот франков; это открытие приведет к таким же последствиям, такое же требование повлечет за собой такой же результат, и подобным образом ценз будет снижаться, причем в постоянно убывающей прогрессии, до тех пор, пока каждый пролетарий не станет избирателем, а каждый собственник не обретет права быть депутатом.
И тогда парламентская революция завершится.
В итоге сложится правительство, отвечающее нуждам, интересам и желаниям всех; пусть оно называется монархией, президентской или парламентской республикой – это совершенно безразлично, поскольку такое правительство будет всего-навсего магистратурой, причем, вероятно, магистратурой пятилетней, так как пятилетний срок исполнения чиновниками своих обязанностей является той формой правления, которая в наибольшей степени может обеспечить спокойствие населению, ибо те, кто доволен руководящей деятельностью своих уполномоченных, имеют надежду их переизбрать, а те, кто ими недоволен, имеют право отрешить их от должности.
Но при этом, подобно тому, как крупным земельным собственникам с их переходным, временным правительством следовало иметь своего представителя, второразрядные собственники должны, в свой черед, иметь своего; однако тот, кто представлял одних, не сможет представлять других, ибо необходимо, чтобы этот новый представитель был точным образчиком своей эпохи, как Луи Филипп, Людовик XV, Франциск I и Туго Капет были образчиками своего времени. Необходимо, чтобы он был рожден в гуще народа, дабы между ним и народом существовало взаимное сочувствие; необходимо, чтобы его личное состояние не превосходило средний размер состояний других людей, дабы его интересы были сходны с общими интересами; необходимо, наконец, чтобы предоставляемый ему цивильный лист был ограничен издержками на его первоочередные нужды, дабы вырвать из его рук возможность взяточничества, с помощью которого он после избрания своего преемника мог бы содержать партию, не отражающую более волю нации; стало быть, такой человек не может быть ни принцем королевской крови, ни крупным собственником.
Вот бездна, в которой исчезнет скоро нынешнее правительство; маяк, зажженный нами на его пути, осветит лишь его крушение, ибо, даже если бы оно захотело сменить курс, теперь ему уже не удастся сделать это: его увлекает чересчур быстрое течение, его гонит чересчур сильный ветер. Но в час его гибели наши воспоминания – воспоминания человека – возобладают над нашим стоицизмом гражданина и раздастся голос, который крикнет: «Смерть королевской власти, но да спасет Бог короля!»
И это будет мой голос.
Письма
из Санкт-Петербурга
Отправляясь два месяца тому назад в Санкт-Петербург, я дал себе слово написать несколько писем по поводу освобождения крепостных в России.
Со стороны, с теми представлениями, какие мы составили себе о свободе и рабстве, представлениями, основанными на общих принципах и уроках собственной истории, может показаться, да мне и самому так казалось, что нет ничего проще, чем написать эти письма.
Мне понадобилось провести в России два месяца, чтобы прийти к убеждению, что, напротив, нет ничего труднее. И доказательство этого состоит в том, что даже писавшие на данную тему русские, к какой бы партии они ни принадлежали и какого бы оттенка мнений ни придерживались, так и не сумели угодить своим товарищам по партии и своим единомышленникам.
Дело в том, что это вопрос одновременно принципов, предрассудков и материальных интересов; что к нему причастны те, кто выражает идеи, и те, кто их осуществляет; утописты, устремленные в будущее, и реалисты, действующие в настоящем; пресса, поднимающая революции и не видящая при этом цели, к которой они ведут, и государственные деятели, тревожащиеся о путях, которые революциям предстоит пройти, прежде чем достичь этой цели.
По прошествии двух месяцев, побеседовав с людьми, которые подвигнули императора издать закон об освобождении крестьян, и с крепостными, в пользу которых этот закон был издан; с журналистами, которые спровоцировали его появление, и с помещиками, по интересам которых он наносит удар, я счел возможным дать точные сведения о том, какое воздействие он оказывает в настоящее время и каковы будут его последствия в будущем.
Но, поскольку для меня все зиждется на уроках истории, да позволит мне читатель представить ему некоторые рассуждения общего порядка, касающиеся того, как формировалась земельная собственность в Древнем Риме и в средневековой Франции. Эти рассуждения сделают более заметным то различие, какое существует между становлением русского общества и такой же работой, проделанной в Италии и Франции.
Алекс. Дюма.
Санкт-Петербург, 18 августа (1 сентября) 1858 года.
I
Любой основатель города является изгнанником, а вернее сказать, разбойником: Тесей в Греции, Кир в Персии, Ромул в Италии. Норманн Рожер, основатель сицилийской монархии, начал с того, что ограбил конюшни Роберта Гвискара.
И потому любой город начинается с создания убежища.
Вождь-изгнанник набирает себе сторонников среди изгнанников. Он строит крепость, обычно на вершине холма, а ниже крепости располагает убежище; ниже убежища селится народ.
Убежище, созданное Ромулом, находилось между двумя вершинами Капитолийского холма.
Земля, на которой Ромул установил свой шатер, была невозделанной и никому не принадлежала: то был голый холм, у подножия которого с одной стороны простиралось застойное болото, а с другой стороны катила свои илистые воды река.
Голый холм – это Капитолий; застойное болото – это Велабр; илистая река – это Тибр.
Ромул запрягает осла, лошадь и корову, намечает бороздой границы города и принимается за самое неотложное для изгнанника дело: он устраивает земляное укрепление.
Лагерь, окруженный этим укреплением, – это зачаток Рима.
Имя Рим происходит от слова гита – «сосцы», сосцы волчицы. Рим навсегда сохранит терпкий привкус молока, которым был вскормлен его основатель.
Этот основатель торопится установить в городе иерархию в соответствии с тем, кто какое положение занимал в его разбойничьей шайке.
Он делит своих подданных на патрициев и плебеев: патриции – это офицеры, плебеи – это рядовые солдаты.
В городе будет триста сенаторов: это командиры, и триста всадников: это заместители командиров.
Остальные будут рядовыми гражданами; но всем известно, кем со временем станет римский гражданин.
Этому народу-воину недостает женщин, и он добывает их, похищая. Вследствие браков появляется население, которому недостает жизненного пространства, но война даст земли и рабов, чтобы обрабатывать эти захваченные земли, пока воины будут захватывать новые.
Вспомните: «Уае уrehs» – «Горе побежденным».
Да, горе побежденным! Их земли сделаются придатками владений Рима, а сами они станут рабами римлян.
И вот тогда начинается трудное, беспрерывное, упорное дело завоевания мира.
Одно лишь завоевание Лация длилось два века, но оно незначительно изменило условия жизни римлян.
Завоеванное обычно делилось на три части: доля богов, доля завоевателей и доля республики.
Народу удалось заполучить кое-где клочки удаленных от Рима земель, которым могло угрожать мщение со стороны побежденных, если бы однажды сами эти побежденные стали победителями.
Патриции же, напротив, получили в удел земли, окружавшие померий, то есть привилегированные земли, защищенные самой близостью Рима и простиравшиеся на пять-шесть миль от города; священную границу, которую, мне думается, Страбон обнаружил в свое время в местности под названием Фесты и которая обеспечивала собственникам владений по эту ее сторону право авгуров, основу всех прочих прав.
Эти исконные земельные владения были разделены сперва между тремя трибами, именуемыми тициями, рамнами и луцерами: тиции – по имени Тация, рамны – Ромула, луцеры – Лукумона. Разъяснение последнего из этих названий дает Юний.
Волумний, автор трагедий, говорит, что эти три трибы собирательно назывались этрусскими трибами.
Они соответствовали, на самом деле, трем главным богам этрусков и трем священным воротам города.
Этим исконным земельным владениям никогда не угрожили ни Гракхи, ни Катилина, ни Цезарь – эти великие социалисты древности.
Мы скажем вскоре, на какие земли они хотели наложить руку, но не для себя, а для народа.
«Рим, свободный со времени своего возникновения, – говорит Флор, – вначале вел войны, чтобы защитить свою свободу; затем, чтобы сохранить свои границы; потом, чтобы поддержать своих союзников, а в конце концов, чтобы увеличить свою славу и упрочить свою власть».[356]
В этом исконном Риме присутствовало два начала: начало героическое и аристократическое, которое первое время брало верх над началом демократическим и против которого вспыхнуло восстание на Авентинском холме; начало простонародное и демократическое, которое возобладало с падением Тарквиния Гордого и обеспечило равенство прав посредством учреждения должности трибунов.
Две эти партии действовали в противоположных направлениях: одна – по расчету, другая – по наитию.
Действуя по расчету, представители героического и аристократического начала стремились к обособленности, сплоченности и национальной исключительности; действуя по наитию, представители простонародного и демократического начала стремились к войнам, расширению территории и собиранию земель. Они прекрасно понимали, что их сила состоит не в уме отдельных личностей, а в их числе.
Не будь плебеев, Рим никогда бы не завоевал и не принял в свою семью весь мир; не будь патрициев, он никогда не имел бы своего собственного характера, своего самобытного уклада жизни: он не был бы Римом, он был бы Италией.
Причиной первого столкновения двух этих начал стала земля.
Народ, имевший право гражданства и живший в городе, задался вопросом, почему он не имеет земель вблизи города.
И он бросает жадные взгляды нааbеr rоtаnub[357], выверенные авгурами и ограниченные гробницами знати.
Ему предлагают завоеванные земли в Анции. Но он отказывается от них.
«Народ, — говорит Тит Ливий, – предпочитает требовать земли в Риме, а не владеть ими в Анции».
Мы располагаем первым в истории человечества памятником права: это законы Двенадцати таблиц.
В них хотели увидеть свод законов, но сумели распознать лишь три реальные составные части: Г) древние обычаи жреческой Италии, 2°) права героической аристократии, берущей вначале верх над плебеями, 3“) и, наконец, нечто вроде уложения, а вернее, если только это слово не чересчур современно, – конституцию, которую плебеям удалось в итоге вырвать у патрициев.
Попробуем понять, что же такое древнее италийское право, насколько оно было сурово и непререкаемо. К тому же, мы обнаружим здесь определенное сходство с тем вопросом, какой занимает в настоящее время Россию.
В римском праве благородные чувства занимают всего лишь второстепенное место; над всем преобладает отцовская и мужнина власть: это патриархальный закон.
О натуральной семье речи в нем почти нет: в центре его внимания исключительно семья общественная.
Каменная плита домашнего очага и могильный камень, ограничивающий поле, – вот два камня, на которых зиждется италийское право.
Когда мы дойдем до России, вы увидите, какую роль в происходящем там общественном перевороте предстоит играть камню домашнего очага.
У города, как и у семьи, тоже есть свой камень домашнего очага и свой могильный камень, но только большего масштаба.
Каждый из этих камней служит пьедесталом для божества: могильный камень – для лара, духа-покровителя, молчаливого духа прежних хозяев, божества предков, божества мертвых; камень домашнего очага – для отца семейства, нынешнего хозяина, беспокойного духа дома, живого божества; божества мрачного, сурового, обладающего полной властью над женой и детьми; духа дикого и одинокого, имеющего право решать, кому из тех, кто его окружает, жить, а кому умереть.
Для отца семейства дети, жена и рабы совсем не то, чем являются жены, дети и слуги для нас: это тела, которые можно бить; это вещи, которые можно продать; это живые существа, которые можно уничтожить. Вспомните Брута, приговаривающего к смерти своих сыновей за то, что они замышляли заговор против республики; вспомните Виргиния, убивающего кинжалом свою дочь, чтобы вырвать ее из рук Аппия.
Женщина подвергается точно такому же деспотизму.
Три обстоятельства превращают ее в собственность мужа: если он купил ее у отца; если она откусила кусок жертвенного пирога; если волосы у нее на голове разделили на пробор острием дротика.
Вместо того чтобы сказать ей, как говорят у нас: «Жена должна слушаться своего мужа, а муж должен защищать свою жену», ей говорят всего лишь пять слов: «Ubi tu Gaius, ego Gaia», которые она повторяет и которые означают: «Где ты Гай, там я Гайя». Затем ее поднимают и на руках, не дав ей ступить на него, переносят через порог супружеского дома, где она попадает in manum viri, то есть в руки мужа.
С этого момента муж, купивший ее у отца, обладает всеми правами отца: купив ее, он может ее перепродать, как лошадь, как раба.
«Продай свою лошадь и своего раба, когда они состарятся, — говорит Катон, – иначе они умрут прямо у тебя и ты не выручишь за них ничего».
Супруг может убить свою жену, и даже не потому, что она была ему неверна: достаточно и того, что она выкрала ключи или выпила глоток вина.
Что же касается сына, то отец имеет право трижды продать его; должности, которые тот займет в республике, не избавят его от рабства: если это трибун, отец сорвет сына с его сиденья, сенатор – с его курульного кресла, диктатор – с его трона; он приведет его обратно в дом и там, если ему заблагорассудится, заколет его кинжалом у алтаря отеческих лар.
После сыновей и жены шли клиенты, колоны, рабы.
Клиенты – это бедняки, люди мелкие и бессильные, пристроившиеся к какому-нибудь могущественному семейству; колоны – переселенцы, добровольные или вынужденные, перевезенные из одного края в другой; рабы – это пленники, захваченные во время войн и проданные республикой.
«Все эти люди, — говорит Нибур (не забывайте эти его слова, когда вскоре будете читать указ императора Александра II), – получали от своего хозяина землю, чтобы построиться на ней, и два акра пахотной земли».
Ромул определил каждому гражданину первоначальный земельный надел в два югера, то есть в полгектара.
Сын, жена, клиенты, колоны, рабы – все это принадлежит отцу, все это именуется фамилией и все это, в конечном счете, имеет лишь одно название: род. Это род Корнелиев, род Клавдиев, род Фабиев. Фабии утверждали, что происходят от Геркулеса и Эвандра; они одни выставили триста шесть членов своего рода, которые за четыреста семьдесят семь лет до Рождества Христова пошли войной против вейян и, разгромив их в нескольких сражениях, все до единого погибли затем в сражении у Кремеры. И все они, как вы прекрасно понимаете, – аристократы, богачи, патриции, те, кому принадлежит священное поле, кто имеет jus quiritium (право римского гражданства) и mancipatio (право силой завладеть собственностью).
Что же касается народа, то он остается беден, страдает и трудится. Этрусские цари используют его на строительстве своих циклопических сооружений, образчиком которых служит Большая Клоака; они дают ему средства к существованию, но при этом тяжело угнетают его, и потому народ способствует их падению. Однако, когда этрусские цари пали, большие строительные работы прекратились и народ стал умирать от голода.
В зарождающихся обществах, где промышленность еще не создана, богач никогда не нуждается в бедняках; зачем в Риме, к примеру, заставлять их работать? Зачем платить жалованье народу? Разве нет рабов, которые трудятся бесплатно?
Что же следует из подобного обстоятельства? То, что богатые и бедные, запертые в стенах одного и того же города, вполне естественно становятся врагами. У богача только один интерес – сделаться еще богаче, и, богатея, он делает бедняка еще беднее, ибо вот каким образом он богатеет.
Сломленный криками собственных детей, которые просят у него хлеба, бедняк стучится в дверь к богачу и просит дать ему взаймы денег под залог поля, если у него еще осталось поле, или дома, если у него еще остался дом; богач дает ему ссуду под двенадцать процентов годовых, что было законной процентной ставкой в Риме; какой бы незначительной ни была одолженная сумма, бедняк не может вернуть ее в срок, и тогда его дом и его поле переходят в собственность заимодавца, а поскольку раб, его жена и его дети так или иначе кормятся у богача, бедняк, чтобы у него самого, у его жены и у его детей была еда, продает себя.
Если же он не продает себя, если он начинает жаловаться, то вот что по этому поводу говорит закон:
«Пусть поручителем за имеющего свое хозяйство будет только тот, кто имеет свое хозяйство, а поручителем за неимущего кто угодно; пусть должнику после признания им долга и вынесения судебного решения будут даны тридцать льготных дней. Если осужденный не выполнил судебного решения и никто за него не поручился, то пусть кредитор уведет его к себе и наложит на него колодки или оковы весом в пятнадцать фунтов».
Вам кажется, что это жестоко, не так ли? Слушайте дальше:
«Если должник не улаживает долги, держать его в оковах шестьдесят дней; в течение этого срока трижды приводить его в базарные дни в суд и там громогласно объявлять сумму взыскиваемого с него долга».
Хорошо еще, если этот бедняга должен лишь одному человеку, ибо, если он должен нескольким кредиторам, то вот что с ним произойдет:
«На третий базарный день, если кредиторов несколько, пусть они разрубят должника на части».
Но как они смогут разрубить этого несчастного на равные части?
Это предусмотрено, и кредиторов, будьте покойны, оберегает закон:
«Если они отсекут больше или меньше, то пусть это не будет вменено им в вину; если же они пожелают, то могут продать его на торгах за границу, за Тибр».
Как видите, Шекспир, этот варвар, как называет его Вольтер, ничего не придумал в своем «Шейлоке». Он просто все взял из законов Двенадцати таблиц.
Так вот, Валерий Публикола (Публикола означает «Друг народа») провел перепись этого народа, к которому он питал любовь; оказалось, что в 509 году до Рождества Христова в Риме было сто тридцать тысяч мужчин, способных носить оружие[358], то есть все население города составляло около семисот тысяч душ, не считая вольноотпущенников и рабов.








