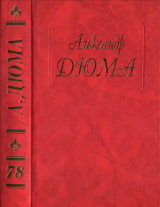
Текст книги "Галлия и Франция. Письма из Санкт-Петербурга"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 52 страниц)
И тогда взору открылось удивительное зрелище: зрелище войска, намеревавшегося завоевать народ, и герцога, намеревавшегося сорвать корону с головы короля. Без сомнения, какое-то время и народ, и король думали, что им привиделся сон, и не верили в реальность происходящего: народ – до тех пор, пока его не завоевали; король – до тех пор, пока он не увидел себя распростертым и умирающим на поле битвы при Гастингсе.
Восьмичасовой битвы оказалось достаточно; одно сражение – и все решилось. Правда, в этом сражении погибло шестьдесят восемь тысяч человек.
Вильгельм взошел на трон Гарольда, сменив свое прозвище «Незаконнорожденный» на прозвище «Завоеватель»; и юный король Франции, приняв королевство из рук своего регента Бодуэна, со страхом узнал, что у него есть вассал-король, куда более могущественный, чем он сам. То был бессознательный страх, то было предчувствие беды, которым спустя восемнадцать лет предстояло найти подтверждение в первых губительных последствиях войны между двумя сестрами, сестрами слишком красивыми, слишком ревнивыми и слишком близкими, чтобы оставаться подругами, – между Францией и Англией; войны, порожденной шуткой[199] и продолжавшейся затем восемь веков; войны нещадной, какими и должны быть семейные войны; бесконечной череды битв, прерываемой порой перемириями, но никогда – миром; схватки, в которой Франция, подобно Антею, всегда встает на ноги, но делает это она всякий раз после того, как касается земли.
Перейдем теперь к крестовым походам и причинам, которые их вызвали.
Пока в Африке превосходством обладали персы и египтяне, христиане, хотя и подвергаясь притеснениям, все же могли еще достаточно свободно отправлять свой культ. Однако после захвата Иерусалима в 1076 году Алп– Арсланом, вторым султаном турок[200], преследования стали для жителей святого города тем более невыносимыми, что победа неверных над Романом Диогеном, императором Константинополя, лишила горожан всякой надежды когда-либо вернуть себе утраченную свободу.
«С того времени горожане, — сообщает Вильгельм Тирский, – не знали более покоя ни у себя дома, ни вне его; смерть угрожала им каждый день и каждую минуту. И, что было хуже всякой смерти, они были раздавлены бременем угнетения: для завоевателей не было ничего святого, даже церкви, бережно сохраненные и восстановленные, подвергались самым яростным нападениям. Во время богослужений неверные, сея ужас среди христиан, издавая неистовые вопли и угрожая всем смертью, безнаказанно врывались в церкви, усаживались на алтарях, не отличая одного места от другого, опрокидывали потиры, попирали ногами священные сосуды, разбивали мраморные плиты, осыпали священников оскорблениями и побоями. Даже с самим патриархом они обращались, как с презренной тварью; его скидывали с кресла, бросали на землю и таскали за бороду и за волосы. Зачастую его хватали и повергали в тюремную камеру, причем без всякого повода, словно невольника; все это делалось для того, чтобы удручить народ страданиями его пастыря».
Тем не менее все эти гонения, вместо того чтобы остановить паломников, посещавших Гроб Господень, казалось, удвоили их число: чем большей опасности подвергались те, кто исполнял обет паломничества к святым местам, тем большего заслуживало в глазах Господа исполнение этого обета. Основную часть этих верующих составляли греки, латиняне и, в небольшом количестве, норманны. Они прибывали к воротам Иерусалима, испытав тысячи опасностей, ограбленные варварскими племенами, через земли которых им приходилось идти, полу– нагие, изнуренные усталостью и умирающие от голода; прибыв же туда, они не могли войти в город, не уплатив таможенным досмотрщикам золотой монеты, вымогаемой под видом сбора. Несчастные, которые не были в состоянии выполнить это требование, а таких оказывалось великое множество, тысячами скапливались в окрестностях города, еще более жалкие, чем прежде, доведенные до полной наготы и опалявшиеся на солнце, и в конце концов умирали от голода и жажды. И мертвые, и живые были в равной степени в тягость жителям города, ибо мертвых требовалось хоронить, а живым нужно было помогать, отказывая себе во всем.
Однажды в толпе таких страдальцев появился священник. Он прошел через тысячи опасностей, но ему удалось их избежать; он перенес тысячи тягот, но, казалось, они никак его не затронули, хотя это был человек крайне тщедушного телосложения и в его облике нельзя было разглядеть ничего, кроме убогости. Пройдя через толпу умирающих, он подошел к воротам города и в ответ на вопрос, как его имя и откуда он родом, сказал, что зовут его Петр, что земляки дали ему прозвище Пустынник и что родился он в Амьенском епископстве во Французском королевстве. У него потребовали обычную плату за вход, он дал золотой и вступил в город.
Это был человек, наделенный пылкой верой, одержимый пламенной страстью – страстью, устремленной на достижение небесных целей, подобно тому, как у других она бывает направлена на достижение целей земных. И вот, при виде несчастий и гонений, одолевавших христиан, он замыслил великий план.
Завершив поклонение всем святым местам, он добивается того, чтобы Симеон, патриарх Иерусалимский, дал ему письмо, в котором была воспроизведена точная картина бед, испытываемых верующими, и настаивает на том, чтобы оно было скреплено печатью, что должно было придать ему характер подлинности, затем получает благословение патриарха, берет в руки посох, выходит из города и направляется в гавань Яффы, находит там корабль, готовый отплыть в Апулию, садится на него, сходит на берег в Генуе, добирается до Парижа, идет в Рим, предстает перед папой Урбаном II, вручает ему письмо патриарха Иерусалимского, рассказывает ему о страданиях верующих, о гнусностях, совершаемых в святых местах нечестивыми мусульманами, и, таким образом, со всем пылом надежды и веры исполняет, наконец, свою миссию.[201]
Святой отец был тронут доверием, какое христиане Востока питали к своим братьям на Западе. Ему вспомнились слова, написанные в Книге Товита:
«Иерусалим, город святый!.. Многие народы издалека придут к имени Господа Бога с дарами в руках, с дарами Царю Небесному; роды родов восхвалят тебя с восклицаниями радостными. Прокляты все ненавидящие тебя, благословенны будут вовек все любящие тебя!»[202]
И потому он решил призвать к оружию всех правоверных государей, чтобы освободить с их помощью Гроб Господень.
В соответствии с этим решением он переходит через Альпы, спускается в Галлию, останавливается в Клермоне, созывает там церковный собор и, сопровождаемый Петром, в назначенный час входит в зал, где собрались триста семьдесят епископов, приехавших из всех епархий Италии, Германии и Франции.
Речь, с которой он обратился к ним, была простой, выразительной и краткой: это была картина бед, от которых страдали их братья на Востоке, бед, предсказанных святым царем Давидом и святым пророком Иеремией.[203]Она была наполнена ссылками на священные книги, подтверждающими, что Господь возлюбил Иерусалим превыше всех городов[204]; она содержала произнесенное над Агарью проклятие, свидетельствовавшее о том, что сарацины, именуемые в те времена «агарянами», или «исмаильтянами», сыны Агари и Исмаила, тоже прокляты[205] и, следовательно, будут побеждены.
Эта речь, взывавшая к воинственным и религиозным настроениям в обществе, то есть двум главнейшим потребностям того времени, произвела необычайное и быстрое действие. Каждый из епископов, следуя открывшемуся перед ним пути, вернулся в свою епархию, сея повсюду призывы к войне и повторяя вслед за апостолом Матфеем: «Не мир пришел я принести, но меч»[206].
И в самом деле, муж разлучился с женой, а жена – с мужем; отец – с сыном, а сын – с отцом. Никакие узы не были достаточно прочными, никакая любовь – достаточно сильной, никакая опасность – достаточно великой, чтобы остановить тех, кого поднимало, словно волны на море, слово Господне. Однако религиозное рвение не было единственной побудительной причиной к созданию этого огромного союза. Одни присоединились к крестоносцам, чтобы не разлучаться с друзьями, другие – чтобы не казаться трусами или лентяями; эти – чтобы сбежать от заимодавцев, те – по чистому легкомыслию, в силу своего авантюрного характера, из любви к новым местам и новым впечатлениям.[207] Но что бы их ни подталкивало к этому, все они поднимались с места и шли на великую встречу западных народов, восклицая: «Такова воля Господня! Такова воля Господня!»
Герои этого первого крестового похода собрались весной 1096 года. Среди предводителей крестоносцев самыми влиятельными были сеньоры, которых мы сейчас назовем:
Туго Великий, брат короля Филиппа, всегда и всюду оказывавшийся первым: он переплыл море и высадился в Диррахии вместе с франками, которыми он командовал;
Боэмунд Апулийский, сын Роберта ТЪискара, норманн по происхождению; он вместе со своими итальянцами двинулся тем же самым путем;
Готфрид Бульонский, герцог Нижней Лотарингии; он вместе с многочисленным отрядом пересек Венгрию, прибыл в Святой город и, освободив его от неверных, стал его королем;
Раймунд, граф Тулузский, ведя за собой войско, целиком состоявшее из готов и гасконцев, прошел через Славонию;
Роберт, сын английского короля Вильгельма, с множеством норманнов двинулся через Далмацию;
и, наконец, Петр Пустынник и рыцарь Вальтер Голяк, ведя за собой огромное войско, состоявшее из отрядов пеших воинов, проследовали через Германское королевство и вступили в Венгрию.[208]
И в самом деле, если верить современным авторам, число участников первого крестового похода превышало шесть миллионов человек.
Так что теперь Европа хлынула в Азию, как некогда Азия хлынула в Европу.
Пришедшие в движение магометанские народы вышли из Аравии, по пути захватили Сирию и Египет, проследовали по побережью Африки, перешагнули через Средиземное море, словно через ручей, взобрались на Пиренеи, словно на пригорок, затем, наконец, ринулись в Прованс, но, как мы уже говорили, их наступательный порыв угас между Туром и Пуатье, где ему нанес смертельный удар меч Карла Мартелла.
В свою очередь христианские народы, совершая ответное мщение и начав движение в том месте, где остановилось наступление сарацинских народов, двинулись с запада на восток, проследовали через Европу по противоположному берегу того же самого моря, переправились через Босфор и напали на сынов Пророка в том самом месте, откуда те вышли, чтобы напасть на приверженцев Христа.[209]
Оставим теперь крестоносцев возле Никеи, подобно тому, как завоевателей Англии мы оставили на поле битвы при Гастингсе, и вернемся во Францию.
Как только национальная партия одержала победу, заменив династию Капетингов династией Каролингов, народ, на протяжении уже шести веков пребывавший в порабощении, подумал, что, коль скоро сеньоры имели право избавиться от своих королей, то и он, в свой черед, имеет право освободиться от своих сеньоров; и стоило этой мысли прийти в людские головы, как она их уже не покидала.
Камбре стал первым городом, который перешел от мысли к ее осуществлению: он решил сделаться коммуной.
Вот что такое коммуна. Гвиберт Ножанский, писатель двенадцатого века, рассказывает нам об этом в истории собственной жизни.
«И вот, – говорит он, – что понимают под этим новым омерзительным словом. Оно означает, что крепостные будут только раз в году выплачивать оброк, который им полагается платить своим хозяевам, а если они совершат какой-нибудь проступок, им можно будет отделаться штрафом, установленным законом; что же касается прочих денежных податей, обычно налагаемых на крепостных, то они вообще будут отменены».[210]
Нам не удастся дать лучшего объяснения слову «коммуна», чем то, какое в своем святом негодовании приводит достопочтенный аббат.
Так вот, в 957 году, то есть через шестьдесят лет после того, как национальная партия проявила себя во Франции, избрав королем Эда в ущерб правам Карла Простоватого, жители города Камбре, воспользовавшись отлучкой своего епископа, уже пытались учредить у себя коммуну.[211] Вернувшись после своего пребывания при императорском дворе, епископ обнаружил ворота города закрытыми и не смог в него проникнуть. Он обратился за помощью против своих крепостных к тому, у кого короли просили помощи против своих сеньоров. Император предоставил ему войско, состоявшее из немцев и фламандцев, и с ним епископ подошел к стенам мятежного города. При виде этого вражеского войска горожан охватил страх, они упразднили свое объединение и открыли ворота епископу.[212]
И тогда началось ужасающее мщение. Епископ, взбешенный и униженный тем, что принадлежавший ему город отказывался впустить его, приказал войскам, следовавшим за ним, избавить его от бунтовщиков. Так что заговорщиков хватали даже в церквах и святых местах; когда же солдатам надоедало убивать, они ограничивались тем, что брали мятежников в плен, но при этом отрубали им руки и ноги, выкалывали глаза или же препровождали пленников к палачу, который клеймил им лоб каленым железом.[213]
Эта расправа произвела результат, противоположный тому, какой ожидал епископ. Вместо того чтобы задушить страхом зачатки бунта, жившие в сердцах жителей Камбре, она усилила их желание как можно скорее избавиться от этого жестокого господства. И потому в 1024 году была предпринята новая попытка освободиться, за которой последовала новая расправа со стороны церковников, как всегда поддержанная императорской властью. Сорок лет спустя горожане еще раз взялись за оружие, но целых три армии, одна из которых опять-таки принадлежала императору, еще раз вырвали это оружие из их рук.[214] Наконец, воспользовавшись смутами, последовавшими за отлучением от Церкви Генриха IV Германского и вынудившими императора заняться исключительно собственными делами, жители Камбре при поддержке графа Фландрского в третий раз провозгласили коммуну, уничтоженную снова в 1107 году, но вскоре восстановленную на столь прочных и разумных основах, что ей предстояло послужить образцом для других городов, которые, обретая по отдельности и один за другим свободу, готовили тем самым освобождение всей Франции.
Права, обретенные жителями Камбре в долгой, кровавой, смертельной борьбе с церковными властями, составляли столь странный контраст с подчиненным положением других городов, что авторы того времени воспринимали основное законоположение этого города как нечто чудовищное.
«Что сказать, — восклицает один из них, – о свободе этого города, если ни епископ, ни император не имеют права взимать там налоги и оттуда нельзя получить никакую дань, и никакое ополчение не может выйти за пределы городских стен, если только это не делается для защиты самой коммуны!»[215]
Тем самым этот автор обрисовал права, утраченные церковниками; а вот те права, какие возникли у населения города: горожане Камбре учредили в своем городе коммуну; они избирали из своей среды, путем голосования, восемьдесят городских советников;
эти советники обязаны были ежедневно заседать в ратуше, являвшейся и зданием суда;
распорядительные и судейские обязанности распределялись между ними;
каждый из городских советников обязан был содержать за свой счет слугу и верховую лошадь, чтобы в любую минуту быть готовым незамедлительно отправиться в любое место, где его присутствие становилось необходимым для исполнения им своих служебных обязанностей.
Как видно, это была подлинная попытка создать орган народной власти, заброшенный, словно одинокий боец, в феодальную Францию. И потому писатели двенадцатого и тринадцатого веков именуют эти города, получившие свободу или стремящиеся освободиться, то республикой[216], то коммуной.
Вскоре примеру Камбре последовал город Нуайон, но с меньшими трудностями. Его епископ, Бодри де Саршенвиль (из его воспоминаний нами почерпнуты латинские цитаты, которыми мы подкрепляем наш рассказ о революции в Камбре) был человек просвещенный, здравомыслящий и проницательный: он понимал, что у него на глазах родился новый порядок вещей, что ребенок уже чересчур силен и задушить его не удастся и что лучше опережать неизбежное, чем ждать, когда оно придет, и затем покоряться ему. И вот в 1108 году, за несколько дней до начала царствования Людовика Толстого, он созвал по своему собственному почину всех обитателей города, которые уже давно хотели учредить коммуну и начали вести споры по этому вопросу с духовенством архиепископства, и предложил этому собранию, состоявшему из ремесленников, торговцев, духовных лиц и даже дворян, проект хартии, которая позволяла горожанам объединяться в союз, предоставляла им право избирать городских советников, обеспечивала им безусловное право собственности на их имущество и делала их подсудными лишь своим городским властям. Как видно, предложенный проект давал больше свободы, чем это происходит в наше время, когда нынешний муниципальный совет хоть и имеет определенное сходство с прежними городскими правлениями, но возглавляется мэром, которого назначает король.
Само собой разумеется, эта хартия была встречена ликованием, и ей с воодушевлением присягнули. По восшествии на трон Людовик Толстый был призван подкрепить ее своим одобрением, ибо Нуайон находился в той части Пикардии, которая подчинялась королю Франции.
Эти последние строки выделены нами, ибо, следуя нити нашего повествования и предвосхищая царствование Людовика Толстого, мы полагаем, что для нас настало время опровергнуть широко распространенное убеждение, приписывающее честь освобождения коммун этому королю.
Коммуны, как мы это уже видели на примере Камбре и Нуайона и как мы это вскоре увидим на примере Лана, обрели вольность благодаря собственному духу свободы и отстаивали эту вольность своими собственными силами. И одобрение этого освобождения, полученное со стороны епископа или короля, в тех случаях, когда епископ зависел от него, было всего лишь простым формальным подтверждением, без которого, строго говоря, коммуны вполне могли обойтись и которое король, епископы и сеньоры желали из корыстных соображений поставить себе в заслугу в глазах освободившихся горожан, не имея сил вернуть их с помощью оружия в прежнее подневольное состояние. Вот почему история, льстивая, точно придворный, и хартия Людовика XVIII, лживая, точно история, тщетно стараются отнести к эпохе Людовика Толстого замысел освобождения коммун, еще за сто шестьдесят лет до нее бродивший в сердцах жителей ряда наших городов.
И в самом деле, помимо тех двух коммун, какие Людовик Толстый застал уже вполне сложившимися, когда в 1108 году он взошел на престол, существовали еще две, основанные в 1102 году. Это была коммуна города Бове, возникшая стихийно, по воле народа, что подтверждается письмами Ивона[217], и коммуна Сен-Кантена, чья хартия была дарована этому городу Раулем, графом Вермандуа[218], который, будучи могущественным сеньором, даже не счел уместным получать одобрение совершенной им уступки у царствовавшего тогда Филиппа I.
Что же касается истории Ланской коммуны, то она появилась уже в царствование Людовика Толстого, и нам еще представится случай поговорить о ней, когда мы будем подводить итоги его правления. В данную минуту для нас важно лишь удостоверить с помощью точных дат, что в то время, когда этот государь, которому приписывают честь всеобщего освобождения коммун, взошел на французский трон, четыре коммуны, расположенные невдалеке от Парижа, уже существовали.
Теперь, когда мы рассмотрели одно за другим три важнейших события царствования Филиппа 1—1) завоевание Англии нормандцами, 2) первый крестовый поход, 3) освобождение коммун, – нам остается лишь доказать то, что мы сказали выше о влиянии двух первых событий на третье.
Напомним, что, рассказывая о договоре, в соответствии с которым Карл Простоватый отдал Нормандию и Бретань предводителю датчан, мы уже пытались доказать, что истинная причина, побудившая короля уступить две эти прекраснейшие провинции, состояла в его заинтересованности обеспечить себе внутри самой Франции поддержку со стороны герцога Нормандии и Бретани на тот случай, если он не найдет ее у императора, в своей борьбе с национальной партией, которая желала ниспровергнуть Каролингскую династию и во главе которой стояли такие люди, как Роберт, Гуго Великий и Герберт, граф Вермандуа.
Мы видели также, как, вопреки ожиданиям Карла Простоватого, герцоги Нормандии, в соответствии с тем, что они полагали отвечающим их интересам, готовы были поочередно оказывать вооруженную помощь то национальной партии, то Каролингской династии. В конце концов Ричард полностью примкнул к партии победителей в лице Гуго Капета, став его зятем и поддержав его избрание. С этого времени и вплоть до завоевания Англии нормандцами между герцогами Нормандии и королем царило полное и ничем не нарушаемое согласие, и вполне вероятно, что если бы Вильгельм оставался герцогом Нормандии и Бретани, вместо того чтобы становиться королем Англии, то в деле подавления зарождающихся коммун Филипп обрел бы в своем вассале опору тем более действенную и добровольную, что Вильгельм тоже мог опасаться появления в его владениях того духа свободы, какой уже давал о себе знать во владениях короля и других сеньоров. Однако Вильгельм, покинувший заурядное герцогство, чтобы завоевать великое королевство, лишил Нормандию и Бретань всего их могущества в тот момент, когда он превратил две эти провинции всего лишь в лучшие украшения английской короны, в ленные владения монархии, чей трон находился за морем, в своего рода временное пристанище, которое Великобритания сохранила на территории Французского королевства.
Более того, к тому времени, к какому мы подошли, Филипп I, вначале имевший в лице Вильгельма вассала, пока тот был всего лишь герцогом Нормандии, а затем соперника, с тех пор как тот стал королем Англии, обрел в нем в конце концов врага, причем врага победоносного. Его сын Вильгельм, по прозвищу Рыжий, унаследовал отцовскую ненависть к французским королям, которую ему предстояло завещать своим сыновьям, словно семейное сокровище, и потому король Франции, не имевший в то время ни малейшей возможности просить Нормандию о помощи против коммун, наоборот, нуждался в коммунах, чтобы выступить против Нормандии.
Стало быть, разбираясь в причинах событий, можно увидеть, что завоевание Англии, как мы и говорили, косвенно, но действенно способствовало успеху мятежного народного движения, начавшего проявляться во Франции.
Что же касается крестовых походов, то их влияние как в то время, так и в будущем оказалось куда более непосредственным.
Влияние, какое они имели в то время, заключалось в следующем.
Сеньоры, повинуясь призыву Петра Пустынника, побуждавшего их освободить Гроб Господень, и уводя с собой всех, кого они могли набрать в подчиненных им провинциях, почти полностью искоренили во Франции власть знати. Духовенство – а часть духовенства последовала за знатью – так вот, повторяем, духовенство и народ остались одни лицом друг к другу. Но духовенство, сделавшись собственником огромных земельных владений, перестало пользоваться расположением со стороны крепостных, не имевших своих наделов. Сделавшись богатым, духовенство перестало быть народом, и с того времени, как оно уже не было равным низшим классам, оно превратилось в их угнетателя. И когда коммуны возникали, им, в определенной степени, приходилось бороться лишь с церковной властью, ибо самые могущественные и самые храбрые сеньоры, которым, разумеется, они неспособны были бы противостоять, находились за пределами королевства и, следовательно, не могли подавлять эти отдельные выступления, сложившиеся, в силу их безнаказанности, во всеобщее народное движение.
Влияние же, какое крестовые походы должны были оказать на него в будущем, заключалось в следующем.
Сеньоры, которым приходилось отправляться в поход незамедлительно, вынуждены были, чтобы покрыть расходы на столь долгое путешествие, продавать часть своих земель духовенству. На деньги, полученные от него, они обзаводились военным снаряжением, и огромные суммы, лишь на короткое время задержавшиеся в расточительных руках рыцарей, тотчас же попадали, чтобы остаться там надолго, в бережливые руки горожан и ремесленников, занимавшихся снабжением войск и поставлявших вооружение и конскую экипировку. Вскоре огромный поток товаров, следовавших за армией крестоносцев, распространился на север, через Венгрию и вплоть до Греции, и на юг, через средиземноморские порты и вплоть до Египта. Вместе с достатком к горожанам пришло желание его сохранить. А что должно закрепить этот достаток у малоимущих классов? Законы, обеспечивающие права тех, кто владеет собственностью. А что может дать эти законы? Освобождение.
И потому с этого времени освобождение народа начинает идти полным ходом и остановится лишь тогда, когда будет достигнута его конечная цель – свобода.
Со своей стороны, монархическая власть, которая рано или поздно должна стать единственным врагом свободы, чтобы, когда она в свой черед окажется свергнута свободой, та была уже не царицей, а богиней вселенной, в это самое время и по тем же причинам берет верх над светской властью сеньоров и духовной властью церковников. С этого момента феодальная система, ослабленная священным походом крестоносцев, станет впредь не помехой для королевской власти, а напротив, своего рода оборонительным средством, чем-то вроде щита, которым она будет защищать себя как от врага, так и от народа и от которого междоусобицы и внешние войны, отрубая от него кусок за куском, в конце концов не оставят в ее руках ничего.
Таким образом, начиная с конца одиннадцатого столетия укрепляется королевская власть и растет сила народа. Феодальная система, дочь варварства, порождает монархию и свободу, этих двух сестер-близнецов, из которых одна в конечном счете задушит другую.
Стало быть, революции, которые спустя восемь веков прокатились по Франции, слабыми и незаметными ручейками начинаются у подножия трона Филиппа I и, из века в век становясь все шире и шире, громадным потоком вторгаются в нашу эпоху.
Точно так же, играя в Альпах, ребенок может перепрыгнуть, словно это ручейки на лужайке, через истоки четырех великих рек, которые бороздят всю Европу и, делаясь все шире, в конечном счете впадают в четыре великих моря[219].
Вернемся теперь к мелким подробностям этого царствования, теряющимся в тени тех трех крупных событий, о каких мы только что рассказали.
Филипп, придерживаясь тех мер предосторожности, какие были приняты королями третьей династии, еще при своей жизни коронует своего сына Людовика.
Продолжает формироваться романский язык: под именем трубадуров появляются первые прованские поэты, а под именем труверов – первые поэты Нейстрии.
Испытываемая рыцарями-крестоносцами потребность дать воинам сопровождающих их отрядов какой-либо опознавательный знак, который позволил бы различать своих среди армии в несколько миллионов человек, говорящих на тридцати разных языках, по необходимости заставляет их избрать определенные символы, которые по возвращении они из гордости сохранят; подражая им, те, кто за ними не последовал, такие символы станут вводить из зависти. Отсюда происходят гербы.
В 1088 году святой Бруно основывает в горах Дофине орден картезианцев.
Наконец, новый архитектурный стиль проникает в строительство церквей: он получил имя готика и занял промежуточное положение между романским и ренессансным стилями.
Тем временем за пределами Франции совершаются важные события.
Сид, герой Испании, подчиняет себе Альфонсо VI, Толедо и всю Новую Кастилию.[220]
Император Генрих IV низлагает папу Григория VII, который, в свою очередь, отлучает его от Церкви и лишает трона.[221]
Иерусалим захвачен крестоносцами[222], и Готфрид Бульонский становится его королем
Король Вильгельм убит на охоте, и на английский трон всходит Генрих I.[223]
Все эти события произошли во Франции и за ее пределами к тому времени, когда в 1108 году, в возрасте пятидесяти семи лет, в Мелене умирает Филипп I. Ему наследует его сын Людовик VI.
Людовик VI, которого обычно именуют Людовиком Толстым, это один из тех людей, кто имеет счастье родиться вовремя, кто появляется в нужный час и одарен способностями, отвечающими потребностям своей эпохи. Он окинул взглядом Францию, оценил ее положение и, углубившись в самого себя и взвесив свои силы, понял, что в век, когда происходит становление общества, королевская власть должна быть верховенством, а не господством; и с этого времени все поступки, какие он совершил в своей жизни, были направлены на осуществление этого замысла, и его царствование стало в некотором роде наброском великой драмы, сыгранной Людовиком XI.
Нашелся человек, который весьма помог королю заложить основы его монархической системы. И это был уже не майордом, грозный благодаря своим войскам, и не граф Парижский, могущественный благодаря своим владениям, а простой аббат монастыря Сен-Дени, гениальный человек, соправитель наподобие Сюлли и Кольбера, короче, министр в современном значении этого слова.
Итак, благодаря отдельным сражениям, которые Людовик Толстый давал феодальной системе, благодаря умелому управлению владениями короны, к которым Сугерий присоединил земли, купленные у тех сеньоров, что отправились в Святую Землю, а также крепости, изъятые у разгромленных непокорных вассалов, с самого начала этого царствования наблюдается исправная работа центрального правительства. Королевская власть рвет помочи, на которых ее удерживает феодализм, пытается делать свои первые шаги, отстаивает свои права, вытекающие из самой ее сущности, и заявляет о себе как о верховной власти, которая для развития общественных свобод сделает немного[224], но много сделает для формирования государства.
«В итоге, из-за разбойничьих вылазок этого сеньора, – рассказывает Сугерий, – на дороге, связывающей два этих города, происходили такие бесчинства и такой грабеж, что, если только горожане не отправлялись в путь большими группами, они не могли попасть из одного города в другой иначе, как по воле этого вероломного негодяя».[225]
И потому, когда Филипп, благодаря браку одного из своих сыновей[226] с дочерью Ги де Трюселя, стал хозяином этой башни, он, взяв Людовика за руку и другой рукой указав ему на почти неприступный замок, промолвил: «Людовик, сын мой, заботься о том, чтобы удержать эту башню, откуда исходили те обиды, из-за каких поседели мои волосы, равно как и те коварные уловки и подлые обманы, какие никогда не давали мне ни минуты мира и покоя».








