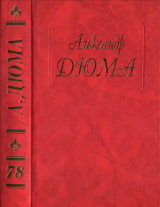
Текст книги "Галлия и Франция. Письма из Санкт-Петербурга"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 52 страниц)
За исключением пятидесяти—шестидесяти тысяч богачей, все остальные умирали от голода.
Публикола приказывает распределить между этими голодными казну Тарквиниев, но казны Тарквиниев, на которую набросилось шестьсот пятьдесят тысяч голодных ртов, хватило ненадолго.
Вся это множество людей должно было добывать себе пропитание на территории около тринадцати квадратных льё, находившейся в окружении вражеских народов и без конца подвергавшейся опустошению.
Значит, оставалась война: рискуя погибнуть, они получали возможность выжить.
И Рим вел войну то с вейянами, то с вольсками, то с эквами, то с герниками, и плебей возвращался домой, увенчанный лавровым или дубовым венком, но разоренный; ибо многие из тех, кто возвращался с войны, были nexus, то есть связаны долговым обязательством под гарантию личной свободы. Они рассчитывали расплатиться со своими долгами, поживившись за счет вейян и вольсков, эквов и герников, и в самом деле захватили у вейян и вольсков, у эквов и герников – не говоря уж об ардейцах, которых они просто ограбили, – их земли; но захваченные земли, как уже было сказано выше, делились на три части: часть богам, часть завоевателям и часть республике.
Так что, когда боги и республика получали свое, на долю ста тысяч человек оставалось три или четыре льё разоренной, выжженной и опустошенной земли! Ростовщику такое было ровно на один укус, и чаще всего вместе с залогом он проглатывал и должника.
И вот однажды, посреди подобных неотвратимых бед, на городской площади римского народа, сына волчицы, среди этого угрюмого населения, беспокойного, как атмосфера его страны, где постоянно тлели насилие и ярость, раздуваемые всадниками, сенаторами и пожирателями человеческой плоти, случилось крупное волнение.
Какой-то облаченный в лохмотья старый солдат, бледный как смерть, с волосами, стоящими дыбом, словно шерсть дикого зверя, бросился к Форуму.
Его окружили, посыпались вопросы. Что с ним случилось? Что ему сделали?
И тогда он рассказал, что сабиняне сожгли его дом и угнали его скот; что, хотя он и был разорен этим набегом, ему следовало заплатить налог; что для этого он был вынужден взять деньги в долг под большой процент; что ростовщический процент, словно разъедающая язва, постепенно уничтожил все, чем он владел; что его увел кредитор, а точнее, палач. И он показал свою грудь, которая была покрыта рубцами от полученных в боях ран, и свою спину, на которой оставили кровоточащие следы удары кнутом.
Народ испустил рык – один из тех рыков, какие время от времени исторгают народы и львы.
Сенаторов, оказавшихся на площади, чуть было не разорвали на куски: все бросились к их домам, распахнули двери.
Подземные тюрьмы оказались переполнены несостоятельными должниками, которых каждый день приводили туда толпами (<^ге§аНт аМисеЬаМиг», по выражению Тита Ливия).
Затем народ, а вместе с народом и армия, которая в эти первые дни республики была ядром народа, удалились на Авентинский холм.
Всем известны миссия и притча красноречивого Менения Агриппы.
Народ понял свою силу и стоял на своем: люди отказались возвращаться в Рим, если народу не предоставят трибунов, которые будут его защищать.
Ему предоставили трибунов: это были Юний Брут и Сициний Беллут.
Обязанности у них были незначительными, а права посредственными: трибуны не имели права входить в сенат и могли лишь сидеть под его дверью; вся их власть заключалась в одном слове, но слово это было заслоном, о который неизбежно разбивались все усилия знати: трибуны могли сказать: «Уе lо» («Я возражаю»).
Вдобавок, особа того, кто произносил это слово, считалась священной: любого человека, посмевшего прикоснуться к нему, чтобы совершить над ним насилие или даже просто оскорбить его, приносили в жертву богам.
Именно тогда и появился первый римский социалист.
Спурий Кассий, после побед над самнитами дважды удостаивавшийся почестей триумфа, предлагает раздать народу завоеванные земли.
Обвиненный знатью в стремлении к царской власти и желании воспользоваться законом о земле как средством для достижения этой цели, он был приговорен к смерти и сброшен с Тарпейской скалы.
И тогда, за неимением земли, народ потребовал предоставить ему права, связанные с землевладением; трибун Терентилий Гарса выступил за единый закон, писаное уложение.
Патриции поняли, что им придется что-нибудь выпустить из рук.
В середине священного поля, за померием, оставались невозделанные земли, в числе которых был и Авентин, куда удалился народ. Патриции уступили народу указанные земли, подарив ему этот холм.
Но, едва только путь уступкам оказывается открыт, снова закрыть его весьма сложно.
Народ назвал десять патрициев, поручив им составить и издать законы. Так была учреждена коллегия децемвиров.
Децемвиры отправили послов в Грецию, главным образом в Афины, чтобы позаимствовать там законы.
Заметьте, что как раз в это время в Грецию вторглись Дарий и Ксеркс и она одержала победы при Марафоне и Платеях.
Послы вернулись с законами, которые растолковал им грек Гермодор из Эфеса.
Любопытно, что тот самый патриций Аппий, который приказал убить Сикция Дентата и требовал отдать ему Виргинию в качестве рабыни, дополняет законы Двенадцати таблиц и добавляет к древним обычаям жреческой Италии, к привилегиям героической аристократии, притесняющей плебеев, конституцию, призванную установить права этих самых плебеев.
Вы уже ознакомились с законами аристократии, а вот законы народа:
«I. Всякое решение народного собрания должно иметь силу закона.
Отступлений в свою пользу от закона быть не должно.
Если патрон замыслил причинить вред своему клиенту, да будет он предан проклятию.
Если патрон ударит клиента и причинит ему членовредительство, то пусть заплатит двадцать пять фунтов медью, и если не помирится с пострадавшим, то пусть и ему самому будет причинено то же самое.
Отцеубийство – a под отцеубийством понимаются все преступления, карающиеся смертной казнью, – может быть судимо лишь народом в центуриатных коми– циях.
Подкупленного судью приговаривают к смертной казни.
Лжесвидетеля сбрасывают с Тарпейской скалы ...»
Имея двух лжесвидетелей, патриций располагал свободой плебея и, следовательно, его жизнью; этим двум свидетелям нужно было лишь удостоверить, что бедняга является рабом богача, и на этом рассмотрение дела заканчивалось. Но, с тех пор как лжесвидетелей стали приговаривать к смерти, следовало хорошенько все взвесить, прежде чем заняться ремеслом лжесвидетеля.
«VIII. Если факт ростовщичества признан, пусть ростовщик вернет одолженную сумму в четверном размере.
IX. Тот, кто сломает челюсть рабу, пусть заплатит штраф в сто пятьдесят ассов».
Как видите, едва только добившись успеха, народ позаботился о рабах; чувствуется, что на протяжении почти трех столетий между народом и рабами существовало определенное братство.
Но погодите: народ обрел защиту против патрициев, однако ему следовало обрести и защиту против жрецов.
Правда, в Риме патриций и жрец нередко одно и то же: не все патриции жрецы, но все жрецы – патриции.
Нередко, под предлогом жертвоприношений, жрецы забирали у плебея, ничего ему не заплатив, самого лучшего быка или самого лучшего барана. Не напоминает ли это вам нашу десятину, упраздненную в 1789 году?
Вот что говорит один из законов Двенадцати таблиц в отношении этого права реквизиции, своего рода права «запасного двора», как говорили в средние века.
Закон позволяет «накладывать штраф на того, кто взял себе жертвенное животное, не уплатив за него»; он дает «право предъявлять иск тому, кто не заплатил вознаграждения за сданное ему внаем вьючное животное, дабы покрыть издержки на жертвенный пир»', он запрещает «жертвовать богам вещь, являющуюся предметом судебного разбирательства, под страхом штрафа в размере ее двойной стоимости».
Итак, плебей уже избавился от ига аристократии, избавился от алчности жрецов, и теперь ему предстояло избавиться от отцовского деспотизма.
«Три притворные продажи делают сына свободным».
Вспомните, что отец имел право трижды продать своего сына. Освобожденный три раза подряд, сын перестает быть вещью, он становится человеком.
Придет день, когда одного лишь вступления в легион будет достаточно для того, чтобы сын стал свободным; и тогда закон, который подтвердит, что освободиться от отцовской власти можно с помощью поступления на военную службу, скажет: «Однако солдат все же должен быть связан с отцом чувством сострадания».
Но и отец, со своей стороны, будет вправе распоряжаться своим имуществом, которое прежде, будучи рабом своего отца, непременно наследовал сын. «То, что отец решит по поводу своего имущества, — говорит закон, – и по поводу опеки над своим добром, будет правильно»; и уже одним только этим решением наследование отменяется.
Что же касается улучшения материального положения народа, то произойдет следующее.
Плебеи не будут посягать на священные поля, то есть на изначальные владения Рима, на собственность аристократии, на земли, лежащие вокруг города; однако в десяти, двадцати, пятидесяти, ста льё от Рима им предоставят его подобие.
Римская колония будет иметь все права метрополии; у нее будут авгур и страж земельных владений, агримен– сор, то есть жрец и землемер, которые последуют за колонией переселенцев в качестве некоторой гарантии, предоставленной метрополией, и сориентируют поля в соответствии с религиозными правилами.
Двое только что упомянутых нами должностных лиц нарежут в соответствии все с теми же правилами земельные наделы, опишут их законные очертания, уничтожат, в случае необходимости, межи и могилы прежних владельцев, а если земли окажется недостаточно, они возьмут ее рядом, все равно у кого.
Вслушайтесь в горестный крик Вергилия, прозвучавший через пятьсот лет после издания этого закона:
О Мантуя, слишком, увы, к Кремоне близкая бедной![359]
Каждая колония станет новым Римом – со своими консулами, своими децемвирами, своими декурионами, короче, своими магистратами, которые будут отправлять правосудие, упорядочивать меры и веса, набирать войска для Рима.
Рим сохранит за собой лишь одну привилегию: право вести войну и заключать мир.
Стоит принять эти меры предосторожности и предоставить эти гарантии, как Рим выходит за свои пределы, из переполненного улья вылетает рой за роем, и вся Италия становится Римом.
Так завершается первый период римской истории. После того как законы Двенадцати таблиц утверждены, Рим оказывается в том же положении, в каком находилась Франция после признания коммун Людовиком Толстым, и даже в более передовом, поскольку, как мы сказали, закон, предоставив отцу возможность распоряжаться всем своим имуществом, упразднил наследование.
II
Для того чтобы приступить к разговору о состоянии общества в победоносной Италии, опишем вкратце события, произошедшие там за этот период времени.
Когда эквы, вольски, вейяне и герники были побеждены, римлянам пришлось столкнуться с самнитами. Как мы уже говорили, война с Самнием длилась двести лет; самниты вступили в союз с этрусками; Фабий одержал над ними победу, а Папирий Курсор их разгромил.
Но те из прежних хозяев захваченных земель, кто уцелел, проявили упорство и двинулись в Этрурию, вошли в союз с галлами и умбрами, и, для того чтобы победить их, понадобилась самоотверженность Деция. Этруски были покорены; самниты, сделавшие последнее усилие, погибли; последние разбойники, как их называли римляне, задохнулись в задымленной пещере, точно так же, как это произошло в наши дни с арабами из Дахры.
Послушайте Тита Ливия:
«В том же году [в 464 году от основания Рима], – говорит он, – дабы никто не сказал, что весь год прошел совсем без войны, был предпринят небольшой поход в Умбрию, откуда сообщали о разбойниках, укрывшихся в пещере и совершавших набеги на окрестные поля; римляне боевым строем вошли в пещеру, но разбойники, воспользовавшись потемками, многих наших солдат изранили, главным образом побили камнями. Наконец, когда был найден другой выход из этой пещеры, оба отверстия завалили бревнами и развели там костры. В итоге примерно две тысячи разбойников, которые оказались там заперты, задохнулись от дыма и жара или погибли прямо в пламени, куда под конец они сами бросались».[360]
Самний продолжал существовать, но последний самнит умер.
По другую сторону Самния находилось то, что тогда называли Великой Грецией и что можно было бы определить всего лишь в нескольких словах: страна, которая видна с вершины Этны; любимая богами страна, представлявшая огромный оазис для греческих переселенцев и состоявшая из Бруттия, Лукании, Певцетии, Япигии, Апулии и Сицилии.
Там, вокруг гигантского вулкана, который поднимается на семь тысяч футов выше Везувия, все принимает колоссальные размеры; каштан, укрывающий в своей тени сотню лошадей, – это то, что вышло из рук Божьих; колонна храма Гигантов, в каннелюре которой может улечься спать человек, – это то, что вышло из рук человеческих!
Города там носили чудесные имена, придуманные поэтами. Они назывались Селинунт, Агригент, Сиракузы, Панорм, Сибарис; население их процветало. Разве мог человек сомневаться, что именно в подобном раю ему следовало родиться! В Агригенте, по словам Диодора Сицилийского, было двести тысяч жителей; тиран Дионисий в одном только городе Сиракузы набрал войско, в котором было сто двадцать тысяч пехотинцев и двенадцать тысяч конников. И, наконец, пустынное взморье Сибариса, наполнявшего песнями и благоуханиями Тарентский залив, еще и сегодня сплошь усыпано осколками тех сосудов, какие, если они найдены целыми, служат украшением и богатством наших музеев.
Такова была страна, которую завоеватели увидели с Регийского мыса и с вершины горы Вултур.
Но весь этот великолепный край оказался опустошен из-за бедствия, которое было хуже чумы, хуже холеры и хуже желтой лихорадки: он стал добычей наемников.
Откуда же явились эти наемники?
Они были рождены из грязи цивилизаций, как из грязи Нила рождаются насекомые и рептилии; из этих отбросов общества образовались скопления людей, не имевших ни богов, ни родины, ни закона. Те, кто нуждался в них и был богат, нанимал их, платил им и пользовался ими, в зависимости от своих склонностей, либо для защиты родины, либо для ее порабощения. С их помощью Гелон и Дионисий защищали Сицилию от карфагенян и порабощали ее во имя собственнной выгоды.
Нередко в глазах этих разбойников красота лица или речи заменяли собой богатство. Сын горшечника, брошенный на улице, прельстил их своей красотой, и они усыновили его; из бедняка он сделался богачом, из распутного подростка – коронованным царем. Звался он Агафоклом.
Все это происходило на земле вулканов и сотрясало царства, заставляя их метаться между неистовой демагогией и безудержной тиранией. Ну а посреди того и другого – празднества, песни, благовония, цветы; жертвоприношения богам в храмах, которые венчали вершины гор; спектакли в театрах, задниками в которых было море.
Как-то раз, в одном из таких театров, декорациями которых служила беспредельная даль, тарентинцы присутствовали на представлении какой-то из древнегреческих трагедий. Внезапно они увидели латинские корабли, двигавшиеся на горизонте; и тогда один презренный негодяй, из числа тех, кому мешала спать складка на лепестке розы и кто, обладая женским нравом, отдавал предпочтение женским нарядам, отступник от своего пола, румянивший щеки и украшавший их мушками, именовавшийся прежде Филохарисом, а теперь звавшийся Таис, поднялся со своего места и, картавя, стал уверять всех, что некий старинный мирный договор, восходящий ко временам Кавдинского ига, запрещает римлянам огибать мыс Юноны Лацинийской.
Народ шумной толпой бросается к берегу, и корабли оказываются захваченными и разграбленными в ту же минуту, когда они бросают якорь в гавани.
В связи с этим оскорблением римляне отправляют послов в Тарент: аристократы принимают их в разгар празднества, а народ осыпает их насмешками.
Послам подают угощение; какой-то смельчак подходит к одному из них и марает своей мочой его тогу с пурпурной каймой; толпа взрывается хохотом.
– Смейтесь, – произносит римлянин, – эта тога будет выстирана в вашей крови!
И послы удаляются, крича: «Война! Война!»
Тарентинцы пересчитались: они были многочисленны; они посмотрели на себя: они были слабы!
И чего им больше всего не хватало, так это человека. Они огляделись по стронам.
В ту пору в Эпире, отделенном от них Адриатическим морем, был такой человек, военачальник, царь – ранний образчик нынешнего кондотьера. Говорили, что по линии Эакида, своего отца, он происходил от Геркулеса, а по линии Фтии, своей матери, – от Ахилла. Он родился в разгар смуты; чтобы взять ребенка из колыбели, слуги, спасавшие его, вынуждены были ступать по крови его отца. Мальчика привезли ко двору Главкия, царя Иллирии, и тот велел воспитывать его как своего собственного сына. В двенадцать лет потомка Геркулеса отправили обратно в Эпир вместе с армией, и Главкий помог ему вернуть трон. Однако не прошло и четырех лет с начала его правления, как молодой царь узнает, что его благодетель Главкий выдает замуж свою дочь; он возвращается в Иллирию, чтобы присутствовать на свадьбе той, которую он любит как свою сестру. Тем временем Нео– птолем, который однажды уже похитил у него трон, похищает его во второй раз. И тогда лишенный короны царь вступает в войско Деметрия, царя Македонии; под его командованием и командованием Антигона он принимает участие в знаменитой битве при Ипсе, в которой сражались друг против друга сто тридцать четыре тысячи пехотинцев, двадцать с половиной тысяч конников, четыреста семьдесят пять слонов и сто двадцать колесниц, снабженных косами. У него на глазах погибает Антигон, и с его смертью огромная держава Александра Македонского раскалывается на четыре части, каждая из которых станет царством: Фракийским, Македонским, Египетским и Сирийским.
Оттуда сын Эакида отправляется в Египет; там он женится на дочери Береники и возвращается в Эпир с войском, имея возможность принудить Неоптолема вернуть ему половину царства. Ну, а получив половину царства, он захватывает его все.
Человека этого звали Пирром.
Несомненно, в память о своем паломничестве в оазис Амона он носил на своем шлеме козлиные рога; однако возможно также, что это был всего лишь символ той животной силы, той природной необузданности, какими был наделен этот отважный завоеватель, который скакал по миру, сокрушая на своем пути царства.
Так вот, к нему тарентинцы и обратились. По их словам, они могли добавить к приведенным им войскам двадцать тысяч конников и триста пятьдесят тысяч пехотинцев.
Это было именно то, чего Пирр желал более всего: он уже давно мечтал продвинуться на Запад так же далеко, как Александр Македонский продвинулся в Индии. Разве не замыслил он с этой целью перебросить мост из Эпира в Калабрию, из Аполлонии в Отранто?!
Но Пирр плохо рассчитал: железный Запад не походил на Восток, замешенный на золоте и грязи; римляне были совсем не такими воинами, как персы, мидяне и вавилоняне, а Фабриций и Курий Дентат («Зубатый») были совсем не такими военачальниками, как Дарий и Пор, и вместо Граника и Гидаспа ему предстояло встретить на своем пути Гераклею, Аускул и Беневент.
Потерпев поражение у Беневента, он покинул тарен– тинцев, вернулся в Эпир, снова завоевал Македонию и умер во время похода в Аргос, убитый черепицей, которую бросила в него с крыши дома какая-то старуха.
– Кому ты оставишь свое царство? – спросили у Пирра его сыновья.
– Тому из вас, у кого будет самый острый меч! – ответил тот, чей меч всегда был столь остр.
Царь Эпира был не только великим полководцем и умелым тактиком, но и бесконечно остроумным человеком, который изрекал афоризмы, даже умирая.
После сражения при Гераклее, в котором погибла половина его войска, он произнес, когда его стали поздравлять с победой:
– Еще одна такая победа, и мне придется в одиночестве возвращаться в Эпир!
Покидая Сицилию, он сказал:
– Что за прекрасное поле битвы я оставляю римлянам и карфагенянам!
И действительно, римлянам, этим завоевателям Тарента, хозяевам материковой части Великой Греции, водворившимся на калабрийском побережье от Сциллы до Регия, оставалось сделать лишь один шаг, чтобы ступить на землю Сицилии.
Сицилия принадлежала трем силам – сиракузянам, карфагенянам и мамертинам. Мамертины, пребывавшие в состоянии войны с карфагенянами, сделали то же, что в свое время, не заботясь о последствиях, сделали их друзья-тарентинцы. Подобно тому как тарентинцы призвали на помощь Пирра, мамертины призвали на помощь римлян. Консул Аппий, частью на плотах, частью на судах, заимствованных в Великой Греции, переправил на Сицилию два легиона.
– Я потерпел поражение от римлян еще до того, как успел разглядеть их, – сказал Гиерон, тиран Сиракуз.
Он был настолько ошеломлен быстротой этой победы, что заключил с римлянами договор и строго соблюдал его.
За полтора года римляне захватили шестьдесят семь небольших городков и крупный город Агригент, который обороняли два войска численностью в пятьдесят тысяч человек.
Однако у римлян не было ни одного судна.
Севшая на песчаную мель карфагенская галера послужила для них образцом, и за шестьдесят дней они построили и спустили на воду шестьдесят судов. Римляне догнали карфагенский флот, напали на него и одержали над ним победу.
Эти солдаты, привыкшие воевать на твердой земле, придумали то, что как бы придавало устойчивость зыбкой поверхности моря: железные крючья, которые, впившись в карфагенские суда, лишали их возможности двигаться; так что речь шла уже не о захвате судна, а о штурме крепости.
Консул Ду ил ий, придумавший эти абордажные вороны и одержавший с их помощью не одну победу, извлек из своего триумфа удивительную и приятную для слуха привилегию: до конца его жизни победителя карфагенян всюду сопровождали факелоносцы и флейтисты. Кроме того, в его честь была воздвигнута колонна, украшенная корабельными таранами и получившая из-за этого украшения название Ростральной.
Затем настал черед Сардинии и Корсики.
Регул первым переправился из Агригента в Африку. Здешний берег защищало чудовище, казавшееся духом этой таинственной земли: змей длиной в сто пятьдесят футов разворачивал свои огромные кольца на виду у римской армии. Регул приказал выдвинуть вперед баллисты и катапульты и убил чудовище пущенными в него камнями.
Две победы, одержанные римлянами, отдали в их руки двести городов. Охваченный страхом Карфаген уже готов был подписать мир, по условиям которого у него оставался всего лишь один боевой корабль, как вдруг некий лакедемонский наемник заявил, что, прежде чем возлагать на себя это тяжкое и постыдное ярмо, нужно сделать последнее усилие; он призывает в войско своих товарищей, увлекает римлян в долину, наголову разбивает Регул а, берет его в плен и в оковах на ногах и руках приводит в Карфаген, куда тот совсем недавно надеялся войти как победитель.
Всем известно величавое предание о Регуле, наполовину сказочное, наполовину историческое, скорее даже, возможно, сказочное, чем историческое, но в которое надо верить, как верят в прекрасное, то есть нечто редкое, никак не оспаривая его и не вникая в подробности.
А теперь без промедления перейдем к Ганнибалу.
За то время, какое мы преодолели быстрее, чем пущенная стрела, чем летящий орел, римляне успели заключить мир с карфагенянами, получили от них Сицилию, завершили Первую Пуническую войну, покорили галлов и лигуров и через Марсель распространили свое влияние на берега Роны, а через Сагунт – на берега Эбро.
Со своей стороны, Гамилькар, отец Ганнибала, подчинил себе берега Африки вплоть до Великого океана, пересек пролив и захватил часть Испании. Африканского змея так и не убили, и теперь он разворачивал свои кольца от страны гарамантов до Пиренейских гор.
Столкнувшись вначале на Сицилии, римляне и карфагеняне оказались теперь лицом к лицу в Испании. Гамилькар намеревался сделать первый шаг и из Бар– сино, незадолго до этого построенного им, перейти в Италию, но внезапно был убит веттонами.
Умирая, он произносит: «Я оставляю трех львов, которые однажды растерзают Римскую республику».
Одним из этих трех львов был Ганнибал, а двумя другими – Гасдрубал и Магон.
Уже в старости Ганнибал сам рассказывал Антиоху Великому, что в детстве, сидя на коленях у Гамилькара, он упрашивал отца, чтобы тот взял его с собой в Испанию и показал ему войну.
– Хорошо, – ответил сыну старый враг Рима, – но при условии, что на этом алтаре ты поклянешься в непримиримой ненависти к римлянам.
Ганнибал поклялся.
В возрасте двадцати пяти лет он вспоминает о своей клятве, берет в осаду и захватывает Сагунт, состоящий в союзе с римлянами. Рим, удивленный этим нападением, которое дает ему знать о неведомом враге, отправляет послов, чтобы заявить протест лично Ганнибалу.
Ганнибал велит передать послам, что он советует им не подвергать себя опасности, добираясь до него среди толп варваров, и что в данное время у него есть дела поважнее, чем выслушивать нудные речи.
И тогда послы отправляются в Карфаген и требуют, чтобы им выдали Ганнибала. Но сделать это было нелегко: во время осады Сагунта под началом Ганнибала находилось сто пятьдесят тысяч воинов. Будь это в его власти, карфагенский сенат, состоявший из торговцев и подписавший позорный мир после разгрома своего флота у Эгадских островов, охотно выдал бы римлянам Ганнибала вместе с его братьями Гасдрубалом и Магоном, а заодно и мертвое тело их отца Гамилькара; но теперь Ганнибал мог бы выдать римлянам сенат, а не сенат – Ганнибала.
Так что Фабий, глава римских послов, получил лишь уклончивый ответ. И тогда, свернув полу своей тоги, он произнес:
– Вот здесь я принес вам войну и мир; выбирайте любое!
– Выбирай сам! – ответили карфагеняне.
– Я даю вам войну! – произнес Фабий, распуская полу своей тоги и отряхая ее.
– Мы принимаем войну и сумеем выдержать ее, – ответили сенаторы.
Однако еще до того, как послы привезли в Рим ответ карфагенского сената, Ганнибал уже находился на марше.
Захваченный Сагунт был предан грабежу; награбленную утварь Ганнибал отправил в Карфаген, пленников отдал своим солдатам, а золото приберег для похода, который он задумал. Солдатам, которым был отдан на разграбление город и которые были теперь отягощены добычей, он позволил вернуться домой, чтобы они отвезли туда свои богатства, ибо пребывал в полной уверенности, что, как только эти богатства окажутся в безопасности, солдаты возвратятся. Они и в самом деле возвратились, так что он смог пятнадцать тысяч человек отправить в Карфаген и шестнадцать тысяч оставить в Испании. Против Сагунта он выставил сто пятьдесят тысяч солдат, а в Италию повел с собой лишь восемьдесят тысяч. Разумеется, этого было мало, учитывая, сколько ему предстояло встретить на своем пути варварских народов, стремительных рек и высоких гор, которые если и не были непреодолимыми, то, по крайней мере, никем еще не были преодолены. Вакх таким образом проник в Индию; Геркулес вслед за Вакхом проделал тот же самый путь; и, наконец, Александр Македонский устремился туда по следам Вакха и Геркулеса, но Вакх был богом, Геркулес – полубогом, а Александр Македонский – героем.
Ганнибал же еще был всего лишь юношей.
Однако юноша хотел быть обязанным во всем лишь самому себе. Он давал Карфагену, вместо того чтобы просить у него. Он повел за собой испанцев; но почему он не повел за собой галлов? Галлы были отличными проводниками: они знали дорогу в Рим.
От Картахены до границы с Италией было девять тысяч стадиев. После переправы через Эбро начались сражения, и Ганнибалу пришлось оставить одиннадцать тысяч солдат, чтобы удержать под своей властью страну. Подойдя к Пиренеям, три тысячи испанцев отказались идти дальше. Ганнибал отправляет назад десять тысяч, а остальные коленопреклоненно умоляют его взять их с собой.
Когда галлы, эти бледнолицые сыны Севера, голубоглазые и золотоволосые, увидели, как на них, словно лавина, спускаются со своих диких гор смуглолицые испанцы, мавры и нумидийцы с курчавыми волосами и огненными глазами, они отступили, переправились через Рону и укрепились на ее левом берегу.
Ганнибал хорошо знал Рону, которую римляне называли «celer», то есть «быстрая»; он знал, что она принимает двадцать два притока и, не смешивая там свои воды и не замедляя там своего течения, пересекает озеро длиной в восемнадцать льё. Представьте себе эту переправу: шестьдесят тысяч пеших, пятнадцать тысяч конных, шестьдесят слонов! Эти слоны, которые некогда вместе с Пирром шли на Италию со стороны Калабрии, теперь вместе с Ганнибалом шли на Рим со стороны Альп! Еще и сегодня это место на Роне называется Переправой. В конце прошлого века там был найден щит.
Ганнибал остановился на берегу реки на два дня: ровно столько ему понадобилось времени, чтобы купить лодки и построить плоты. Через реку переправились в двух местах: Ганнон – выше галльского лагеря, а Ганнибал – ниже. Большие суда были поставлены выше по течению, чтобы преградить его. Вначале переправлялись конники, сидя в лодках и держа своих коней на поводу. Эти нуми– дийские кони, привыкшие переправляться через африканские горные потоки, устремлялись в реку, словно в пустоту. Со слонами все обстояло иначе: плоты, перевозившие их, пришлось покрыть дерном, чтобы животным казалось, будто они не покидали сушу. Что же касается испанцев, то кто-то из них переправлялся вплавь, а кто-то – на бурдюках и щитах.
Преодолев реку, войско преодолело горы и достигло вершин Альп.
При виде бескрайнего горизонта, открывшегося перед ними, воины издали радостный крик. Присев на корточки, словно сфинксы, на снежных утесах, черные нумидийцы пожирали глазами Италию, с которой, как им было обещано, они могли сделать все что вздумается. Затем весь этот людской поток, не тревожась из-за снегов, скал и пропастей, скатился вниз, в Италию.
Добравшись до равнин Пьемонта, Ганнибал пересчитал своих людей, лошадей и слонов; теперь в его распоряжении осталось лишь двадцать шесть тысяч человек: восемь тысяч испанских пехотинцев, двенадцать тысяч африканцев и шесть тысяч нумидийских конников. Позднее, чтобы увековечить память о тех малых силах, с какими он напал на римлян на их собственных землях, Ганнибал приказал высечь этот перечень на колонне, стоящей на мысе Лациний.
Войско Ганнибала, за пять месяцев до этого вышедшее из Картахены, после переправы через Рону потеряло тридцать шесть тысяч человек.
Армия Рима, включая его собственные вооруженные силы и войска его союзников, насчитывала семьсот тысяч пехотинцев и десять тысяч конников. Как видно, население Рима выросло после той последней переписи, какую мы упоминали.








