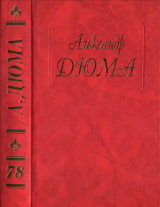
Текст книги "Галлия и Франция. Письма из Санкт-Петербурга"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 52 страниц)
Их бегство оставило без защиты монархию, основанную на божественном праве, и Людовик XVI увидел, как с промежутком в четыре года на востоке засверкало пламя Бастилии, а на западе – нож эшафота.
Но теперь уже не один человек пришел сеять разрушение, ибо одного человека было бы недостаточно для уничтожения монархии: поднялась вся нация целиком и, увеличив число рабочих в соответствии с масштабами предстоящего труда, направила своих депутатов, чтобы сокрушить аристократию, эту дочь всесилия знатных сеньоров, эту внучку всесилия знатных вассалов.
Двадцать второго сентября 1792 года Национальный Конвент взял в руки наследственную секиру.
Прошло полтора века с того времени, как умер Ришелье.
Отступим теперь на шаг назад и посмотрим, что пришлось выстрадать народу, прежде чем он дошел до такой величайшей крайности, как 14 июля 1789 года, 10 августа 1792 года и 21 января 1793 года.
VII
Мишле, наш великий историк, к которому приходится то и дело обращаться, когда изучаешь римскую историю, историю Франции, историю права и даже естественную историю, дает революции такое определение: «ВОЦАРЕНИЕ ЗАКОНА, ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАВА, ПРИХОД СПРАВЕДЛИВОСТИ».
Да будет нам позволено привести здесь несколько строк из предисловия к его «Истории Французской революции». Прочтите эту книгу, автор которой обладает одновременно величием сердца, мощью ума, широтой знаний и добросовестностью историка.
«Если вы когда-нибудь путешествовали в горах, вам, возможно, довелось увидеть то, с чем встретился там я.
Среди беспорядочного скопления громоздящихся скал, посреди множества разнообразных деревьев и зеленой поросли, высился огромный остроконечный утес. Этот уединенный пик, черный и голый, явно был порождением глубочайших недр земли: никакое время года не меняло его облика, и едва ли садились на него птицы, как если бы они боялись обжечь крылья, коснувшись этой глыбы, вырвавшейся из огненного ядра. Казалось, что этот угрюмый свидетель мук подземного мира все еще видел их в своих грезах, не обращая ни малейшего внимания на то, что окружало его, и не позволяя себе ни на мгновение отвлечься от этой извечной печали ...
Какие же скрытые сдвиги произошли в глубинах земли? Какие неисчислимые силы боролись в ее недрах, чтобы эта глыба, поднимая горы, прорываясь сквозь скалы, раскалывая пласты мрамора, внезапно появилась на ее поверхности?! Какие содрогания, какие муки исторгли из недр земли этот необычайный вздох?!
Я присел, и из моих затуманившихся глаз одна за одной потекли медленные, мучительные слезы ... Природа слишком напоминала мне историю: этот хаос из громоздящихся скал давил на меня с той же тяжестью, какая на протяжении всего средневековья лежала на сердце человека, и в этом печальном утесе, который земля взметнула из своих недр к небу, я вновь узнал отчаяние и вопль человечества.
Как же на протяжении тысяч лет правосудие давило на сердце этой горой догм; сколько часов, дней, лет – долгих лет – оно сокрушало его!.. И для того, кто это знает, в этом заключен источник вечных слез. Тот, кто, изучая историю, взял на себя долю этой долгой пытки, уже никогда от нее не оправится. Что бы ни случилось, такой человек будет печален: солнце, эта радость мира, не принесет ему больше радости, слишком долго прожил он в скорби и во мраке.
И что пронзило мое сердце, так это долгое смирение, кротость и терпеливость людей, а также то усилие, какое приложило человечество, чтобы наделить мир ненавистью и проклятием, которое над ним тяготеет.
Вы полагаете, что, когда человек, отстраненный от свободы, избавленный от справедливости, словно от ненужной утвари, чтобы заставить его слепо отдаваться в руки Божьего милосердия, видел, что это милосердие сосредоточено на почти незаметном пространстве и предназначено привилигированным и избранным, тогда как все остальное теряется на земле и под землей и теряется на веки вечные, – вы полагаете, что отовсюду неслись богохульства?
Нет, слышались лишь стоны и умилительные слова: “Если тебе угодно, чтобы я был проклят, да свершится воля твоя, Господи!”
Эти люди, тихие, покорные, смиренные, прикрылись саваном проклятия.
Но есть нечто важное, что достойно упоминания и чего богословие никогда не предвидело! Оно учило, что проклятые могут лишь ненавидеть, но они умеют еще и любить. Они, эти проклятые, приучались любить избранных, своих господ; священник и сеньор, эти любимые чада Неба, в течение многих веков видели у этого униженного народа лишь кротость, послушание, любовь и доверие; он служил и молча страдал, а когда его попирали ногами, он благодарил и, словно богобоязненный Иов, не грешил устами своими».
И потому регент говаривал: «Будь я подданным, непременно бы взбунтовался!»
А когда ему сообщили о восстании, он ответил: «Народ прав: ему столько пришлось страдать!»
Особенно народ страдал начиная с царствования Людовика XIV.
Осознавал ли Людовик XIV эти страдания? Я в этом сомневаюсь: для него народ был вьючным животным, которое могло перевозить всякого рода тяжести и, повалившись от усталости, должно было под ударами кнута подняться на ноги.
Было ли это недостатком Людовика XIV? Нет; по характеру король был не лучше и не хуже любого другого: хуже, чем Генрих IV, но лучше, чем Людовик XV. Это было недостатком данного ему воспитания.
В Санкт-Петербурге, в музее, я видел автограф юного Людовика XIV: это образец чистописания; одна и та же строчка повторена шесть раз и внизу страницы восемь раз поставлена подпись «Людовик»:
«Королям должны оказывать знаки почтения; они делают все, что им угодно».
На сводах часовни в Версале можно прочесть:
«¡Мгаbb lетрlит sиит ОbттаBs[383]».
И разве не слышите вы, как сам Боссюэ говорит тому, кто произнес слова «Государство – это я!»:
«О короли, смело отправляйте свою власть, она божественна, и вы суть боги!»
Бедный народ, не любимый никем, тогда как сам он так любил любовь!
Он прославил Агнессу Сорель за то, что она любила Карла VII, Габриель д'Эстре за то, что она любила Генриха IV, и Лавальер за то, что она любила Людовика XIV.
Он ненавидел г-жу де Помпадур не столько за то, что она стоила Франции два или три миллиона ливров ежегодно, столько за то, что она не любила этого короля, который не любил никого и которого звали Возлюбленным.
И каждый раз, когда народ страдал; каждый раз, когда с ним поступали несправедливо; каждый раз, когда прислужники короля отнимали у него сыновей, чтобы отправить их на войну, отнимали у него деньги, чтобы передать их в казну, народ испускал лишь один крик, а точнее, вздох или стон:
«О, если б король это знал!»
Сколько же предательств пришлось ему претерпеть, чтобы проникнуться равнодушием к Людовику XVI! Сколько претерпеть презрения, чтобы проникнуться ненавистью к Марии Антуанетте!
Тот парикмахер, который перерезает себе горло 21 января 1793 года, та женщина, которая в этот же день выбрасывается из окна, и тот палач, который умирает от горя, потому что он отрубил голову своему королю, – все это народ.
Тем не менее откройте «Историю Французской революции» и узнайте, как страдал этот народ.
Но он терпелив, этот народ! Он так философски настроен и так беззаботен! Он весело произносит в ненастные дни:
«О! После дождя настанет хорошая погода!»
И, улыбнувшись погожим дням, он забывает, что сердился на дождь.
Один Господь ведает, сколько всего приходилось забывать народу за время от Людовика XIV до Людовика XVI!
Заунывный хор начинается с Кольбера, в 1681 году.
– Больше так продолжаться не может, – говорит он и умирает.
Заметьте, что это происходит за четыре года до отмены Нантского эдикта (1685) и что вследствие этой отмены из Франции будут изгнаны полмиллиона человек, полмиллиона протестантов, то есть из Франции будет изгнана промышленность.
Интендантов просят составить докладные записки для юного герцога Бургундского, а это то же самое, что спрашивать у воров, в каком состоянии находятся те, кого они обворовали.
Они заявляют, что такая-то провинция потеряла четверть своих жителей, та – треть, а эта – половину; все умерли от нищеты. Все это происходит в 1698 году.
Так вот, в 1707 году уже вспоминают о том, как хорошо было в 1698-м.
«Тогда, – говорит Буагильбер, – в лампах еще было масло; сегодня все подошло к концу, так как нет сырья. И теперь вот-вот развернется тяжба между теми, кто платит, и теми, чья обязанность состоит исключительно в том, чтобы собирать деньги».
Эта тяжба будет продолжаться еще восемьдесят два года.
А теперь послушайте, что автор «Телемаха», изобретатель Салента, говорит своему ученику, внуку Людовика XIV:
«Народы не живут более, как люди, и потому впредь не позволено рассчитывать на их терпение ... В конечном счете старая разлаженная машина разобьется при первом же ударе ... Никто не осмеливается предположить, что силы ее уже на исходе; все сводится к тому, чтобы закрыть глаза и открыть ладонь, дабы по-прежнему брать»[384]
Возможно, вы полагаете, что больше заботы было об армии, чем о народе; о тех, кого заставляют убивать, чем о тех, кого оставляют умирать? Вот что говорит маршал де Виллар, которому в сражении при Денене предстояло спасти Францию:
«Несколько раз мы полагали, что хлеб закончился полностью; затем, с великими усилиями, его доставляли, но только на полдня; спать все ложатся на голодный желудок. Когда г-н д'Артаньян находился на марше, другим отрядам, остававшимся на месте, приходилось голодать. Наша служба продовольственного снабжения делает невозможное, наши солдаты являют чудеса доблести и стойкости. “Рапет nostrum quotidianum da nobis hodie[385]”, – говорят они мне, когда я объезжаю строй, после того как им выдали только половину или четверть дневного пайка. Я подбадриваю их, даю им обещания. Они лишь пожимают плечами и смотрят на меня с такой покорностью судьбе, что это приводит меня в умиление. “Господин маршал прав, – говорят они, – иногда надо уметь пострадать”».
Людовик XIV умирает. Понадобилось семьдесят три года царствования, чтобы в итоге проклинать того, кого прежде так любили; да и то, народ осыпает оскорблениями лишь его гроб.
Людовик XIV умер, и его сменяет регент.
Мы уже приводили его изречение в отношении Франции: «Будь я подданным, непременно бы взбунтовался!» Но, хотя и сказав такое, он за восемь лет своего регентства прибавил к государственному долгу Франции семьсот пятьдесят миллионов ливров!
При Людовике XIV все же оставалось немного пшеницы, немного ячменя, немного гречихи, и люди еще ели хлеб, выпеченный из какого-нибудь зерна.
В 1739 году Людовику XV показывают хлеб из папоротника; это доказывает, что индустрия развивается, но муки становится меньше.
Земля голодала, как и народ; пока в хлеву была корова, а в конюшне – лошадь, земля получала свою долю навоза и в обмен давала урожай; но фискальная служба забрала лошадь, прислужники короля вынудили продать корову, и земля первой умирала от голода.
Во многих местностях перестали пахать землю и сеять, а в других крестьяне собственными руками вырывали виноградные лозы.
И не имело значения, что закон запрещал забирать лемех плуга и судебный пристав не мог его продать; зачем нужен лемех, если нет более ни лошади, ни коровы, чтобы тащить плуг, и нет зерна, чтобы бросить его в борозду?
Однажды Людовик XV охотился в Сенарском лесу и встретил столяра, несшего гроб.
Людовик XV очень боялся смерти, однако любопытство взяло верх:
– Куда ты это несешь, приятель?
– В Брюнуа.
– Это гроб?
– Конечно, такое ведь случается.
– Для мужчины или для женщины?
– Для мужчины.
– От чего он умер?
– От голода!
На сей раз король знает правду, ведь это ему дан ответ, но что ему до этого, ведь он никогда не умрет от голода.
Вот если бы королю сказали: «Он умер от чумы», он бы бежал, опасаясь подцепить заразу.
Однако наступит день, когда королей настигнет голод, как других настигают болезни.
– Хочу есть! – скажет матери маленький дофин, возвращаясь из Версаля.
– Хочу пить! – скажет матери дочь короля, возвращаясь из Варенна.
– Хочу пить и есть! – скажет в Тампле Мария Антуанетта.
Но Людовик XV знал, что машина, какой бы разлаженной она ни была, будет существовать столько же, сколько и он сам.
– После меня хоть потоп! – говорил он.
Потоп начался, и королю не нашлось никакого иного ковчега, кроме эшафота.
Так кто же привел Людовика XVI на эшафот? Народ?
Нет! Его привели туда дворянство и духовенство. Народ лишь смотрел, как это происходило, и только.
Так из-за чего же монархия развалилась? Мы это уже сказали: из-за денег.
Откуда поступали деньги? От налогов.
Кто платил налоги? Народ.
Дворянство налогов не платило; духовенство их тоже не платило.
Правда, дворянство платило налог шпагой: до 1674 года именно оно поставляло то, что называлось всеобщим ополчением знати, и лишь оно, или почти лишь оно, давало армии офицеров.
Что же касается духовенства, то оно вообще ничего не давало: оно брало.
Людовик XVI появился на свет в несчастный день; он родился ущербным и неполноценным; был плохо воспитан, хотя его воспитанием занимался иезуит; это ему король обязан своей умственной ограниченностью и своим двуличием: настроенный против англичан и австрийцев, на помощь себе он призвал заграницу.
Ставя свою подпись под его приговором, Карно пролил слезу; Карно – это сама история, которая судит виновного, приговаривает его к смерти и при этом оплакивает его осуждение и его приговор.
«Праведные его простили, праведные его осудили на смерть», — говорит Мишле.
Дело в том, что этот приговор скорее был приговором королевской власти, чем приговором королю.
Существовало еще нечто, чрезвычайно настраивавшее против королевской власти. И это была вовсе не какая– нибудь каста или гильдия; это был не какой-нибудь поэт или экономист, не Вольтер, не Руссо, не Калонн, не Нек– кер; это был враг из камня, гранитный призрак, высившийся при въезде в Париж, неподвижный и страшный, – это была Бастилия.
Чтобы осознать ужас, который вызывали королевские указы о заточении без суда и следствия, нужно изучать историю не по сочинениям историков, а по некоторым мемуарам.
В чьих руках находились эти указы, которыми столь долго распоряжались господа де Ла Врийер и де Сен– Флорантен? В руках дворянства и духовенства.
Эти указы стали предметом незаконной торговли; их продавали мужьям, которые хотели отправить в заточение любовников изменившим им жен; их давали женам, которые хотели отправить в заточение своих мужей; их жаловали отцам, которые хотели отправить в заточение своих детей. Один только Сен-Флорантен за время своего пребывания на министерском посту выдал более пятидесяти тысяч таких указов.
Во Франции было восемнадцать или двадцать Басти– лий, и та, что находилась в Париже, в определенном смысле занимала среди них верховное положение.
Откуда раздался громовой голос Мирабо, который первым пошатнул трон? Из замка Иф, из Бастилии.
Вначале там сидели политические узники, а затем те, кого заключили по религиозным мотивам, – протестанты и янсенисты.
От протестантов и янсенистов перешли к литераторам: это были Пеллисон, Вольтер, Фрере, Дидро.
Пока в Бастилию заключали за государственную измену, государственные преступления, богословие, разврат и даже невинность, все шло прекрасно. Вспомните Латюда.
Но туда заключили мысль!
А мысль – это пар, это электричество, это порох!
Вот мысль и взорвала Бастилию.
И через брешь, пробитую мыслью, 14 июля 1789 года народ вошел в Бастилию.
Кто приказал разрушить Бастилию? Парижский муниципалитет, то есть народ.
– Надо же, – восклицает король, – да он силен!
Да, он действительно был силен; но дело в том, что народ начал говорить не «Мы хотим», как король, а «Я ХОЧУ».
Когда же он родился, этот народ?
Мы это уже сказали: в 1002 и 1008 годах, вместе с первыми коммунами.
А когда он возмужал?
В день созыва Генеральных штатов.
Ему понадобилось около восьмисот лет, чтобы достичь совершеннолетия.
Но, подобно Спартаку, ему еще оставалось снять с ноги железное кольцо, а с руки – обрывок цепи; этим кольцом на ноге и этим обрывком цепи на руке были феодальные права сеньоров. Если бы дворянство не избавило от них народ, то существовала бы угроза, что они послужат народу для того, чтобы наносить ими удары.
Следовало пожертвовать народу немногое, чтобы сохранить главное.
После 14 июля 1789 года народ стал пятой основной стихией.
В то время жил человек, унаследовавший от своего двоюродного деда королевские права, которые он осуществлял главным образом в двух южных провинциях Франции: это был молодой герцог д'Эгильон, внучатый племянник Ришелье.
После короля герцог д’Эгильон был самым богатым дворянином Франции; возможно, он был даже богаче его. Он ощущал, что его ненавидели; его отца, коллегу аббата Терре, все презирали.
Вместе с Дюпором и Шапелье он стал членом Бретонского клуба и первым выдвинул предложение – скорее политическое, чем благородное – предоставить крестьянам право выкупа феодальных прав на умеренных условиях.
Виконт де Ноайль пошел еще дальше (правда, он был младшим сыном в семье и не имел ни гроша): он предложил уничтожить феодальные права без всякого выкупа, и предложил он это не в клубе, а на заседании Национального собрания, поскольку ему хотелось вырвать инициативу из рук герцога д'Эгильона.
Такое предложение показалось странным, ибо оно ничем не было обосновано. Оно было встречено Национальным собранием, а вернее, четвертью его, рукоплесканиями, и не более того.
Предложение герцога д'Эгильона произвело совсем иное действие.
Поясним, в какой момент оно прозвучало.
Со всех сторон приходили зловещие новости. Провинции были охвачены огнем, горели замки, и накануне голосованием были приняты законы против поджигателей.
Герцог д'Эгильон поднимается на трибуну.
– Вчера, господа, когда я вместе с вами голосовал за принятие этих законов, – произносит он, – меня охватило сомнение, и я спросил себя, так ли виновны эти люди, как нам это представляют.
И он перечислил злоупотребления феодалов, ожесточившие народ и заставившие его подняться и вооружиться против дворянства.
После него, облаченный в бретонский костюм, на трибуну поднимается депутат от Кемпера, Ле Гоазр де Кер– велеган, и укоряет Национальное собрание за то, что оно не предотвратило поджоги замков.
Собрание громко возмущается. Как оно могло предотвратить преступления, о которых не было известно?
– Отменив несправедливые права! – отвечает бретонец. – Заклеймив позором чудовищные законы, которые впрягают в одну телегу человека и животное и оскорбляют чувство стыдливости!
– Знаете ли вы, как далеко распространяются эти права? – звучит голос другого депутата из Нижней Бретани. – Такой-то сеньор (и он называет имя) обладает правом, передаваемым от отца к сыну вот уже шестьсот лет, вспороть по возвращении с охоты, если ему холодно, живот двум своим вассалам и согреть свои ноги в их внутренностях!
– Так вот, – продолжает свою речь Ле Гоазр де Кер– велеган, – будем справедливы: пусть нам принесут сюда эти грамоты, памятники варварства наших отцов, и пусть каждый из нас устроит искупительный костер из этих постыдных пергаментов.
Воодушевление росло, каждый хотел принести свою жертву. Господин де Фуко потребовал, чтобы вельможи пожертвовали жалованьями, пенсиями и д а р а м и, полученными ими от короля. Госпожа де Полиньяк незадолго до этого получила от королевы пятьсот тысяч франков в качестве приданого своему новорожденному ребенку.
Господин де Богарне предложил сделать наказания одинаковыми для дворян и простолюдинов, а должности доступными для всех.
Господин де Кюстин заявил, что условия выкупа – хорошенько запомните это слово, ему предстоит сыграть важную роль в русском вопросе, – так вот, г-н де Кюстин заявил, что услувия выкупа очень тяжелы для крестьянина и потому следует ему помочь.
Господин де Ларошфуко, распространив выдвинутое предложение на все человечество, потребовал отмены рабства негров.
Другой депутат потребовал сделать суды бесплатными.
Дело шло к тому, чтобы отдать все тем, у кого прежде все было отнято.
– Ну а что могу отдать я, – воскликнул граф де Вирьо, бедный дворянин из Дофине, – когда у меня самого ничего нет?! Разве что Катуллова воробья! Я предлагаю разрушить феодальные голубятни.
Монморанси потребовал, чтобы все эти предложения были превращены в законы.
Потомок первых христанских баронов, он прекрасно знал нашу французскую натуру, воспламеняющуюся, словно порох, но, как и порох, быстро гаснущую и не оставляющую после пламени, света и грохота ничего, кроме облачка дыма.
Председатель Национального собрания прервал его, отметив, что господа депутаты от духовенства еще не заявили ни о какой жертве – ни от своего собственного имени, ни от имени Церкви.
Епископ Нанси поднялся и от имени церковных сеньоров потребовал, чтобы полученные в качестве выкупа деньги не отходили к нынешнему собственнику, а стали бы предметом вложения, полезного для самого бенефиция.
Епископ Шартрский предложил упразднить феодальное право на охоту, что сильнее ударяло по дворянству, чем по духовенству.
– Ну, раз ты забираешь у меня охоту, – со смехом воскликнул герцог дю Шатле, – то я забираю у тебя твою десятину!
И он предложил, чтобы десятина натурой была переведена в денежное обязательство, которое при желании можно было бы выкупить.
Воодушевление все возрастало, и эгоизм духовенства не мог его умерить: деньги были принесены в жертву, гордость была принесена в жертву и даже обычаи были принесены в жертву.
От одного удара топором рухнул дуб феодализма, в течение тысячи лет затенявший Францию.
Правда, удар этот нанес дровосек, чьим именем была Свобода.
«После этой чудесной ночи 4 августа, — восклицает Мишле, – нет больше сословий – есть французы, нет больше провинций – есть Франция!»
Да, ибо многотрудная эпоха, эпоха мысли, закончилась, и оставалось лишь воплотить эту мысль в жизнь.
И труд этот ведется вот уже семьдесят лет, и каждый вносит в него свою лепту, и деспот, и трибун:
Наполеон – свой Кодекс, устанавливающий равенство;
Людовик ХУЛ! – свою Хартию, устанавливающую свободу;
1830 год – снижение избирательного ценза и приход к власти буржуазии;
1848 год – всеобщее избирательное право и приход к власти народа.
Не может быть противодействия прогрессу в стране, где на тридцать шесть миллионов человек приходится пять миллионов земельных собственников и пять миллионов промышленников, а главное, где все имеют право голосовать.
Перейдем теперь к русскому вопросу, с которым, как сейчас станет понятно, в определенной степени связаны оба только что написанных нами очерка.
VIII
Мы не станем указывать границы Российской империи подобно тому, как выше нами были указаны границы империи Августа и империи Карла Великого, ибо ее границы расширяются с каждым днем.
Она одна забрала себе половину Европы и треть Азии и представляет собой девятую часть суши.
Ее население в 1820 году составляло сорок миллионов жителей, в 1822-м – пятьдесят четыре, в 1823-м – пятьдесят девять, а в 1828-м – шестьдесят. Сегодня оно составляет шестьдесят четыре миллиона.
Полагаю, что оно увеличивается на пятьсот тысяч душ ежегодно.
Ее земля способна прокормить сто пятьдесят миллионов человек, так что у населения еще есть время и возможность расти.
Она владеет теперь в Европе – а это единственная часть империи, где перепись может проводиться более или менее точно, – двумя с половиной миллионами финнов, пятьюстами тысячами немцев или скандинавов и пятьюдесятью четырьмя миллионами славян, из которых четыре миллиона составляют поляки.
Россия разделена на три региона, а вернее, на три пояса: теплый пояс, начинающийся на широте 40°, умеренный пояс, начинающийся на широте 50°, и холодный пояс, начинающийся на широте 57°.
В умеренном поясе живет в три раза больше жителей, чем в двух других.
Во всех трех поясах может вызревать бблыпая часть зерновых культур и фруктов; во всех трех пасутся бесчисленные стада животных всякого рода – от верблюдов, живущих в раскаленных экваториальных песках, до северных оленей, живущих в полярных снегах.
Многие из этих животных дают великолепную пушнину; из Сибири поступают куница, голубой песец, чернобурая лисица, белка, бобр.
Морские звери, из которых добывают жир, в изобилии водятся в ее северных морях, а ее южные моря богаты рыбой.
Одно только ее Переславское озеро поставляет сельдь всей России, а ее Каспийское море – черную икру всей Европе.
И наконец, ее каторжники – а число их долгое время было слишком велико – разрабатывают неисчерпаемые залежи железа, меди, платины, серебра и золота.
История первых восьми веков России неизвестна, а скорее, просто не существует; это тот круг Дантова ада, что принадлежит мраку, в котором можно разглядеть лишь тени, чуть более плотные, чем сам этот мрак.
Тени эти – переселения диких народов, сражения Азии с Европой, Востока с Западом; готы, направлявшиеся заселять Испанию; кимвры и тевтоны, шедшие сражаться у Акв и Верцелл; и, наконец, герои гиперборейских морей, оживавшие лишь в хрониках Иордана и в стихах Оссиана.
Первый исторический след, который вы находите, чтобы ориентироваться в этой тьме первых веков, – это одна старая летопись, основывающаяся, вероятно, на древних преданиях и народных сказаниях.
Послушаем же этот голос, звучащий в предрассветных сумерках, в часы между забрезжившей зарей и наступающим днем.
«В те времена — дело происходило в IX веке – дух независимости стал будоражить великий город; Новгород утратил свое верховенство, а держава утратила свое единство. Варяги-русь пришли с севера, неся войну, и побежденный Великий град, бывший прежде царем, превратился в данника.
И тогда наступила великая смута; однако народы, потерпевшие поражение от угров, ослабленные повальной болезнью, притесняемые варягами, пришли к Гостомыслу, потомку своих прежних вождей, и попросили его властвовать над ними. Война оказалась успешной для славян: варяжский князь взял в жену Умилу, дочь Гостомысла; он увез ее в Финляндию, и она стала матерью великого Рюрика.
Гостомысл был мудрым вождем: его слава привлекала из самых отдаленных земель множество князей, прибывавших к нему по суше и по морю, чтобы обратиться к нему за советом и набраться подле него знаний. Но вот пришло время, когда он созвал старейшин от славян, руси, чуди, меров, кривичей, дряговичей и муромы и сказал, обращаясь к ним:
– Не вижу я согласия между вами; вы хотите править собою сами, однако вами правят ваши страсти. Великий Новгород погибнет, если вы сами не выберете князей, достойных вести вас за собою. Три мои сына умерли, и ваше спасение лишь в трех моих внуках, варяжских князьях Рюрике, Труворе и Синеусе.
Сказал он так и умер. Последовав его совету, самые уважаемые горожане отправились к трем варяжским князьям.
– Страна наша велика и обильна, – сказали они, – но порядка в ней нет. Приходите княжить в ней по нашим законам.
Князья засомневались, ибо им были известны гордыня Новгорода и царивший в нем разлад; тем не менее они водворились в Ладоге, в Белоозере и в Изборске.
И лишь три года спустя, в 864 году, после смерти двух своих братьев, Рюрик водворился в Новгороде».
И в самом деле, Новгород был в ту пору столь могуществен, что бытовала поговорка: «Кто против Бога и Великого Новгорода?»
Рюрик напал на Великий Новгород и подчинил его себе.
И вот тогда, поскольку его братья умерли, он стал зваться великим князем; то ли насильно, то ли по взаимному согласию все города, а вместе с городами, разумеется, и зависящие от них земли были розданы его дружинникам.
Страна, разделенная таким образом между дружинниками Рюрика, сделалась русской. Именно в это время РОССИЯ, собственно говоря, требует себе место на карте мира, и как раз с этого времени, а не с указа Бориса Годунова, как утверждают многие, в России установилось рабство.
Посмотрим, однако, какими были, а точнее, какими должны были быть здесь первые рабы: обитали ли они изначально на землях, уступленных варяжским князьям, или же появились там вследствие завоеваний регента Олега, ставшего подлинным преемником Рюрика и правившего от имени своего воспитанника Игоря, весьма посредственного монарха, хотя и сына великого человека.
Мы уже показали, как рабство установилось в Италии и как оно оставалось там рабством; мы показали, как рабство установилось во Франции при Меровингах, как оно превратилось там в крепостную зависимость при Каролингах и сменилось свободой при Капетингах или, по крайней мере, при Людовике XVI, последнем из них.
Римляне захватывают невозделанные земли и основывают на них город. Поскольку этот город не был завоеван ими у какого-нибудь другого народа, в его стенах живет вначале лишь свободный народ, разделенный на два сословия – патрициев и плебеев. Однако затем Рим захватывает всю Италию, из Италии переходит в Грецию, из Европы – в Азию и Африку и обращает в рабство воинов, плененных во время сражений, и народы, захваченные вследствие этих сражений.
И потому, за исключением постоянно происходившего освобождения отдельных рабов, рабство в Риме не претерпевало никаких изменений вплоть до того дня, когда Цезарь, предвестник Христа, провозгласил равенство, призвав к власти всех умных людей.
Однако лишь Христос провозгласил свободу.
Франки, подобно римлянам, захватили Галлию, но, вместо того чтобы уважать, как это делал Цезарь, свободы и вольности завоеванной страны, они обратили галлов в рабство.
В предыдущих главах мы видели, как национальная династии боролась против династии завоевателей; как еще при династии завоевателей создавались и укреплялись коммуны; и, наконец, как за одну ночь 4 августа 1789 года последние цепи, которые сковывали народ, были разбиты, а последние привилегии, которыми кичилась знать, были упразднены.
В русской истории нет ничего похожего на нашу, французскую историю; и если она и обладает какими– нибудь чертами сходства, то уж скорее с римской историей.
Русские летописи категорически утверждают, что начало русской нации было положено не завоеванием, а добровольным призывом князей.
У нас все проистекает из завоеваний.
В России же все проистекает из добровольного призыва князей, то есть неоспоримого завладения, полюбовной сделки.
Правда, в те изначальные времена добровольный призыв князей и завоевание чрезвычайно напоминают друг друга.
Однако примечательно то, что во всех землях, уступленных Рюрику, не случилось восстаний: их не было ни в Ладоге, ни в Белоозере, ни в Изборске. Новгород же не был уступлен, он был завоеван.
Вадим, глава республиканской партии, восстает против Рюрика, и Рюрик, в определенном смысле в первый раз отвоевывавающий Новгород, делает его своей столицей.








