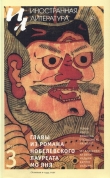Текст книги "Non Cursum Perficio (СИ)"
Автор книги: Heart of Glass
Жанр:
Мистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 48 страниц)
Элен погибла, она приняла страшную смерть. И уже много лет молчат связавшие их когда-то воедино узы, и уже много лет память не тревожит Поля – даже там, где горит галогеновый свет… Бонита точно знал: Ливали мертва. Их связь разорвалась в ту поистине жуткую ночь, когда на Поля, уже покинувшего Озёра и их клин, обрушилась вся боль, весь страх Элен.
Изматывающее, иссушающее, безумное страдание – и вслед за тем серая стылая пустота. Без мыслей, без чувств. Бонита мог только догадываться, что сталось с его бывшей возлюбленной – правды он не хотел. Но Ливали погибла, и вместе с её смертью, с исчезновением уз закрылась дверь в Некоузье и всю прошлую жизнь Поля. Намертво. Раз и навсегда.
Так откуда теперь эти мысли, словно пробирающий ознобом стылый сквозняк – вначале о Гильдии, а потом о пророчестве и Игле Хаоса?..
–…комендантский час, – услышал какой-то обрывок фразы Бонита. Вынырнув из омута памяти, он очнулся и с отчаянным криком отпустил трубу батареи. Обожжённая ладонь болела так, что на глаза невольно навернулись слёзы. Морок в чёрном таращился на смятенного Бониту одним антрацитовым глазом – второй закрывала длинная чёлка. В этом взгляде было некоторое абстрактное сочувствие и капля недоумения. Ни попыток предложить помощь, ни желания уйти незнакомец не проявлял – он просто молча стоял напротив, не шевелясь, и смотрел. Видимо, Поль производил впечатление маловменяемой личности – и причём настолько маловменяемой, что обитатель Антинеля решил не делать резких движений, чтобы хуже не стало. Полю сделалось так стыдно, что он едва не сбежал, но Бонита всё-таки нашёл в себе силы извиниться. Прижимая к губам обожжённые пальцы, он несколько невнятно простонал:
–Простите, ради Бога… Я, должно быть, напугал вас… я не хотел, так получилось… простите.
–Вы – напугали меня?.. – мужчина изумлённо моргнул и спустился ещё на пару ступенек вниз.
–Как мило. К вашему сведению, в Антинеле нет ничего и никого, что может меня, как вы тут выразились, напугать. Скорее, несколько наоборот. Так вы в курсе, что уже через десять минут начинается комендантский час?
–Нет, – истерзанно отозвался Поль. Он всё ещё был не в силах перестать вздрагивать и отнять от лица отчаянно болевшие руки. Но, по крайней мере, всё же смог отвести безумный взгляд от своего собеседника. Снег, и тьма, и пламя… откуда-то я знаю его голос, такой бархатистый, но как будто чуть придушенный, с едва заметной хрипотцой, откуда? Где я его уже слышал?..
–А что за комендантский час? – решил на всякий случай уточнить Поль, а то вдруг он тут по незнанию чего-то нарушает. – Я, простите, не местный, я приехал из Марчеллы, из СИИЕС.
–О?.. – незнакомец по-птичьи склонил голову набок, и тут бедный, и без того измученный Поль узнал этот голос – голос человека, с которым он договаривался сегодня о встрече, голос директора Антинеля, он же Норд, он же (по классификации С. Седара) траурный моль…
–Я Поль Бонита, директор СИИЕС, – обморочно простонал химик. Звучало это примерно как «Пожалуйста, пристрелите меня, чтобы не мучиться!».
Норд подошёл ещё на шажок и чуть наклонился, вглядываясь в бледное треугольное личико Поля с отчаянными серыми глазищами и мелкими веснушками, обрамлённое каштановыми кудрями. Ему было удивительно, как это они так встретились: не в кабинете, за протокольным кофе и безликими вежливостями, а на лестнице в десятом, отданном волновикам корпусе, вокруг волшебного ведра с противопожарным песком.
Норду вообще всё нравилось подолгу рассматривать, а рассматривать Бониту было вдвойне интересно, потому что он был нездешний. Оттуда, из другого мира, спрятанного за каштанами и соснами, за кованой железной оградой – из мира, в котором Норд бывал очень редко, и потому одновременно опасался и любопытничал. А еще на директора НИИ Поль, с точки зрения Норда, был совершенно не похож. Не то тесто, не та душа. Мандариновый Сао Седар, хоть и предатель, людей видит и понимает сердцем, на инстинктах – он был прав, когда говорил, что Бонита этот погибает на своём посту. Его кошачья душа хочет событий, тайн, ночных вылазок по чердакам и гребням крыш при полной луне – а какие тайны и события в скучном, как тарелка остывшего супа, СИИЕС? Вот Антинель – это совсем другое дело…
–Поль Бонита… – негромко проговорил Норд, пробуя на вкус это имя. Поль поднял голову, глядя с вопросом и непонятной, глубоко спрятанной просьбой. Словно он задыхался, и лишь Норд мог открыть перед ним дверь или окно, дать ему глотнуть свежего воздуха и тем самым помочь выжить.
…а Поль действительно задыхался сейчас своим пониманием – да, это та самая Игла хаоса из древнего пророчества ведьмы-пряхи Танари, заключённая в человеческое обличье, в директора Антинеля Норда. Норда… «Когда встанешь к Северу лицом, увидишь – острие Иглы указывает на Запад», – вспомнил Поль, и его взгляд замер на узоре из родинок на фарфорово-белом лице Норда. Этот узор складывался в петельку, в игольное ушко, и наискосок через щёку и скулу прямой линией уходил влево, под высокий воротник блузы. Неужели?..
Увидеть бы само острие, и сомнений не останется: это не морок, не игра воспалённого воображения и растревоженной памяти. И перед Полем сейчас стоит тот, кому предназначено зашить, исцелить раны его родной земли. Его проклятой земли, разодранного гражданской войной Некоузья. Увидеть бы… убедиться бы…
И тогда, не давая себе времени на раздумья и сомнения, Бонита выдохнул сквозь стиснутые зубы, сделал шаг вперёд и вцепился не успевшему даже ахнуть Норду в высокий воротничок. Рванул его левый угол вниз – с такой силой, что с блузы с треском отлетело несколько пуговиц, раскатившихся по лестничной площадке, словно мёртвые птичьи глаза. Порванный чёрный шёлк соскользнул с левого плеча, Норд попытался прижать его растопыренными пальцами, но поздно: Бонита уже увидел. Вот оно, продолжение иглы – две родинки сбоку на шее, потом ещё три, одна за другой, над ключицей. И самая последняя, как бы в завершении узора – похожая на повисшую на острие иголки каплю. Всё. Это приговор. Плотина памяти рухнула, запертую в Некоузье дверь сорвало с петель ураганом, и снова от Поля больше ничего, ничего не зависит в этой жизни – он Лучник, хоть и потерявший свою Стрелу, и его судьба навек подчинена пророчеству Тэй Танари.
Как и судьба Норда.
–Светлые небеса… – Поль со стоном попытался нащупать за своей спиной подоконник – ноги его не держали, все кудряшки нервно тряслись, словно усики испуганного насекомого – но не преуспел. Поэтому он просто привалился к стене, всё так же неотрывно глядя на указывающее на Запад острие иглы. Норд же, в первую минуту после наскока Поля впавший от изумления в форменный столбняк с утратой всех рефлексов, к этому времени слегка очнулся и опять-таки удивился. Поступок Бониты был настолько диким и несуразным, что ничего, кроме удивления, вызвать у Норда не смог. Он даже не сумел толком разозлиться.
Выгнув брови в жесте озадаченного недоумения, директор Антинеля отследил траекторию остекленелого взгляда Бониты и тоже посмотрел на своё фарфорово-белое плечо. Провёл по нему тонкими пальцами, подтянув сползший и разодранный рукав; потом в чёрных глазах Норда явно мелькнула тень понимания, и он утешающе обратился к зеленоватому с лица Боните:
–Нет-нет, успокойтесь, выжженной лилии нет… я не ваша жена миледи Винтер, можете так не переживать… стрессы, они ведь сокращают жизнь… может, дать вам нашатырки?..
На этом лирическом моменте сознание предпочло милосердно покинуть бедного профессора химии, сползшего на пол головой в волшебное ведро с противопожарным песочком…
====== 23. Алюминиевый трамвай с красными дверями ======
Про уставшее министерство здравоохранения
За окном всё то же – и к чёрту его. Интересно, когда в этом году Пасха? Перед ней жизненно необходимо, а) помыть окна б) покрасить яйца, но можно и наоборот. Март, корчась, умирает в каменных подворотнях продуваемого всеми ветрами, пропахшего дымом из высоких заводских труб Фабричного квартала. А на круглых балконах красных кирпичных домов хлопает, гневно стряхивая прищепки, накрахмаленное бельё, постиранное в цинковых тазах, в гулких сырых прачешных.
У Камилло в квартире не было балкона. Посему он, скрипя через шесть этажей старыми костями, словно довоенный лифт, сполз покурить в холл. Курение всегда способствует созерцанию мира, вот Диксон и созерцал в высокое закопченное окно уходящую по биссектрисе Текстильную улицу.
Знакомый до последней мелочи, набивший оскомину пейзаж. Выстроенные в тридцатых годах краснокирпичные дома. Охреневшие от долгой зимы воробьи. Водонапорная колонка на углу; возле неё молодая псина усердно пытается лизнуть отражающийся в луже горящий фонарь.
«Стою и курю себе на здоровье, – мрачновато мыслил Камилло, выдыхая терпкий дым, – и нет Рыжика, чтобы меня ругательски поругать и отнять всю пачку. Потом он обычно выползает потихонечку из квартиры ужом, чтобы подымить в подъезде в открытую форточку, простужается и пьёт ночью горячее молоко с мёдом, а пенки из него вынимает и подсовывает мне в чашку…».
Словно в ответ на его мысли, старенький Камиллов мобильник-доходяга ожил вдруг в кармане и стеснительно потыкался в Диксонову ногу.
–Да? – держа сигарету на отлёте жестом чикагского мафиози, куртуазно осведомился Диксон.
В трубке протестующе зашуршало.
–Нет! – ответил невыносимо далёкий голос Рыжика, то и дело пропадающий за помехами, как лунный свет за тучами в непогоду. – Неужели нельзя придумать что-то более креативное, старая ты консерва?.. Всё-таки тебе не что-то типа президента США звонит, а целый даже я!
–Эм… Я так понял, за вопрос «как дела» меня вообще злобно запинают ногами?..
Рыжик обрадовано хихикнул, помолчал чуть-чуть и вдруг зловеще проскрипел:
–Вы всё ещё курите? В каждой третьей пачке сюрприз – сигареты с добавлением хлорциана! Минздрав задолбался предупреждать… Так вы всё ещё курите?..
–Что ты! – тоном гимназистки у гинеколога воскликнул Камилло, суетливо швырнув окурок в форточку. – Даже и не думал!
–Ага. Ну-ну. Конечно, – голос Рыжика неожиданно раздался не из хрипевшей телефонной трубки, а где-то рядом. Камилло, обалдело обернувшись, увидел своего найдёныша входящим в подъезд с милой, не обещающей ничего хорошего усмешечкой на фарфоровом лице.
–Ну и что у вас есть сказать в своё оправдание, господин Диксон?!
Камилло развёл руками с огорчённым видом – дескать, нечего.
–Тогда… тогда… – Рыжик прищурился, притопывая остроносым сапожком и в раздумье водя пальцем по губам, – та-ак, какое бы тебе наказание придумать? А?
–Не надо меня наказывать. Я торжественно клянусь больше не курить, не воровать варежки и носки с распродаж, в срок возвращать книги в библиотеку и не подкладывать соседям под коврик у двери тухлые яйца! – растопырив для убедительности усы, пообещал Диксон и уцепил Рыжика под локоть. – А пока предлагаю отметить начало антиникотиновой кампании концом субботнего супца с шампиньонами и брокколи!
–А-а! Стой. Какой субботний супец, сегодня же пятница! – Рыжик в ужасе натянул себе на глаза свою вязаную шапочку с пушистым помпоном. Этот кошмарный кич в цветовой гамме «Ночь в Мордоре» был выкраден им из закромов Мишеля – во-первых, из чувства личной мести, во-вторых, из-за очаровавшей Рыжика вышивочки в виде спящего Ктулху. А шарф с мрачными красноглазыми кильками ему подарил щедрый хирург Баркли, который, как ни пытался убедить Рыжика, что на шарфе вышиты улыбающиеся сердечки, так и не смог…
–Вот именно, сегодня уже пятница! Жизненный цикл супца близок к закату. Поэтому продукт нужно либо вылить, либо съесть. Третьего не дано. Но поскольку я боюсь, что он растворит мой унитаз, придётся всё-таки съесть…
–Ещё один вирусолог хренов, – Рыжик ущипнул Диксона через пальто, вырвал из него клок шерсти, страшно изумился и отстал. Вдвоём они ввалились в полуторку Камилло, наполнив её светом, восклицаниями и смехом. Улыбаясь и стаскивая ботинки, Камилло внутренне корчился от желания спросить: «Ты ко мне навсегда, или?.. Или сколько счастья нам отмерила судьба?».
–Я до понедельника. Ну, в гости на выходные, как бы. В понедельник, в пять утра, мне нужно будет… обратно, – Рыжик положил руки в кожаных перчатках на плечи Камилло, молчаливо подтверждая: да, я здесь, рядом с тобой. Улыбнулся во весь рот:
–Но это ведь так нескоро, верно? Через целых два дня. Давай не будем заранее огорчаться? И сейчас громко и внятно скажем категоричное «да!» горячему какао и моим любимым овсяным печенькам…
Белые шторы
Глубокая ночь. Темнота. Март. Тихое, но взволнованное дыхание; зависшая в сантиметре от выключателя рука. Надо бы зажечь свет, но отчего-то боязно. Что-то не так в этой тихой, пустой кухне. Пока что темнота скрывает надлом, раскол, неправильность, но зажги свет – и всё станет ясно. Нет, не зажгу. Не буду. В темноте видны лишь светлые контуры окна со шторами. О, эти невыносимые белые занавески на кухне! Сшить бы из них крылья. Или паруса. А пока они висят, как постиранные после операции накрахмаленные простынки, и воображение дорисовывает на их белизне бурые въевшиеся пятна (пыль), шнуры и трубки от аппаратуры (тени ветвей тополя) и крест распятия (переплёт оконной рамы). Кончиками нервов ощущается изнанка вещей.
А там, в Некоузье, только одна изнанка – бесконечная. И ты вслепую пробираешься по ней, как прошивающая ткань игла, не в силах остановить собственный стежок. Так нужно. Так должно. Ты это знаешь. Песок в волосах, в одежде, на коже. Ветер тащит тебя через каменистые пустыри, через проклятые земли клина, в сердце Некоуза. Туда, где деловитыми гильотинами постукивают колёса алюминиевых трамваев, где жгут воздух ртутные лампы и где, затаившись, лежат на сырой вязкой земле оборванные провода, которые на самом деле совсем не провода…
–Рыжик? Ты что? – он зажмурился от вспыхнувшего света с выражением досады на лице. Под сомкнутыми веками плавали разноцветные пятна-амёбы.
–В чём дело, Камилло? – с нотками раздражённой усталости спросил Рыжик, поправляя на плечах свой чёрный палантин и зябко вздрагивая. – Я тебе опять помешал?..
–Мне… сон плохой приснился. Я подскакиваю – а ты куда-то делся…
Камилло несколько смущённо провёл по усам согнутым пальцем, отступая на шаг в темноту коридора – застеснялся своей байковой пижамки с жёлтым утёнком на кармане. Рыжик слабо улыбнулся. Милый, смешной старикан. Его якорь в реальности… только вот держится этот якорь на шёлковой нитке. Здесь, на самом дне ночи, в её чёрных водах, Рыжик осознал, насколько зыбка его связь со всем остальным миром, с другими людьми. Ослабленные расстоянием, истончаются нити, рассыпаясь под пальцами в труху. Ещё чуть-чуть – и его опять унесёт течением от Камилло, от Дьена, и так и не собранный кубик-рубик выпадет из их пальцев и опять укатится в угол…
Рыжика в этот момент накрыло тёмным крылом печали ни о чём – это бывает, между тремя и четырьмя ночи, в час, когда молчат все души, а небритый санитар накрывает простынкой лицо рассвета… Простынкой. А может быть, белой Камилловой шторой с кухни.
Где-то далеко завыла собака; чуть заметно дрогнули стёкла в рамах. Рыжик встретил взгляд Диксона – танцующая в чужих зрачках фарфоровая кукла с алым лоскутком вместо сердца, как у Дьена на свитере. В прихожей резко и надрывно, словно завопившая посреди рынка кликуша, зазвонил старый телефон. Подпрыгнув на месте от неожиданности, Диксон машинально хлопнул ладонью по выключателю, погасив свет, и тут же испуганно ойкнул. С полминуты оба стояли в тёмной кухне, неподвижные, словно два изваяния. Телефон в прихожей всё надрывался, слой за слоем проламывая обоюдную надежду на ошибку. В его дребезге было нечто маниакальное.
–Стой тут, – велел Камилло тени Рыжика, распластанной по белой ткани шторы, и исчез в коридоре. Хруст выдираемого из розетки штекера, последнее вяканье звонка, удовлетворённое сопение Камилло – но уже поздно. Игла уже проткнула ткань, чтобы выскочить с изнанки…
Рыжик поднёс к глазам край своего чёрного палантина, пряча лицо от вернувшегося на кухню Диксона: не хотел показывать настоящего себя. Торопливый жест из далёкого прошлого, которое сейчас подступило вплотную и взяло за горло с неумолимой силой опытного палача.
Тень на белой занавеске трепетала, словно умирающая серая бабочка. Камилло смотрел на неё, ломкую и истерзанную, и думал о том, что завтра же купит новые шторы. А эти сожжёт. Вместе с остатками зимы, что никак не хочет покинуть его сердце…
–Ты горькой наперстянки мне нарви, – прошептал Рыжик, – приму из рук твоих я искреннюю вечность, и пусть во мне всегда растут цветы…
–Рыженька, ты… что? – Камилло в испуге отвёл от лица его тонкую руку с чёрным оперением палантина – чтобы увидеть фарфоровое лицо дорогой сувенирной куклы с мёртвым взглядом бесстрастных антрацитовых глаз.
–Я пойду… прогуляюсь. К рассвету буду. Не беспокойся, – стеклянным голосом выговорил Рыжик и, пройдя мимо остолбеневшего Камилло, скрылся за глухо лязгнувшей входной дверью.
Диксон закусил губу, чтобы не заорать от отчаяния. Помедлил буквально пару секунд – и бросился торопливо одеваться.
Ночные улицы Фабричного квартала напомнили Рыжику почему-то подземные переходы между станциями Льчевского метро. Камень, эхо шагов, странный, налетающий порывами, словно толчки крови в артериях, ветер с запахом смазочных масел, железа и электричества.
Он плыл по иссохшимся руслам улиц невесомым бумажным корабликом, и до многих мест многих миров, где остались его счастливые воспоминания, было сейчас так близко, что зависало в обморочной паузе тоскующее сердце. Вернуться… воскресить… как хочется. Как страшно.
Наконец-то Рыжик, долгое время летавший иглой по ткани миров и стягивавший собой места, времена, события и людей, почти вплотную приблизился к месту своего первого стежка. Знавшие вышитый им узор запротестовали бы: не здесь, не здесь стальная игла воли милорда вонзилась в ткань событий… Но Рыжик знал, что точка отсчёта не обязана быть в начале. Она может быть где угодно. В том числе – и в месте, которого больше не существует. В мёртвом посёлке Берёзники Некоузского клина.
Поворот. Почтовый ящик на ножках, изумлённо покосившийся набок. Мозаика огней, зыбких и дрожащих, на верхних этажах ведомственного общежития номер сорок пять. Ветер с Пустырей.
–Рыжик! Постой! – его догнал задыхающийся, перепуганный Камилло в натянутом впопыхах наизнанку свитере и в своих любимых вельветовых брюках. Не застёгнутое пальто билось за его спиной, словно два тяжёлых шерстяных крыла с заплатками.
–Рыжик, это же… – суматошный взгляд Диксона зацепился за край торчащей из-за берёзок знакомой высотки. Рыжик обернулся, сжимая в замёрзших пальцах края палантина, и посмотрел на Камилло с печалью. Тяжёлой и всепоглощающей, словно чёрная дыра.
–Этот яд – навсегда в моей крови, Камилло, – тихо и виновато проговорил он. – Я ничего не могу с этим сделать. Но я не могу, не вправе тащить тебя с собой на дно. Поэтому, пока ещё не поздно, обрежь нить – освободи себя.
–А в моей крови – навсегда ты, отрава рыжая, – резко ответил Диксон, немного подумал, весь нахохлившись, как озябшая птица, и прибавил сердито и угрюмо, – как бы глупо это ни звучало. Я иду с тобой, и точка. Я ведь уже говорил тебе. Ты – иголка, я – нитка, и...
–Тшш! – Рыжик неожиданно останови Камилло жестом руки. – Слушай…
Они примолкли, ловя планктон звуков, дрейфующий в темноте. Где-то за берёзовой рощицей размеренно постукивали колёса – то ли поезд, то ли…
–Трамвай, – воскликнул Рыжик, устремляясь вперёд. – Тот, что мне нужен. Номер 67д.
Трамвай номер 67д
Они совсем недолго простояли на остановке – минуту или две. Потом с лязганьем подкатил сотрясающийся всем корпусом алюминиевый, блестящий в свете фонарей трамвай. Над кабиной, затянутой белой паутиной, горела алая табличка 67д – и Камилло почти взаправду увиделась буковка «а» после цифры семь... Со звуком разрываемого картона отъехала в сторону ярко-красная дверь с логотипом депо – вышкой ЛЭП, под которой парит на крылышках нагло улыбающийся трамвай.
Рыжик, ничего не говоря, молча поднялся по ступенькам. Он не хотел звать Камилло Диксона в проржавевший капкан собственной души, не хотел показывать ему изнанку Фабричного квартала – и свою собственную изнанку. На какое-то мгновение ему показалось, что Камилло дрогнул, цепляясь за косяки двери в обыденный, простой и понятный мир, но следующий шаг Диксон сделал вперёд. Через порог. И встал за правым плечом Рыжика, ухватившись за поручень. В слабом свете выкрашенных красным плафонов под потолком его глаза казались вишнёвыми, как у южанина-сакилча.
–Осторожно, двери закрываются, – прозвенел в динамиках высокий и хрупкий, какой-то хрустальный девичий голос. – Следующая остановка – Старое кладбище по требованию. Трамвай работает без кондуктора, за проезд просьба передавать водителю.
Трамвай разогнался, выстукивая по рельсам, словно игла швейной машинки. За стёклами потекла назад тьма с россыпями далёких огней по правую сторону. Приглядевшись, Камилло с изумлением обнаружил, что огни горят внутри высоких прозрачных шахт, уходящих в лохматые мартовские тучи.
–Это никельный завод, – ответил на его невысказанный вопрос Рыжик и кивнул на сиденье.
–Падай, нам далеко ехать. Я пока пойду за проезд заплачу.
Хватаясь за поручни, чтобы не упасть в раскачивавшемся, как кошачья колыбелька, трамвае, Рыжик через весь салон добрался до двери в кабину водителя – при его приближении она бесшумно откатилась в сторону. Стали видны кружевные узоры белой паутины на лобовом стекле, приделанная к стойке вазочка с восемью засушенными бессмертниками, и разложенные на панели на тряпочке непонятные инструменты – они с равным успехом могли служить как для починки трамваев, так и для вскрытия трупов. Камилло передёрнулся от отвращения и страха – ему стало сомнительно, что в этом трамвае за проезд платят деньгами.
Не успел он крикнуть Рыжику какое-нибудь предостережение вслед, как его найдёныш исчез за закрывшейся дверью. Диксон тут же вскочил, повиснув на поручне и пытаясь понять, что происходит в кабине. Звяканье стекла, короткий вскрик... кажется, звук падающих капель... (эх, если бы этот катафалк не грохотал, как ведро с болтами!..), треск разрываемой ткани, два голоса, смешок...
–Я буду ждать ровно час после рассвета, – прозвучал этот нереальный, стеклянный голос, когда дверь вновь откатилась и Рыжик вышагнул из кабины. – Но я не могу обещать тебе большего, утром у нас другое расписание.
–Да, я знаю. Спасибо, – повторив путь по салону, Рыжик очутился возле Камилло и грозно фыркнул на него, – ну, что ты тут болтаешься мокрым полотенцем? Я же тебе сказал, упади и расслабься! Нечего изображать упражнения на турнике, тут трамвай, а не Олимпиада, так что не позорься, сядь, люди смотрят...
Диксон вслед за взмахом Рыжиковой руки посмотрел на остальных пассажиров с маршрута 67д… и безо всяких пререканий плюхнулся на сиденье. Не потому, что в кои-то веки решил послушаться – просто ноги подкосились и язык к зубам прилип от ужаса.
В районе первой двери дремала, прислонившись виском к стеклу, девушка в чёрном пальто – в ладони её свесившейся к полу руки зияла сквозная дыра. Сбоку от них, тихо перешёптываясь, ехали ещё две девицы в длинных синих платьях; когда одна из них обернулась, Камилло увидел на её щеке узор из вшитых под кожу нитей медной проволоки. А на задней площадке читал газету «Изборские дни» невысокий крепкий мужчина с зашитым ртом.
–Мы с тобой на фоне прочей публики – самые нормальные во всём трамвае, – шепнул Рыжик на ухо Диксону, чтобы подбодрить. – Не бойся, им до нас нет никакого дела. В Некоузье ко всем нормально относятся, кроме ведьм. Они всех людей презирают, а водителей трамваев ненавидят и боятся, и вечно им пакостят... могут стрелку прямо перед вагоном перевести, или на рельсы разрыв-траву кинуть. Но это обычно днём, а ночью даже ведьмы стараются не перебегать дорогу обитателям трамвайного депо.
–А кто эти водителя трамваев? – одними губами спросил Камилло, косясь на дверь в кабину.
Рыжик, по-кошачьи сгорбившись, сидел рядом – лица за длинной чёлкой не видно.
–Как тебе сказать, – тихо отозвался он, поёжившись. Диксон поправил ему съехавший с плеча палантин и заметил край лежащего на колене ветхого, истлевшего бинта в пятнах йода и крови.
Рыжик, не обратив внимания на округлившиеся глаза Камилло, задумчиво продолжал, заворачиваясь в палантин:
–По поверью, когда в Депо, на озёрах, был зажжён первый ртутный фонарь, туда пришли они. Не обретшие покой. Их всех притянуло ртутью. Они очень разные, эти странные существа, населяющие трамвайное депо... Ну, а водители трамваев – это опоздавшие на поезда пассажиры, которым удалось избежать окончательной гибели. Это очень немногим удаётся... по разным причинам.
Рыжик вздохнул, понимая, что поступает сейчас как человек, дающий клубок шерсти не в меру резвому котёнку. Даже он сам, многое повидавший в мирах, изумлялся диким, невероятным правилам, законам и ритуалам Некоузского клина. Что уж говорить о Диксоне, просидевшем всю жизнь дома, в уютном гнезде, на... гм... яйцах. Хех.
Выслушав захватывающую информацию и с грехом пополам переварив её, Диксон вернулся к волновавшей его проблеме – то есть невесть откуда взявшемуся у Рыжика на запястье бинту.
–Так... а это что? – Камилло тронул кончиком пальца пожелтевшую от старости марлю.
–Диксон, ну ты что, не видишь сам? Это бинт, – слегка раздражённо пожал плечами Рыжик в ответ, запихивая повязку под манжету, чтобы не торчала. – Водитель мне от своего рукава оторвала, должно быть, я ей понравился, – Рыжик кивнул в сторону кабины. – Здесь ведь за проезд не деньгами платят...
Диксон, всё поняв, прикусил губу и опять поправил Рыжику его чёрный палантин в попытках хоть как-то посочувствовать.
Трамвай сбавил ход, в динамиках прозвенело: «Старое кладбище!».
На этой остановке в салон вошли две девочки с корзинками, лет семи-восьми на вид, в одинаковых небесно-голубых шапочках и пальто. Та, что с косичками, прошептала что-то коротко стриженной, деловито выудила из кармана аптекарский пузырёк с тёмной жидкостью и пошла к кабине.
–Проездной – дёшево и сердито, потому что можно не свою, – откомментировал Рыжик вполголоса. Девушка с медной проволокой на щеке обернулась к нему, откинув за плечо гриву пепельных волос:
–Что, правда? А мы не знаем, что так можно, платим своей всякий раз...
–Ну и зря, экономика должна быть экономной, – попенял им Рыжик. Девушки тут же оживлённо защебетали о чём-то, и мужик на задней площадке неодобрительно зашуршал газетой. Трамвай неожиданно дёрнуло, протестующе завизжали рельсы, и Диксон непроизвольно вцепился в Рыжика сразу двумя руками.
–Стрелку проходим, – сообщил тот, видя перекошенную физиономию Камилло, успевшего придумать тридцать три наиболее жутких объяснения происходящего – от украденных шпал до захвата трамвая террористами. – Сейчас свернём на Центральную линию и поедем с комфортом, её отремонтировали недавно...
Вагон меж тем ещё с минуту трясло так, словно он ехал не по рельсам, а по битому щебню. Потом под полом что-то громко хрустнуло, лампы разгорелись ярче, и болтанка наконец-то прекратилась – трамвай полетел вперёд с лёгкостью скользящего по горячей сковороде куска масла. До следующей остановки они домчались буквально в мгновение ока.
–Стрелка, – зазвякала водитель по внутренней связи, – переход на Сортировочную линию. К трамваям до Сквера – налево, к трамваям до Изборского НИИ – в подземный переход. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Центральный вокзал клина.
Школьницы, стоя возле дверей, по очереди дышали на стекло и рисовали на нём глаза с длинными ресницами, постоянно озираясь и нервно хихикая. Девушка с узором на щеке косилась на них с явным осуждением; время от времени по нитке бус-чёток в её руке пробегали дрожащие голубые огоньки. С задней площадки доносилось раздражённое бульдожье сопение мужичка с газетой.
–Он с никельного завода, – сказал Рыжик тихонечко, просовывая озябшие руки под локоть Диксона и упираясь подбородком в его плечо. – Никельщики работают в шахтах, глубоко под землёй, где они приманивают пласты металла своим пением. Только никель не любит слов, боится их – вот рабочим и зашивают рты, чтобы не спугнули ненароком. Когда идёт пласт, бригада поёт, не размыкая губ, и медленно поднимается из шахты на лифте, а металл следует за рабочими, ориентируясь на звук... Иногда они так по многу суток пласт никеля тащат, сменяясь каждые несколько часов, чтобы горло отдохнуло. А потом наверху металл попадает в магнитную шахту-ловушку, ты их видел, они так красиво светятся в темноте... В этих стеклянных колодцах никель прокаливается белым светом и заряжается атмосферным электричеством, и его можно пускать в производство...
–Ты так много знаешь об этом месте...
–Это Некоузье. Некоузский клин, запрещённая грань, пролегающая вдоль линии отражённого излучения центрального меридиана миров… Одна большая аномальная зона, проклятые земли. Обычно для всех нас они обнесены колючей проволокой, туда не попасть, оттуда не выбраться – станция-таможня в Кронверке контролирует все опасные грани. Но этой весной кордоны рухнули, границы стёрлись... Клин открылся.
Рыжик впервые говорил с Камилло столь серьёзно – как с равным, готовым идти меж мирами, ведомым золотым компасом.
–Прости, я могу быть так дремуче несведущ и задавать глупые вопросы, – Диксон задумчиво перебирал чуткими пальцами в пятнышках старческой «гречки» пушистый чёрный мех на оторочке палантина. – Но я ужасно хочу тебя понять... Ты идёшь туда, чтобы… что-то исправить? Чтобы восстановить разрушенное? Странно, но мне так почему-то думается...
–Да ты и так всё понимаешь, Диксон, – Рыжик заглядывал ему снизу вверх в лицо, и в его глазах отражался ночной, дикий Камилло, небрежно и привычно стоящий на лезвии ножа. – Я иду зашивать прорехи в разорванном мире. Это моя дорога, моё предназначение – быть иглой.
–Тогда моё предназначение – быть ниткой, ведь иголка без нитки бесполезна...
–Amen, Камилло, amen, – Рыжик закрыл глаза и уютно втёрся щекой в Диксоново плечо.
–Слуш, нам долго ехать, я тут подрёмкаю немножко, ты разбуди меня, когда объявят Военный городок. Ладно?
–Конечно, Рыженька, спи, – Камилло накинул на него палантин и вытянул ноги, упираясь каблуками ботинок в предыдущее сиденье – трамвай опять начало потряхивать на стыках рельсов.
За окном простирался невероятных размеров пустырь с остатками каких-то фундаментов и каркасов, заросших бурьяном и топольками. Среди строительных вагончиков, бетонных блоков и сорной травы горделиво возвышалась новая бело-голубая многоэтажка, похожая на океанский лайнер среди рыбацких барж и буксирных судов. На её фасаде трепетала рекламная растяжка с надписью «НекоузЭкспострой – своим труженикам! Добро пожаловать в счастливое будущее!».