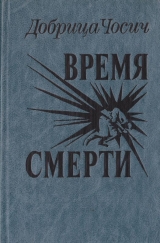
Текст книги "Время смерти"
Автор книги: Добрица Чосич
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 53 страниц)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Кроме айвы и букетика сухих желтых цветов, полученных от заплаканной, в черном платке, красивой девушки, которая вместе с другими женщинами и детьми встретила их при вступлении в город, ничто не обрадовало Адама Катича в Валеве.
Сопровождаемый взволнованным пареньком-гимназистом, он облазил все помещения неприятельских штабов и дома высших офицеров, осмотрел трофейный обоз, табуны больных и раненых лошадей вдоль дороги на Шабац и нигде не нашел Драгана. Тогда он решил самовольно, бросив эскадрон, двинуть по следам полков, гнавших остатки корпусов Потиорека к Дрине и Саве. Найдет Драгана – не обидно будет попасть под военный суд; а не найдет, все равно, пусть считают его дезертиром. На всякий случай он избегал встреч с сербскими офицерами, а рядовым и штатским, которые попадались по пути и которых он расспрашивал о передвижении неприятельской конницы, он представлялся связным из штаба Моравской дивизии, везущим почту для командира Дунайской дивизии.
После Валева до Каменницы веселого было мало, хотя он шел по следам вражеского поражения и отступления: пленные своим видом и обмундированием куда больше походили на победителей, чем сопровождавшие их конвоиры, в селах слезы и траур, дома без окон и дверей, пустые овины и амбары, все сжег и разграбил оккупант, загажены колодцы, корчмы и школы если не пострадали от огня, забиты ранеными обеих армий, смрад, некому перевязать, люди умирают, понося на чем свет стоит императоров и королей. По дороге не пройти из-за перевернутых обозных телег, патронных и снарядных ящиков, трупов лошадей и солдат; в канавах тела убитых женщин, стариков, детей. Но если он не мог радоваться разгрому неприятельской армии, то и оставленные ею следы не вызывали у него ужаса. Проходя мимо убитых и изуродованных штыками крестьян, он не испытывал ни ненависти к убийцам, ни желания мстить; он думал: хорошо, что сейчас зима и снег и мороз очистят землю от следов войны прежде, чем трупы начнут разлагаться. Он жил своей бедой, платил за овес не торгуясь, сколько просили, кормил коня без ощущения измены, ласкал и похлопывал его, уговаривал подольше сохранить силу. Все, что удавалось узнать о вражеской коннице, три дня назад ушедшей на запад, казалось ему зыбким и неубедительным. Никому сейчас не было дела до правды и добра; те, что не хоронят своих покойников, настолько ошарашены, потрясены внезапным освобождением, что в одном разговоре трижды кряду меняют время ухода и направление неприятельского кавалерийского полка, неверным следом которого двигался он от самой Мионицы.
В Осечине женщины, убивающиеся по своим близким, с ненавистью сказали ему:
– Два дня назад к Крупню проехали больно свирепые швабские офицеры на лютых конях. Последнюю муку подобрали в кадках.
В Крупне, в доме, на пороге которого лежала исколотая штыками бабка, два мальчугана продали ему торбу овса и шапку грецких орехов, божились:
– На вороных, что твои драконы, швабские начальники вечером подались к Завлаке.
В Завлаке освобожденные из плена, больные сербские солдаты, полной мерой вкусившие лиха, рассказали, что кровожадный полк германских кавалеристов отступил к Ковиляче, сжигая на своем пути все, что могло гореть.
На рассвете он обошел стороной пылающую Лозницу, с трудом пробился сквозь колонны наступающего сербского пехотного полка и, оставив коня в первом попавшемся хлеву, пошел по обезображенной и разграбленной Ковиляче, расспрашивая о вражеских кавалеристах горожан, которые, захлебываясь от слез, хлебом, ракией, яблоками и черносливом встречали сербское войско. Пожилые люди сказали, будто швабы погнали к Зворнику пять сотен связанных между собой коней.
– Ровно пять сотен?
– А что ж! Пять сотен, сынок! Мы с внуком пятьсот и насчитали.
Он не мог этому поверить и шел от стариков к ребятишкам, от старух к девчонкам, спрашивая об одном и том же. А они, словно сговорившись, толковали: пять сотен связанных между собой коней погнали сегодня утром к Зворнику. Вдаль уходила черная дорога, от канонады дрожали стекла.
– А где ж всадники, куда ж целый полк солдат подевался? – спрашивал он у заплаканных, обрадованных избавлением горожан.
На это ответить не мог никто. Вспоминали, что лошади были под седлами, однако гораздо больше только с уздой и поводьями.
Деваться некуда. Он должен идти за ними к Зворнику.
2
Воевода Мишич со своим штабом рано утром въезжал в Валево. Он ехал быстрой рысью с колонной штабных, стараясь не глядеть на неубранные трупы солдат и лошадей в вымоинах мощеной улицы; старался не считать дома с черными флагами на стрехах, с сорванными дверями и разбитыми окнами, обгоревшими и разваленными оградами; заставлял себя не видеть неприятельских раненых, расположившихся прямо на тротуарах, пристроив голову на порожках домов, откуда выглядывали подмастерья и старухи.
Из горожан его приветствовали лишь те, кто знал его в лицо и хотел приветствовать. Он прятал глаза от взглядов, уставившись в голову коня, раскачивавшуюся в такт шагам. В Валеве, подступали воспоминания, он, будучи командиром дивизии, провел самую беззаботную и самую приятную часть своей жизни; здесь он был счастлив с Луизой и со своими детьми, пользовался непререкаемым авторитетом у офицеров, чтимый и уважаемый горожанами. А когда уезжал, получив назначение в Генеральный штаб помощником Путника, его провожал весь город, все валевские экипажи. Он слышал свое имя, возгласы «Слава!» и не поднимал головы, думал только о том своем незаслуженно триумфальном отъезде из Валева. Как легко и приятно принимать незаслуженное признание!
Словно от кого-то спасаясь, он торопливо вошел в здание Окружного суда, где месяц назад размещалось Верховное командование. Идя по грязному коридору, припоминал то тяжкое и необычное совещание Верховного командования и правительства, на котором воевода Путник задыхался, тщетно пытаясь обрести спокойствие. Пашич, как в карточной игре, двойкой собрал все взятки, а Вукашин Катич, высказывая, скорее всего, самое разумное, поставил крест на своей политической карьере. Мишич задержался перед дверью в зал заседаний: что-то неодолимо влекло его войти. Попросив адъютанта приготовить ему и хорошо протопить комнату, вошел в зал: пол был усыпан осколками оконного стекла, хлопьями сожженной и клочками рваной бумаги, пустыми бутылками и патронными лентами, вдоль стен – солома, на которой явно спали солдаты; на судейском подиуме – человеческие испражнения. Прислонившись к косяку, он думал о генерал-фельдцегмейстере Оскаре Потиореке, Вене, Европе, западной культуре. Вышел поспешно, чего-то устыдившись, но довольный. Приказал привести пленных, чтобы они вычистили и привели зал в порядок, прохаживался по коридору, ожидая, пока приготовят комнату; в жизни он, вероятно, способен причинить немало зла, но никогда бы не смог стать оккупантом. Лучше быть рабом, чем стать оккупантом.
К полудню по городу разнеслась весть, что прибыл командующий Первой армией Живоин Мишич; перед зданием Окружного суда собралась толпа, чтобы увидеть его и приветствовать. На улице выкрикивали его имя, славили как освободителя и победителя Потиорека, а он сидел в комнате и, притулившись у печи, задумчиво курил. Курил непрерывно. Вошел Хаджич, сообщил о желании жителей Валева увидеть и услышать его, но он отказался:
– Передайте, что я очень занят.
Хаджич вернулся с прежней просьбой.
– Скажите, что через пару дней в Валево прибудет воевода Путник и у них будет случай приветствовать самого заслуженного человека, – решительно возразил он.
Хаджич пришел в третий раз с просьбой хотя бы появиться на крыльце.
– Ответьте, что в Валево скоро прибудет король Петр и они смогут приветствовать того, кому принадлежит слава, – ехидно ответил он.
Но, когда ему показалось, что восторг толпы превращается в недовольство, а его отказ приобретает характер упрямства, он надел шинель, водрузил на голову кепи и в сопровождении адъютанта и Хаджича вышел на каменные ступеньки перед восторженно кричавшим народом:
– Да здравствует наш освободитель Живоин Мишич!
Он стоял спокойный, строгий, не отнимая ладони от козырька.
Постояв несколько мгновений, вернулся к себе писать доклад Верховному командованию:
«Противник стремительно отходит к Саве и Дрине, почти не оказывая сопротивления… Командиры дивизий сообщают, что неприятель отступает в полнейшем беспорядке. На дорогах брошено огромное количество боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, зарядных ящиков, орудий и т. п. Неприятельские солдаты, укрывавшиеся по селам, сдаются добровольно. Пленные офицеры сообщают, что в армии противника не существует более организованных частей, все перемешалось в ходе повсеместного отступления. Зверствуя над мирным населением, противник с необычайным упорством уничтожает имущество, насилует женщин, оскверняет частные дома и общественные здания…»
Первая ночь в освобожденном Валеве, а он не может уснуть. Попытался написать письмо Луизе; но, кроме как о здоровье, ни о чем не мог сказать ни слова. О беспомощности местных властей написал несколько сердитых фраз Вукашину Катичу, пригласил его приехать в Валево, когда сможет. Вспомнил, что с самого начала наступления не осведомлялся у Васича об Иване. Как и о своих сыновьях. Завтра с первым же связным попросит Васича сообщить об Иване. Не решил ли он каким-нибудь своим приказом судьбу и этого мальчика?
Телефон угнетающе молчал; давно у него не было связи с командирами дивизий. А ему хотелось поскорее признать свою ошибку перед Кайафой и Васичу вернуть долг. Чем наградить отличившихся? Неужели только чинами и орденами?
Он должен войти в судебный зал и помолчать там наедине с самим собой. Драгутин утверждает, что пленные хорошо отчистили и отмыли его, только стекол нет в окнах. С лампой в руке Драгутин открыл дверь. Мишич велел ему поставить лампу на пол и уйти. Закрыв дверь, он принялся вышагивать по залу судебных заседаний. Что не простят ему внуки?
В пустом и выстуженном помещении с еще влажным полом гулко звучали шаги. Огонек сигареты мерцал в темноте. И так до первых криков галок на куполе Окружного суда и крыше тюрьмы.
Адъютант Спасич и Драгутин стояли в коридоре у дверей, прислонившись к косяку, подремывая, слушали неравномерные шаги воеводы.
3
Адам Катич в одиночестве пробирался вдоль Дрины к Зворнику, навстречу редкой глухой перестрелке под низко висящим раскаленным солнцем на гребнях снежных гор Боснии. Дорога по-прежнему была забита перевернутыми фурами, двуколками, орудийными передками, изнемогшими лошадьми, которые, не имея сил подняться, подыхали в канавах, снежных сугробах, замерзающих лужах. Он замедлял шаг, заметив вороного коня, вглядывался, хотя не верил, что Драган может оказаться среди обессилевших и изнемогших кляч, указывающих путь бегства неприятеля из Сербии. Из санитарных повозок ему по-немецки со слезами что-то кричали брошенные раненые. Он растерянно разводил руками и давал шпоры коню, торопясь уйти. Из зарослей неубранной кукурузы вышла группа солдат с поднятыми кверху руками. Он остановился, смотрел на них: заросшие, оборванные, грязные. Жалкие. Неужели такие бедолаги причинили столько зла, бесчинствуя от Лига до Ковилячи?
– Кто сербский знает? – крикнул он. – Я вам плохого не сделаю, не бойтесь. Скажите только, не видели ли вы табун лошадей, голов пятьсот? Утром прошел по этой дороге. Куда они направились?
Солдаты молча таращились на него.
– Даже сербского никто не знает, а мы вас победили! – разозлился он.
Пришпорив коня, поскакал дальше, оставив их в канаве и с поднятыми руками.
На изгибе Дрины за тополиной рощей он чуть не попал под пулеметный огонь. Подогнал коня к толстому дереву у дороги, вслушался, вглядываясь в тополя, за которые опускалось солнце.
Это их последние рубежи. Как их миновать? И куда дальше? Скоро ночь. Выходит, все его старания напрасны. Ребята теперь разъедутся по домам в отпуск на рождество, а он угодит под военно-полевой суд как дезертир.
Пулемет и винтовки трещали так, будто отбивали атаку. Ржали кони. Значит, конница атакует, сделал он вывод. Никогда с тех пор, как оказался на войне, – а ему приходилось ходить в конную атаку с дивизией – не слышал он такого ржания. Из-за тополей выскочили лошади и помчались полем к нему. Он погнал коня галопом навстречу им, убегавшим от леса.
– Это те лошади! – вслух вырвалось у него, и он сильнее пришпорил коня.
Влетел в тополиную рощу, понесся к непрекращающемуся ужасному ржанию. На опушке конь замер: на большой открытой отмели разлившейся Дрины бились сотни связанных друг с другом лошадей; они шарахались в разные стороны, ржали, бросались в воду и отступали назад, бились подобно бушующей реке, рвали свои путы, пытаясь освободиться, прыгали друг на друга, вставали на дыбы, устремлялись к пылающему солнцу и падали – мертвыми; трупами лошадей сплошь была завалена отмель.
Адам зажмурился, он оглох от лошадиного крика; не слышал, как свистели пули, открыв глаза, осознал; в сотне шагов из-под высоких тополей в него целились из винтовок швабы, в то время как пулемет косил обезумевших лошадей. Он выскочил из седла, сорвав с плеча винтовку, ударил прикладом коня – и тот умчался в рощу, а сам укрылся за деревом и ожесточенно стрелял в убийц лошадей. Ему отвечали разрозненно и неточно, зато пулемет продолжал свое дело, словно вынуждая лошадей вплавь добираться до берега Боснии. Лошади тонули под раскалывавшимся над горами солнцем. Тех, которым удавалось порвать путы и освободиться, сражали залпы. Адам целился в пулеметчика – неудачно; сорванная вражескими выстрелами омертвевшая кора осыпала его. Он выстрелил еще раз, повернулся к реке: там дергались в предсмертных судорогах тела лошадей, только с десяток животных еще оставались на ногах, они стояли над трупами и ржали, обратившись к реке, к горам, к заходящему солнцу. У Адама мутилось перед глазами: может быть, это сон. Падали последние лошади; пулемет заглушал последние крики и ржание. Утихали вороные тела. Стрельба прекратилась. Адам опустил винтовку, оглушенный тишиной. Только шум Дрины вздымался к багряному облаку. Взвод австрийцев цепью отступил к тополям и исчез во тьме рощи.
Адам встал, ноги у него подгибались, как во сне, попытался подбежать к убитым лошадям. Остановился возле первых трупов. Не мог ни перешагнуть их, ни обойти; он слышал хрипы, видел последние судорожные движения ног; они хотели подняться и падали – мертвые на мертвых; лежавшие в воде, казалось, грызли гальку, выплевывая песок и камешки. А он искал Драгана, и это не было сном. Раненые лошади истекали кровью, слабели, стонали, пучили глаза – это снова был сон. Штыком он разрывал уздечки, резал поводья, освобождая мертвых от мертвых; ступал по лужам крови, искал знакомую голову, дорогую белую звездочку между глаз. В одном взгляде он увидел огонь пылавшего неба, пламенем солнца или выстрелов – кто узнает. От этого пламени, пылавшего в остановившихся глазах, ему стало холодно, наверное, это не во сне. Штаны промокли, в башмаках хлюпала вода или кровь, он поймет это, когда проснется. Он разглядывал лошадиные ноги, видел белые бабки, чулки, а может, и не видел уже, и во сне наступает ночь. Все кони вороные. Он не спит. Замер над конем, бившим головою о землю. Слушал его последние хрипы, последние вздохи. Хотелось кричать, но не было голоса. Он сложил пальцы для свиста. Свиста не услышал. Громоздились трупы вороных. Гора трупов. Горы трупов. Скалы из мертвых вороных. Река замедлила бег, а может, и вовсе остановилась. Пожар угасал в небе, дым стлался над рекою. Адам, оглушенный тишиной, ослепленный тьмою, не мог пошевельнуться.
Над головой со свистом прошелестела стая диких уток и упала на мелководье, возле убитых коней. Дикие птицы гоготали, приводя его в ужас своей смелостью, силой, жизнью. Небо и тишину вспорола новая стая диких уток, шумно опустилась в реку, захлопала по воде крыльями.
Неужели это он ходил с дедом на диких уток на Мораву? Неужели он когда-то мог стрелять по этим стремительным, всевидящим, прекрасным живым творениям с зеленым хохолком на затылке?
Дикие утки гоготали, громко хлопали крыльями рядом с затихшими лошадьми. Пронзая небо, приближалась еще стая, улавливало ухо. Он поднял винтовку и выстрелил в плотный клубок над собою, чуть ниже яркой звезды. По берегам Дрины грохотом полевого орудия разнесся этот, вероятно последний, выстрел Первой армии. Темный шарик стал быстро падать, он испугался, что попал, и винтовка выскользнула у него из рук, но утка с клекотом вновь устремилась ввысь и в одиночку повернула назад, на восток, к Сербии. Он облегченно вздохнул – промахнулся.
Забросив за спину винтовку и обходя лошадей, пошел к тополям за конем. Позади шумела Дрина; над головою шелестели невидимые стаи диких уток.
4
Пятнадцатого декабря в одиннадцать часов воевода Мишич докладывал Верховному командованию:
«Согласно последним поступившим донесениям, на всем протяжении западного сектора остатки разбитых частей противника отброшены за Дрину и Саву, так что наша территория полностью очищена… Понесший поражение противник контролирует свою линию фронта передвижениями мелких патрулей ландверных полков…»
Он созвал начальников отделов штаба армии и потребовал, чтобы в течение трех дней была налажена телефонная связь со штабами дивизий. Бурные ссылки на нехватку оборудования решительно пресек:
– Господа, Первая армия, пусть на короткое время, завершила бои. Наступили дни передышки, когда командующий имеет право отдавать невыполнимые приказы.
Офицеры, не скрывая восторга, молча покидали помещение.
С улицы доносились звуки трубы, отдаленно напоминавшие похоронный марш. Три дня вереницей двигались по мостовой похоронные процессии из одних женщин, изредка попадались мужчины. Он подошел к окну: сейчас провожали офицера.
На похоронных дрогах, которые тянули тощие грязные клячи, покосившись, стоял большой черный гроб, на крышке, как прибитое, лежало офицерское кепи. Следом уныло шагали, опустив головы, четыре офицера; солдат, вероятно ординарец покойного, нес крест, а шагах в десяти впереди в лохмотьях, опанках и крестьянских штанах маршировал трубач, со свистом и писком исторгавший из своего инструмента какие-то звуки, очевидно, похоронный марш.
Став по стойке «смирно», до боли стиснув челюсти, воевода Мишич тоже прощался с убитым. У парня хоть будет известна могила. А это немало, подумал он.
Вошел Драгутин с охапкой дров, бросил их к печи; Мишич вынужден был повернуться:
– Что ты хочешь сказать мне, Драгутин? На побывку пора?
– Не приспело еще время для домашних и своих собственных забот, господин воевода. Я вот от самого Гукоша думаю: ну, выгнали мы швабов. Людям, что уцелели, будет как было, может, даже с еще горшей мукой и бедой. Потому что осиротели мы начисто. Власть будет властвовать как прежде и налоги собирать. Чиновнику жить надо, и держава в долгах, а беднеть не должна. Торговцы станут обдирать мужика почище, чем прежде. Офицерам полагаются чины и ордена, как водится. Солдатам дадут отпуска, покороче или подольше, это зависит от Франца Иосифа и воеводы Путника. Поковыряют они землю кое-как, заборы да овины подлатают, поговорят с бабами и стариками. Поиграют с детишками – и обратно. А этот тяжкий бой сербский, как есть говорю, волы вытянули, господин воевода. Без волов и скотины, которые по такой беде, в такой грязи и топи хлеб волокли, патроны, снаряды и прочее для войны нужное, мы ничего бы со швабами не сумели сделать. Ей-богу, ничего. И я вас прошу, если можно, когда будете приказ по армии писать с благодарностью, помяните сербских волов. Сербских волов. Сербский скот, господин воевода. Бога ради. И справедливости ради. Я видел много бездушных людей, а не встречал вола, у которого души бы не оказалось.
– Прав ты, Драгутин, прав. А в том году, когда вы пшеницу на рождество посеяли, какой был урожай?
– Не помнится, чтобы лучше было на Мачве.
– Принеси яблок, Драгутин.
На следующий день, шестнадцатого декабря вечером, не здороваясь, с улыбкой во весь рот, вошел начальник штаба Хаджич.
– Две депеши Верховного командования! И не скажешь, какая радостнее!
– Прочтите в порядке поступления! – ответил Мишич, зажигая сигарету.
– «Взятием Белграда, – с пафосом декламировал Хаджич, – успешно завершен великий и одновременно величественный этап наших боевых операций против Австро-Венгрии. Враг разбит, сокрушен, повержен и полностью изгнан с нашей территории. Сейчас необходимо как можно лучше разместить войска, дать им отдохнуть, накормить, удовлетворить их материальные потребности и подготовить к дальнейшим действиям. Приказываю…»
– А что приказывает Путник во второй телеграмме? – Мишич прервал его, не сумев, однако, согнать радость с его лица. – Скажите мне главное из второй телеграммы.
– Вас просят быстрейшим средством, которым располагаете, незамедлительно выехать в Белград, чтобы вместе с Его величеством королем Петром во главе войск торжественно вступить в освобожденную столицу. Победителем! Подпись: Верховный командующий престолонаследник Александр!
Воевода Мишич опустил взгляд на стол, несколько мгновений подумал и решительно произнес:
– В первом случае поступайте, как сказано в телеграмме. А на вторую ответьте от моего имени: командующий Первой армией благодарит за честь и выраженное ему признание. Он считает, что честь торжественного вступления в Белград вместе с королем может принадлежать командиру, штаб которого расположен ближе к Белграду. – Помолчав, добавил: – Напишите им, что здоровье мне не позволяет.
Хаджич ошеломленно смотрел на него.
– Если вы позволите, господин воевода, я бы…
– Можете высказать свои замечания только в связи с первым приказом Путника.
– Вы не забыли, председатель общины сегодня устраивает торжественный банкет в вашу честь? Пора идти.
– На этом банкете меня будете представлять вы. И возьмите с собой побольше офицеров штаба.
Хаджич молча, не простившись, вышел.
Воевода Мишич откинулся на спинку стула, довольный, что остался в одиночестве, и отдался думам, преследовавшим его от Мионицы. Когда маленький победит большого, когда более слабый нанесет поражение более сильному, можно ли надеяться на лучшее завтра? Нет. Слабый жестоко наказывается за нарушение законов этого мира. Смеет ли надеяться на мир Сербия, нанеся поражение Австро-Венгерской империи? Ее ждет возмездие. Неминуемое возмездие.
Перед зданием штаба трещали винтовочные и револьверные выстрелы: офицеры и солдаты радовались победе.
Он закрыл глаза, чтобы не дать воли слезам, и погрузился в море неутолимой печали.
Стрельба и крики радости удалялись, охватывая весь город. И у него вновь вспыхнуло желание поехать в Струганик, посидеть в родном доме у очага, помешивая угли и слушая огонь, печь в золе картофель и щелкать орехи. Так он отметит тишину, на короткое время воцарившуюся в Сербии.
В дверь нерешительно постучали. Должно быть, кто-то из младших офицеров. Нужно впустить.
Вошел капитан второго класса Зария Симич – профессор Зария, столь серьезным он его не видел никогда прежде.
– Разрешите, господин воевода, если вы не очень заняты.
– Садитесь, профессор. Рассказывайте. – Он угостил его сигаретой и сам зажег ее.
– Мы теперь стали великим народом. Великим европейским народом. Это эпохальное событие, господин воевода.
Мишич морщился, словно его царапали по лицу: неужели кто-то сейчас может произносить такие слова? Однако непривычная задумчивость гостя помешала ему прервать его.
– После побед над Турцией и Болгарией, а ныне и над Австро-Венгрией мы, сербы, в историческом смысле стали подлинно народом. У нас есть и великие поражения, и великие победы. Мы завоевали право иметь собственное достоинство. И заблуждения. Да. В нашей истории, господин воевода, есть все, чем богата история великих народов. Важные истины и глубокие тайны. Великие личности, сильные люди. Созданы условия для возникновения большой литературы, искусства, философии. Понимаете, господин воевода, если у народа нет великой книги о себе, значит, ему нечего помнить. Вы не согласны со мной?
– С вашей точки зрения, дела, может быть, обстоят именно так. Однако я считаю, что на войне нетрудно выиграть бой. Кто готов к смерти, может в войне победить любого. Гораздо труднее войной добиться мира и справедливости. Спокойствия в мире, профессор.
– Независимо от того, как будут развиваться события, я убежден: мы выиграли войну.
– Я в этом пока не убежден, – ответил Мишич очень тихо.
– Но Сербия, которая за четыре месяца дважды сокрушительно громила армию Австро-Венгерской империи, дважды выбрасывала ее за свои границы, для истории войну выиграла. Я говорю, для истории! А сейчас это самое важное.
Воевода Мишич встал и, открыв дверь, крикнул:
– Драгутин, два липовых чая! И кофе, пожалуйста! – Снова закрыв дверь, подошел к печи и повернулся к огню спиной.
– Вы не согласны со мной, господин воевода?
– Со своей точки зрения вы, вероятно, правы.
– Понимаете, что самое главное? – Профессор Зария поднялся со стула, шагнул к нему. – Косово померкнет в наших душах. Да. После таких побед, по моему глубочайшему убеждению, мы уже не являемся несчастным народом. Наши песни будут иными. И ругательства изменятся! Мы перестанем быть злобными, мелкими, хитрыми. Мы станем, возможно, наглыми и дерзкими, но после стольких страданий у нас есть право и на дерзость. Серб больше не будет чувствовать себя перед Европой человеком низшей расы, балканцем. А Европа больше не будет его презирать.
– Я не люблю, профессор, когда часто произносят слово «победа». Так же как не выношу слово «катастрофа», – после долгой паузы сказал воевода. – Эти слова сопутствуют чрезмерным чувствам: восторгу или отчаянию. Чувствам мучительным и опасным, профессор.
– Коль скоро вы позволили мне вести такой разговор, я должен вас спросить: неужели вы, господин воевода, не ощущаете себя сегодня победителем?
Воевода Мишич подошел к окну и стал смотреть в мутный, рассеянный свет уличных фонарей. В городе – стрельба, песни, крики.
– Не знаю я, дорогой профессор, чьих рук дело эта наша победа. Мертвым, разумеется, принадлежит наибольшая заслуга. – Он помолчал, потом повернулся к собеседнику. – Во всяком случае, моему противнику фельд-цегмейстеру Оскару Потиореку принадлежит ничуть не меньшая заслуга в этой нашей победе, чем мне. А он, должно быть, сегодня чувствует себя страшно несчастным человеком.
– Вы слышите радость исстрадавшегося, измучившегося народа? У Валева отошло сердце, господин воевода, – произнес Зария почти шепотом, и глаза его увлажнились.
– Слышу. Так и должно быть. Эта радость заслуженная. Но я-то вот человек незадачливый. Не умею радоваться. Таким уж я родился.
Драгутин принес чай и кофе; они перешли к столу, пили молча. Воевода Мишич не допил свою чашку, склонившись над столом, так же негромко он продолжал:
– Я пришел к убеждению, что великие военные победы и события, которые история провозглашает победами, принадлежат потомкам. Они имеют право ими пользоваться и наслаждаться. Современники же ни в коей мере. Так я считаю. Только мародеры, властолюбцы и честолюбцы ищут личной корысти в военной победе. В победе народа. Вы не согласны со мной? – Он поднял голову и посмотрел на собеседника – тот стал еще более озабоченным.
– Это великие принципы, господин воевода. И я счастлив, что слышу их сегодня от вас. Понимаете, природе человека свойственно возмещать каждую жертву, каждое усилие. Платить за нее. Простите, я грубо выразился.
– Я вас хорошо понимаю. И в нашей истории, и в истории других народов, я давно пришел к этому выводу, из борьбы за свободу пользу извлекает только тот, кому свобода вовсе и не нужна. Тот, кто за нее даже не сражался. – Он умолк. Допил свой чай. И встал из-за стола. – Пора спать, профессор.
Капитан второго класса Зария Симич отдал ему честь, неохотно, устало, похоже разочарованный.
– Послушайте, профессор, – Мишич остановил его у двери. – Вы человек книг и знаний. Я, очевидно, стою на какой-то другой стороне жизни. Поэтому и вижу другое. Я отчего-то ни самоуверен, ни счастлив. Всей душой я чувствую: человек имеет право радоваться тому, чему могут радоваться окружающие его люди, или тому, что принадлежит лишь ему. А на войне, при этой нашей победе, невозможно ни то, ни другое. Спокойной ночи, Зария.
Утром следующего дня вместо Хаджича первым к нему вошел начальник медицинской службы штаба армии.
– Что нового, доктор? Ваше сражение не окончилось. На вашем поле боя идут боевые действия, тишины нет Раны жгут. Вы ничего не сказали мне о Милене Катич, медицинской сестре – добровольце, – встретил он офицера.
– Мне доложили о Катич. Она жива и здорова. Находится в здешнем госпитале, господин воевода.
– Пошлите солдата за ней. Вам удалось разместить три тысячи раненых пленных?
– С трудом размещаем, господин воевода. Позавчера я вам докладывал, что отмечены случаи сыпного тифа. Сегодня поступили сведения из населенных пунктов и госпиталей в районе Первой армии. Более шестидесяти солдат и гражданских заболело сыпным тифом. Это населенные пункты, где располагаются пленные или через которые они прошли. Болезнь ширится по Сербии. Смертоносная зараза. Грозит крупная эпидемия. При теперешнем положении вещей это может стать катастрофой. Как пожар.
Воевода Мишич нахмурился, покашлял, но ничего не сказал в ответ на омерзительное, глубоко чуждое ему слово – «катастрофа». Молча подошел он к окну и вновь увидел ворон и галок на крыше тюрьмы, на ветках деревьев, на сортирах. Они тоже разносят вшей? Птицы сеют смерть с крыльев?
– Мы выстояли перед австрийской империей, – негромко, больше самому себе, сказал он, не оборачиваясь к доктору Пешичу. – Фельдцегмейстер Оскар Потиорек не сумел уничтожить нас своей карательной экспедицией. Мы выдержали удар семи боевых корпусов. Человеку, снабженному орудиями убийства, не удалось обезглавить нас. А теперь на нас двинулась вошь. Вша! – в голосе звучал гнев, он круто повернулся к начальнику медслужбы. – Что вы мне предлагаете? Я же могу потерять армию. Остатки этой армии.
– Может пострадать не только армия. Вся Сербия, господин воевода.
Воевода Мишич зажег сигарету от уголька; опустившись на корточки, смотрел в огонь. Не возмездие ли наступает теперь? Выпрямился.
– Думается мне, доктор, что с сегодняшнего дня вы становитесь командующим Первой армией. И всего района, где она размещается. Я могу быть только начальником штаба. Прошу вас, к полудню составьте план боевых действий против вшей.
– Какой? – доктор пожал плечами и развел руками.
– Самый решительный. Уж не считаете ли вы, что мы должны сдаться тифозным вшам?








