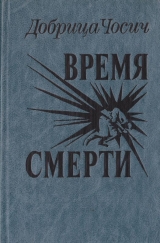
Текст книги "Время смерти"
Автор книги: Добрица Чосич
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 53 страниц)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Р. А. Рейс[48]48
Рейс, Родольф Арчибальд (1876–1930) – швейцарский юрист, профессор Лозаннского университета, опубликовавший серию материалов о жестокостях оккупационных войск в Сербии.
[Закрыть]. «Как австро-венгры вели войну в Сербии». (R. A. Reiss. Comment les Austro-Hongrois ont fait la guerre en Serbie. Observations directes d’un neutre, Paris, Armand Colin, 1915.)
«Уже с давних пор могущественная Австро-Венгрия решила раздавить маленький сербский народ, народ столь демократический и столь свободолюбивый. Независимая Сербия как магнит привлекала к себе симпатии всех австро-венгерских подданных сербского происхождения, а кроме того, эта страна стояла поперек пути к Салоникам, куда так долго и так пламенно стремилась Австро-Венгрия. Народ империи нужно было подготовить к мысли об уничтожении стесняющего соседа. Начало этому положила австро-венгерская пресса, которая при поддержке, германской печати начала кампанию систематической клеветы на сербов. С точки зрения этой прессы, в мире не было больших варваров и более гнусного народа, чем сербский. Низкий по своим инстинктам, грабительский народ цареубийц, эти жуткие сербы оказались воистину кровожадными. Попавшим в плен солдатам они отрезали носы и уши, выкалывали глаза, кастрировали их, – как писали газеты.
Австро-венгерские солдаты, попавшие в Сербию и оказавшиеся среди людей, о которых они всегда слышали как о варварах, были проникнуты чувством постоянного страха и, вероятно, из страха перед воображаемыми зверствами первыми стали совершать действительные. Известно, что вид крови превращает человека в кровожадного зверя. Войска оккупантов охватил приступ подлинного коллективного садизма.
Ответственность за жестокие преступления падает, однако, не на рядовых солдат, ставших жертвами диких инстинктов, которые спят в человеке и которые были выпущены на свободу преступной рукой военного начальства. То, что я описал, равно как и непосредственные свидетельства жестокости австро-венгерских солдат, говорит о сознательной подготовке кровопролития со стороны военного начальства.
Вот невероятный документ, который я точно перевожу с немецкого и который начинается следующим образом:
«К. und К. 9. Korpskommando[49]49
Командованию 9 Императорского и Королевского корпуса (нем.).
[Закрыть].
Инструкции о мерах по отношению к населению Сербии.
Война ведет нас в страну, населенную людьми, питающими к нам фанатическую ненависть, в страну, где убийство, как показала катастрофа в Сараеве, рассматривается высшими законами государства как дозволенное, законное и даже восхваляемое дело.
По отношению к такому народу совершенно недопустимо мягкое и гуманное поведение, более того, оно даже вредно, ибо всякое мягкосердечие, иногда возможное на войне, здесь подвергает наши войска серьезной опасности.
Исходя из этого, приказываю в течение всего периода военных действий в Сербии проявлять против всего без исключения населения этой страны максимальную суровость, максимальную твердость и максимальное недоверие».
Это было подписано австрийским генералом, представителем правительства, которое, как известно, подготовляло многочисленные казни на основании ложных документов, сфабрикованных его посольством в Белграде[50]50
Речь идет о так называемом процессе Фридъюнга (1909) в Вене, на котором были разоблачены провокации австро-венгерского правительства против югославянских патриотов.
[Закрыть].
Далее в инструкции говорится:
«Не допускается брать в плен граждан враждебной нам страны, не носящих военную форму, но вооруженных, будь то отдельные личности или группы. Они безусловно должны быть уничтожены».
Австро-венгерскому генеральному штабу, как и всем другим, было известно, что сербские военнослужащие третьей очереди призыва, так же как и добрая половина солдат второй очереди, никогда не получали форменного обмундирования. Распространение подобной инструкции является, следовательно, открытым призывом к убийству этих солдат, призывом, которому военнослужащие оккупантов следовали пунктуально.
«При движении войск через населенные пункты заложники должны быть задержаны насколько возможно дольше до выхода из селения всей колонны, их следует безусловно уничтожать, если по войскам будет произведен хоть один выстрел.
Безусловно запрещается колокольный звон, а в случае надобности колокола могут быть вообще сняты; каждая колокольня должна быть занята караулом.
Богослужение разрешается только под открытым небом перед церковью.
Все время богослужения у церкви должен находиться дежурный взвод в полной боевой готовности.
Любое лицо, встреченное за пределами населенного пункта, особенно в лесу, рассматривается как член банды, который располагает спрятанным оружием; у нас нет времени разыскивать это оружие, поэтому подобных лиц следует уничтожать, сколь бы безобидными они ни выглядели…»
Вот еще один бесспорный призыв к убийству. Любое встреченное в поле лицо безусловно считается членом боевой организации и подлежит уничтожению!
Эти слова я могу квалифицировать только как призыв к расправе с мирным населением…»
2
Телефонные переговоры с Пашичем породили в душе воеводы Путника самые тяжкие для командующего сомнения: неуверенность в своей оценке понесенного за последние дни поражения. Страх, как бы не преувеличить размеры этого поражения, он испытывал и до первого разговора с Пашичем, поэтому проверял себя в беседе с генералом Живоином Мишичем, своим помощником, мнением которого дорожил.
– Будь вы, Мишич, Верховным командующим сербской армии, как бы вы оценили ее теперешнее положение?
– Я также считаю наше положение весьма неблагоприятным.
– Всего лишь весьма неблагоприятным?
– Всего лишь. До тех пор пока люди сражаются, я полагаю, невозможно такое неблагоприятное положение, которое нельзя было бы изменить, – ответил Мишич, точно во время экзамена на чин майора, когда Путник был председателем экзаменационной комиссии.
– Вы, Мишич, верите в эту возможность, хотя всего лишь через три месяца после начала боевых действий армия у нас сократилась почти вдвое? И даже эти уполовиненные войска остались без боеприпасов, о чем вы мне докладываете каждое утро. Солдаты босые и раздетые, а приближается зима. Противник же удвоил свою численность и беспрепятственно продвигается на фронтах Первой и Второй армий. И вы, стало быть, оптимист?
– Да, господин воевода. Эту войну выиграет тот, кто может дольше терпеть поражения. А я не знаю, есть ли такой противник, который может равняться с нами в силе терпения.
На том разговор и окончился. Возражать подобным оптимистическим утверждениям Путнику казалось бессмысленным. От сотрудника, который столь упрощенно и ограниченно оценивает нынешнее состояние сербской армии, нечего ожидать дельного совета. Но даже такое суждение Мишича убедило Путника в своей правоте и побудило без оптимизма высказать Пашичу свой взгляд на вещи. Правда, его очень смутило и напугало холодное и упорное неприятие министром-президентом подобной оценки ситуации, в которой находится сербская армия, и ее шансов. И хотя во время последующего разговора Пашич согласился прибыть на другой день вместе с членами кабинета к Верховному командованию, в неодолимой жесткости слов премьер-министра об ужасных потерях чувствовалось превосходство, явно не соответствовавшее положению и функциям, которые этот человек выполнял в государстве. Это превосходство прежде всего подразумевало здоровье, которого у него, Путника, не было и которое ухудшалось с наступлением осенних дождей и холодов; но в превосходстве Пашича ощущалась и сила, позволявшая не поддаваться событиям, сколь бы они ни были тяжелы, сила, которой именно он, Путник, должен обладать более других в Верховном командовании. И не только в Верховном командовании. А может быть, им уже безразлично, что до сих пор он проявлял эту силу, не соглашаясь ни на какие перемены в работе и системе отношений внутри аппарата Верховного командования, перемены, которые напоминали бы о чрезвычайном положении, соответствовавшем положению на фронтах (чего вообще требовал регент Александр, как Верховный командующий, и к чему склонялся генерал Мишич, как его собственный помощник). Стремясь сохранить «обычный порядок» в работе Верховного командования, он старался сохранить и свои будничные привычки. Он позвонил ординарцу, чтобы тот поставил к окну плетеное кресло: воевода любил встречать ночь, созерцая обнаженные липы под дождем и последние падающие листья. Если б облака так не прижались к земле, он поехал бы сегодня вечером на холмы за Валевом полюбоваться на тучки небесные, что более всего приносило ему успокоение и питало его раздумья о вечности и бескрайности мира.
Накинув шинель, он направился к окну в зале Окружного суда, но посреди огромного пустынного помещения с письменным столом и единственным плетеным креслом его остановил генерал Мишич.
– Господин воевода, воевода Степа решительно требует вас к телефону.
– Передайте ему, что мы завтра здесь с ним поговорим. Он, наверное, получил сообщение о завтрашнем заседании.
– Получил. И говорит, что завтра в Валево не прибудет.
Воевода Путник добрался до стола и взял трубку.
– Слушаю тебя, Степа.
– Я только что вернулся с позиций Моравской дивизии. Я видел, как германская артиллерия сравнивает окопы с землей и громит наши укрепления. А мои орудия должны молчать, потому что я приказал сохранить по три последних снаряда.
– Я слушаю тебя, Степа.
– Надо видеть, Путник, как заградительным огнем они одним залпом уничтожают у нас целые роты… Это бойня! Настоящая бойня для сербской армии!
Воевода Путник прикрыл ладонью трубку и шепнул Мишичу:
– Да он плачет! – и продолжал в телефон: – Погоди, Степа… У меня это тоже пятая война. И я знаю, что такое заградительный огонь!
– Не знаешь, Путник! Это не сражение между двумя армиями! Это истребление сербской армии. Истребление беспомощных!
– Я тебе, Степа, вчера вечером сказал, что и у Пашича, и у союзных представителей я третий раз настоятельно потребовал самым срочным образом доставить артиллерийские снаряды, которые мы уже оплатили.
– Что мне от твоих требований! Я больше не желаю командовать армией, у которой нет артиллерии. Я звоню тебе, чтобы сообщить: я подаю в отставку, я не желаю больше командовать Второй армией. Передай это Верховному.
– Благородно, Степа. Благородно, воевода… – Чтобы успокоиться, Путник присел на стул, покрытый солдатским одеялом.
– Я нахожусь в вашем распоряжении и прошу немедленно назначить нового командарма.
– А кому мне подать прошение об отставке, если я возглавляю Верховное командование страны, у которой нет оружейных заводов и которая подверглась нападению со стороны европейского государства, имеющего пятьдесят таких заводов? Перед кем мне отчаиваться и оскорбляться тем, что я терплю поражения в неравной войне, что меня вот так незаслуженно молотят Хётцендорф[51]51
Конрад фон Хётцендорф, Франц (1852–1925) – начальник Генерального штаба Австро-Венгрии.
[Закрыть] и Оскар Потиорек? Кому, Степа Степанович, оберегая свою честь и полный жалости к армии, могу я сегодня подать такое прошение?
– Королю и Пашичу! Политикам! Пусть эти господа сами посидят в окопах!
– А почему твои подчиненные не подают тебе прошений об отставке?.. Я спрашиваю тебя, почему они не подают, хотя имеют на это большее право, чем мы с тобой?
Генерал Мишич вышел из кабинета.
– Имеют, имеют, Путник! Потому что существует виновник того, что мы с пустыми руками и немощные встретили войну. Ты хорошо знаешь, кто этот виновник.
– Слушай, Степа… Мы с тобой старые солдаты. И еще на первом курсе артиллерийского училища в Крагуеваце усвоили, что такое воинский долг и что входит в компетенцию командира. Давай и теперь не будем на себя брать права, нам не принадлежащие. Иначе германские фельдфебели превратят нас в своих денщиков!
– Этого они сделать не могут, воевода! Я всегда могу умереть стоя!
– Теперь нужно стоя думать. Наш долг думать, а не умирать. Но об этом мы поговорим с глазу на глаз. Немедленно выезжай ко мне.
Он положил трубку и продолжал сидеть за пустым столом. И не стал поднимать ее на повторный вызов воеводы Степы.
В комнату вошел регент Александр и молча, не глядя на Путника, словно находился один, заложив руки за спину, встал перед развешанными на стене картами и принялся их рассматривать. Эта его привычка часто разглядывать карты и требование делать это вместе, рассуждая о положении на фронтах над обозначениями высот и изогипсов, вызывала у Путника раздражение, которое ему с трудом удавалось подавить. Именно так, над картами, поручики представляют себе великих полководцев, пусть их. Только бы он не предложил сегодня нанести какой-нибудь фланговый удар. Эти фланговые удары у Александра навязчивая идея. И только бы не изливал гнев на своих черногорских братьев за то, что они не проявляют активности на своем участке. Разговор со Степой он ему передавать не будет. Пускай завтра этот чувствительный воевода лично вручит отставку принцу-военачальнику.
Генерал Мишич положил на стол какие-то бумаги. Путник не расслышал, чье это донесение. Его это не интересовало. Он знает гораздо больше фактов, чем нужно, чтобы принять разумное решение. Он наблюдал за Мишичем: с какой угрюмой самоуверенностью тот неторопливо выходил. Мишич всегда самоуверен, всегда угрюм. Он только подает донесения и никогда не сделает ни одного важного предложения. Когда его не спрашивают, генерал молчит, а спросят, то его мнение, ясное дело, оптимистично. И регулярно повторяет требования на снаряды для артиллерии и на пулеметы. Заодно излил свой гнев на союзников. И ни малейшей инициативы, в чем вообще его отличительная особенность, за что, собственно, воевода и взял его помощником. Таким своим поведением он, ясное дело, мстит за увольнение на пенсию в прошлом году. Ладно, пускай и он свое возьмет.
– Дринской дивизии уже сегодня вечером придется оставить высоты четыреста двадцать и четыреста двадцать шесть, – произнес Александр, уходя и не глядя в его сторону.
Какое мне дело до дивизий и высот! – хотелось крикнуть ему.
Между Степой и Мишичем, над Степой и Мишичем, но под Пашичем и Александром как ему, Путнику, правильно думать и обдуманно поступать? Если искренно и честно, то неразумно, ведь для надежды нет настоящих причин, а без надежды нельзя вообще воевать и командовать армией… Пашич все важные решения о войне принял тогда, когда согласился вступить в войну. А раз война начата, от него, Путника, ждут только победы. И он тоже оптимист. Ох, эти оптимисты, этот оптимизм, эта философия рыболовов!.. Один у него помощник, другой – глава правительства! Между ними он может быть только пессимистом. Если война окончится поражением, Пашич ответственности не несет. Разбит он, командующий разбитой армии. Пашичу остается слава: во имя защиты свободы и независимости он имел честь и мужество вести войну с двумя европейскими государствами. Теперь самый тяжкий его долг быть последовательным. Упрямым. Сила глупых, особенность бездушных. За эту войну Сербии он, Радомир Путник, отвечает перед богом и людьми. Меньше за победу, больше за поражение. За размеры поражения. Размеры поражения! Что это такое? Стоя умереть, как говорит Степа, по-сербски биться до последнего вздоха, как вопят в тылу воинствующие патриоты. Или делать так, чтобы поражение обошлось минимальными жертвами, чтобы у народа осталась сила на жизнь и другую войну. А тогда надо поступать разумно. На разуме сейчас покоятся и честь, и героизм, и величие. Быть великим в поражении – значит быть честным перед лицом этого поражения, думать геройски. Думать разумно… По-своему, открыто, независимо от того, как поймут выше и нижестоящие.
Он позвонил ординарцу и не спеша направился к плетеному креслу, поставленному возле окна. Его завораживали эти перемены света и тьмы. Это возникновение ночи, появление звезд, раскрытие вселенной… Он не любил находиться в сумерках в комнате и замкнутом пространстве; в эти минуты он не мог работать, хотел побыть один. Неведомые, волнующие опасения переполняли его, чувства словно очищались и обогащались, мысли воспаряли. Перед неизвестностью вселенной собственная неизвестность была понятней; в неизвестности тьмы и звездных россыпей, рассеянных в бесконечности, все в себе и вокруг себя становилось виднее, чем днем. А это самое важное – отчетливо видеть: мы – мгновенье и пылинка. Ординарец укутал его в одеяло и пошел топить печь. Вернулся открыть окно; Путник хотел ощутить простор, землю, осень.
– На дворе очень сыро, господин воевода.
Он покосился на унтер-офицера Зарупеца, и тот быстро распахнул одну половинку окна. Путник согласился с таким непослушанием. Преодолевая кашель, жадно вдохнул свежесть осенних сумерек и запах мокрых деревьев. Ординарец принес зажженную астматическую сигарету, он жестом велел ему уйти; остался один, наедине с огнем в печи, за спиной. И огонь этот мешал ему сосредоточиться на мыслях о предельных возможностях сербской армии, которые должны обосновать его позицию для намеченной на завтра совместной встречи Верховного командования с членами правительства. Он не сводил глаз с обнаженной черной липы, мокнувшей под дождем, с которой ветер срывал последние листья. Попытался припомнить свои мысли о деревьях осенью, когда у себя в винограднике он, бывало, прикладывал ухо к стволу ореха, чтобы услышать движение соков к корням. Если бы в лесу можно было слышать осенью и весной эту жизнь соков в деревьях, какая бы это была музыка, какая песнь! Но человек этого не слышит, как не видит он самого прекрасного, как не понимает самого важного. И как не может лучшим образом поступить. Он осужден лишь этого желать, несовершенное существо, которое не примиряется со своим несовершенством, и не осознает его, и всегда стремится к большему, чем ему нужно, идет дальше, чем у него хватает сил. Потому и страдает. И справедливо, что страдает, точно так же, как справедливы эти его мучения по поводу судьбы своей армии. Он отчетливо видит: во тьме западной и северной Сербии сломалась, оборвалась длинная линия фронта; у его обороны нет формы. Дуги, и ничего больше. Точки и толпы. Беспорядок, устремленный в одном направлении. Рассеянная энергия. А человеческие действия, коль скоро они теряют форму, вместе с силою утрачивают и смысл.
3
Откуда столько ворон, что за напасть на Валево, думал Вукашин Катич, возвращаясь из госпиталя и торопясь на заседание Верховного командования.
Он должен воспротивиться отправке учащихся на передовую. Каковы бы ни были военные причины, принесение в жертву всей интеллигенции противоречит жизненно важным интересам Сербии. Он им это выскажет независимо от того, что завтра станут думать и говорить о нем. Высказать: прошли времена, когда народ проигрывал войну. Ныне лишь одно поколение может потерять свободу. Если за это время нация потеряет свою интеллигенцию, война будет проиграна независимо от того, чем она окончится на поле боя. Офицеры меня растерзают.
Он с трудом пробирался по тротуарам, заполненным горожанами, беженцами из Мачвы, которые молча стояли возле стен и на мостовых, глядя на длинную вереницу запряженных волами телег, битком набитых ранеными, которых с фронта привозили в Валево. Скрип и грохот телег нарушали тишину ранних сумерек, наполняли улицу гневом и отчаянием.
И скажет им: народ, который сегодня остается без интеллекта и знаний, не имеет причины радоваться миру; какое будущее можно оправдать такими жертвами? Для Сербии эта война может стать важнее утраченным в ней, нежели приобретенным. Разумно ли говорить об этом сегодня?
На крышах домов, сарайчиков и нужников равнодушно, сознавая свое превосходство, молчали вороны и галки. Две большие стаи с криками кружили над ним, над беженцами, над телегами с ранеными, под темными тучами, из которых временами сыпал дождь.
Поймет ли его кто-нибудь, захочет ли понять его побуждения? Мишич бы должен, хоть он и генерал. Кто еще? Товарищи по партии не одобряют. Они боятся общественного мнения и отступают перед заблуждениями. Можно ли одновременно противостоять Пашичу и Верховному командованию? В обоих случаях он может оказаться изменником. Это самое ужасное: быть правым сегодня может означать стать изменником.
Он стоял у входа в Окружной суд, где размещалось Верховное командование сербской армии. Дежурный офицер с лестницы приветствовал его, а он стоял в нерешительности: что бы он ни сказал и что бы ни сделал, в развитии событий он ничего изменить не может.
Молча он последовал за офицером, чувствуя некоторую неловкость от того, что последним является на эту встречу, которая, как твердил ему в поезде Пашич, «должна принести нам национальное единство». Возможно, судьба наша уже решена, а мы собираемся, чтобы составить краткий протокол.
Офицер открыл ему дверь, и он вступил в темный зал судебных заседаний, в молчание вокруг длинного стола, заваленного военными картами, занятого с одной стороны командующими армиями, с другой – министрами и руководителями оппозиционных партий. Возле стола оставались пустыми только два стула: во главе – явно для престолонаследника Александра, официального Верховного командующего сербской армией, и в конце – для него, пришедшего последним. Легким поклоном он поздоровался со всеми, снял шляпу и пелерину, которые принял офицер, и сел, поставив трость между коленями. Никто не ответил ему, кроме Пашича и генерала Мишича, который сделал это с очевидным опозданием, но громко, заметно обрадованный. Если и тот его не поддержит, а шансы на то, что Мишич окажется на его стороне, невелики, он останется в одиночестве перед мстительной ненавистью офицеров и министров. В самом главном с ним не согласны и его коллеги по оппозиции. А в политике нельзя быть одному. Как сейчас, во время войны, быть в одиночестве, когда всем нам угрожает одна коса? И когда дети его ушли добровольцами? Смеет ли он сегодня хоть в чем-нибудь отличаться от других?
Сквозь карканье ворон послышался астматический кашель воеводы Путника, главы Верховного командования, подлинного командующего сербской армией; напротив него Никола Пашич равномерно постукивает тростью об пол, сопровождая его глухой и трескучий кашель легкими кивками и не сводя глаз с карты боевых действий. В серую массу слились генералы и офицеры, и у всех, кроме Мишича, на лицах злое и обиженное выражение. В черном – политики, демонстрируя озабоченность и свою сокрушенность, сидят потерянные, точно в ожидании приговора.
Кого судят сегодня вечером в этом зале, над картой боевых действий Сербии? Самое Сербию или политических и военных карьеристов; нас, собравшихся вокруг карты, или тех, на поле боя, мокнущих под дождем раненых, мужиков, беженцев? А что, если приговор уже вынесен? Зачем он здесь? Только свидетель? Или, может быть, один из тех грешников, которых во имя отечества в силу некоей исторической неизбежности провозглашают виновниками поражения? Дабы в души потомков насмешками и проклятиями всадить страх перед любой непокорностью требованию – во имя свободы жертвовать всем? Что здесь ни скажут и ни сделают, что ни решат сегодня вечером в зале Окружного суда над военной картой Сербии, над этим совершенным хаосом линий, названий, цифр, – это не решит судьбу Сербии. Наверняка нет. У него возникает желание всю эту обрядовую официальщину нарушить чем-то, что напоминало бы о существовании реальности за стенами зала, чем-то похожим на тот окровавленный и изодранный шрапнелью мундир, который вынес, держа его за воротник, фельдшер из перевязочной и остановился перед ним, Вукашином, объясняя, что Милена в операционной и сейчас ее нельзя вызвать. Он кашлянул, стул скрипнул под ним, он ждал какой-либо реакции со стороны офицеров. И по очереди переводил взгляд по лицам безмолвных штатских, министров и членов оппозиции, хотел сказать им: «Люди, видите, какой дождь идет?» Нет, это не отвечало бы той мрачной озабоченности, внушающей страх оцепенелости людей, которые правят и командуют Сербией. Он хочет произнести какое-нибудь совсем обыкновенное, человеческое слово, например о воронах, но его предупреждает поспешное вставание присутствующих, приветствия, стук каблуков: в зал входит, по-военному держа руку у козырька, престолонаследник Александр.
4
Усаживаясь на свое место, престолонаследник вздрогнул от неожиданности, увидев напротив себя его, Вукашина, частого и принципиального критика монархии; посмотрел на него вызывающе и зло. Вукашин ответил пристальным, полным несокрушимого спокойствия взглядом. У престолонаследника растерянно зашевелились руки. Все, кроме Пашича, обратили на это внимание, ожидая залпа нетерпеливых слов.
– Начнем, ваше высочество, – произнес Пашич, глядя на свои колени и не переставая постукивать тростью по полу, сейчас несколько тише.
Престолонаследник Александр нервно повернулся к окнам; вероятно, ему мешало присутствие Вукашина или птичий грай снаружи.
Вукашин не помнил, чтобы когда-нибудь видел его спокойным, чтобы кто-либо из окружающих не вызывал у него гнева. Этому чрезмерно серьезному и холодному наследнику престола всюду тесно; этот честолюбивый принц, который уже правит, на удивление быстро и легко постиг извечный закон власти и властолюбия. Однако независимо от того, что он собой представляет и каков он лично, сей государь, под знаменем которого Иван уходит под пули и картечь, олицетворяет собой половину национального завета и воинской клятвы «За короля и отечество», с которой ежедневно погибают тысячи людей. Этот худощавый молодой человек с короткими усиками, воспринимающий свою роль слишком серьезно, когда молчит, производит несколько жалкое впечатление рядом с бородатыми министрами и седыми усачами генералами. Вот он что-то тихо сказал. Пашич прекратил стучать тростью.
– Господа, я не думаю, что со времен Косова сербы держали более важный совет, чем мы сегодня в Валеве. Исход всех восстаний и войн, которые мы вели с тысяча восемьсот четвертого года и по сей день, вновь должен получить свое подтверждение в эти дни. Король, мой отец, уполномочил меня потребовать от вас того тщания на службе отечеству, которое равно храбрости наших воинов на поле брани. Я прошу господина воеводу Путника доложить нам о положении на фронтах.
Взгляды всех, кроме генерала Мишича, устремились на воеводу Путника, который начал негромко, сипло, опираясь ладонями на карту Сербии.
– Господа, мой долг ознакомить вас с решающими факторами сложившейся обстановки. – Он умолк, стараясь справиться с кашлем и каким-то скрипом в груди; над венчиком короткой белой бороды вспыхнул румянец; каркнули вороны на липе под окном; Путник почти шептал: – Дивизии выбиты наполовину. Командные кадры истреблены от сорока до шестидесяти процентов. Боеприпасы израсходованы. Патронов хватит самое большее на две недели, артиллерийских снарядов – по нескольку штук на орудие. Армия, господа министры, босая и раздетая.
Все головы за столом повернуты к нему, над картой вытягиваются шеи. Воевода Путник, глядя куда-то поверх министерских голов, чуть повысил голос:
– В ближайшие дни выпадет снег. А противник, судя по всему, несравнимо сильнее и лучше подготовлен к боевым действиям. Его атаки не прекращаются. Валево мы оборонять не можем. Белград тоже. Кобург ждет, пока мы ослабеем еще больше, чтобы ударить в спину. Арнауты сверлят нашу границу, союзники, как вам известно, оказывают нам и нерегулярную, и недостаточную помощь. Верховное командование ежедневно и безуспешно обращается к правительству с просьбой добиться большей и более действенной помощи от союзников. Безрезультатно. Наши войска измотаны и уже показали спину противнику.
Все затаили дыхание, силясь понять сиплые, едва слышные слова Путника.
– Не успевает высохнуть моя подпись на приказаниях, а войска уже покидают позиции, которые я требую оборонять любой ценой. – Он умолк, выпрямился; чуть откинув назад голову, обвел взглядом сидящих за столом и опустил ладони на края карты, на рубежи Сербии. – Сербская армия, господа, сделала все, что могла.
Эти слова он произнес с убежденностью и твердостью, голосом сильным и словно бы чужим, поразившим всех.
– Что вы хотите сказать, воевода?
– Я полагаю, ваше высочество, что наше военное поражение близко. Судьба Сербии теперь в руках дипломатов. Нужно немедленно вступить в переговоры с противником. Если не поздно. Впрочем, это не входит в мою компетенцию.
Молчание воцарилось над картой Генерального штаба Сербии; на улице кричали галки и громыхали запряженные волами телеги с ранеными; судорога исказила лица офицеров, растерянность поглотила министров в темноте судебного зала. Неужели он, воевода Путник, организатор армии и стратег-вдохновитель победы над Турцией и Болгарией, считает, что сербской армии грозит катастрофа? – спрашивал себя Вукашин Катич. Неужели так считает человек, своими знаниями, рассудительностью и последовательностью создавший в армии и в народе маленькой Сербии веру в победу во время неравной схватки с Австро-Венгерской монархией? Дрожа всем телом, он не сводил глаз с воеводы Путника, который не мог совладать с приступом астматического кашля; больной, изможденный старик упирался обеими руками в стол. Вукашин посмотрел на соседей: у нескольких министров и политических деятелей оппозиции догорали между пальцами сигареты; их взгляды сливались со взглядами генералов, у которых оторопь затуманила мстительную злобу на политиков и правительство. Ни у кого не хватало духу движением нарушить погребальное молчание над большим столом в зале судебных заседаний, накрытым изображением родины на географической карте. С нее не сводил глаз Пашич и беззвучно, словно наигрывая простую детскую песенку, постукивал пальцами по краю стола, по темной линии извилистой Савы, бассейном которой целиком, кроме района Белграда, овладели австро-венгерские войска. И только он, Пашич, один не обратил внимания на внезапное и крупное событие в безмолвствующем зале: генерал Мишич широкими, слишком размашистыми движениями зажег спичку и закурил. Это позволило некоторым громко перевести дыхание и вновь обратить взгляд на воеводу Путника. Вукашин в этом жесте Мишича уловил нечто похожее на ликование. Может быть, пришло его время. Ведь Мишича вы преследовали, дважды увольняли на пенсию, вышвырнули его из Генерального штаба, как простого охранника. Человека, чьи взгляды всегда соответствовали его храбрости и чувству собственного достоинства. Он наверняка не согласен с Путником: спокойно курит и смотрит в окно. Он не верит, это видно по его лицу, не верит в поражение Сербии. А когда услышит мое мнение? Трость выпала у Вукашина из рук и грянула об пол. Он вздрогнул от стука. И вновь почувствовал упрек и гнев во взглядах офицеров. Может быть, он произнес бы что-нибудь в свое оправдание, однако в этот момент встал престолонаследник Александр, повернувшись спиной к присутствующим, несколько долгих мгновений напряженно стоял, вот-вот взорвется, совершит что-то страшное, но он всего лишь, словно расстегиваясь, распахнул окно; зал огласился карканьем галок. Александр вновь обратился к столу и растерянно посмотрел на своих офицеров и министров. Заскрипели стулья, все взгляды вновь притянули к себе окружности, толстые разорванные линии и двухцветные изогнутые стрелы, направленные к сердцу Сербии.








