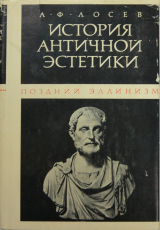
Текст книги "Поздний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 69 (всего у книги 76 страниц)
Наконец, в исследовании того, что Плотин называет материей, необходимо применить тот метод, который выше мы назвали методом (или стилем) понятийно-диффузным. Это значит, что материя вовсе не является устойчивой и неподвижной категорией, но что в категориальном смысле она вечно становится, расплывается и часто приобретает совершенно неузнаваемый смысл. Это вовсе не значит, что она совсем не есть какая-нибудь категория. Она – вполне точная, вполне смысловая и идейная, вполне неподвижная категория, которая всюду несет с собой определенный смысл. Но этот смысл текучий, и потому материя может быть также принципом бессмыслицы и даже зла.
1. Материя как иррелевантное становление
Понятийное, вполне точное и устойчивое и тем самым вполне осмысленное понимание материи Плотин имеет в виду во всех своих многочисленных текстах, где он говорит о материи как о не-сущем. В этом смысле о ней можно сказать только то, что она не это, не что-нибудь другое или третье, и вообще ничто из существующего.
Конечно, в этом смысле она и не восприемница эйдосов, как об этом учил Платон (Tim. 49 а) и как об этом говорит и сам Плотин (III 6, 13, 25-29). И уж тем самым она, конечно, и не мать чего бы то ни было, и не порождение чего бы то ни было, и не возможность чего бы то ни было, и не становление чего бы то ни было.
Если употребить один термин современной нам философии, а именно "чистейшая иррелевантность", то к материи Плотина такого рода терминология будет весьма подходящей. Это и есть материя как определенного рода категория, взятая в своей чистоте и неподвижности и вне всякого становления.
Правда, с некоторым риском плотиновскую материю можно характеризовать не только негативно, но, в известном смысле, также и позитивно, и это – еще до перехода ее в соединение с прочими, уже в полном смысле слова позитивными видами бытия. Дело в том, что даже и наше негативное определение материи заключается в перечислении всего несвойственного ей. Она есть ни это, ни то, ни еще третье, ни четвертое и т.д. Но ведь такого рода характеристика материи основывается, как это очевидно само собой, на перечислении всего того, что ей несвойственно, то есть на переходе от одного свойства, материи не присущего, к другому свойству, тоже ей не присущему, а отсюда к третьему, четвертому и т.д. Но такого рода перечисление, и притом бесконечное, то есть бесконечный и сплошной переход вообще от одного к другому есть ведь не что иное, как то, что в философии обычно называется становлением. Нельзя ли на этом основании понять материю Плотина как принцип становления? Нам думается, что это вполне возможно. Но только во избежание перехода от чистой негативности к какой-нибудь, хотя бы малейшей позитивности, надо все-таки подчеркивать, что такого рода становление, взятое в чистом виде, то есть вне всего того, что становится, есть предельно взятая иррелевантность. Материю Плотина можно назвать и понимать как чистейше данное иррелевантное становление. В этом смысле, пожалуй, мы не ошибемся, если будем трактовать материю Плотина как принцип становления в решительном отличии от всего того, что могло бы при ее помощи становиться.
2. Художественный смысл иррелевантности
Но Плотин, как и во всех других своих основных категориях, вовсе не остается на почве чистой иррелевантности, придавая ей разного рода качества, как сказано, именно в порядке своей понятийно-диффузной методологии.
Во-первых, не будучи ни тем и ни этим, и вообще ничем, материя может стать всем, чем угодно. В этом смысле плотиновская материя, не будучи никакой вещью и никаким предметом, является возможностью этих вещей и предметов и, следовательно, получает уже некоторого рода осмысление, пока еще чисто потенциальное (II 4, 2, 2-3; 9, 1-2; 10, 1-5; III 6, 7, 3-20). Она есть просто чистая инаковость (II 4, 16, 1-3).
Во-вторых, будучи возможностью вообще чего бы то ни было, она,. естественно, может стать и возможностью чего-либо определенного. Но так как определенное, по Плотину, есть только эйдос, то это значит, что материя может стать возможностью и всякого эйдоса, но, конечно, не такого эйдоса, который остается навсегда самим собою и не испытывает никаких изменений, но эйдосом, перешедшим в то, что вовсе не является эйдосом, в его инобытие, а это и значит – в материю. Тогда материя становится "восприемницей" и "кормилицей" эйдосов, как это полагается и по Платону и по Плотину (II 4, 6, 1-19), становится их воплощением, становится их инобытийной организацией, поскольку в данном случае эйдосы уже не остаются сами по себе, но облекаются в то, что не есть они сами, облекаются не-сущим, то есть облекаются материей. В этом смысле материю Плотин вполне правомерно может назвать и матерью.
В данной проблеме мысль Плотина отличается весьма большой тонкостью, которую далеко не все исследователи учитывают в полной мере. А именно – материя и в этом случае все же остается иррелевантным ничем и в том числе вовсе не становится восприемницей эйдосов или принципом их инобытийного воплощения. Она – решительно везде остается сама собой, то есть она решительно везде иррелевантна. Тем не менее и как раз в то же самое время в порядке тончайшей диалектики она все же есть и восприемница видов, и восприемница эйдосов, и принципа их инобытийного воплощения. Ведь когда мы видим светлый воздух или дышим теплым воздухом, мы совершенно не отличаем воздуха от света и тепла, поскольку свет и тепло в данном случае воспринимаются нами совершенно неразличимо с воздухом. Но это не значит, что воздух и свет или воздух и тепло являются в абсолютном смысле чем-то неразличимым. Они вполне различимы, так как согреваться может не только воздух и светлым может быть не только воздух. Поэтому и в случае воплощения эйдоса в инобытии результат такого воплощения совершенно один и в нем совершенно не видно никакой материи, которая как была иррелевантной, так и остается ею же и в воплощенном эйдосе. Но всякая более или менее теоретическая мысль, конечно, различает эйдос как чисто мысленную и нематериальную конструкцию, с одной стороны, и материю, сделавшую эйдос воплощенным в инобытии – с другой стороны. В-третьих, воссоединившись с эйдосом, то есть перенеся его в то, что он не есть, то есть в его не-сущее, в его инобытие, материя и в положительном смысле снабдила его такими свойствами и качествами, которых он сам по себе вовсе никогда не имел, как не имеет их у нас и любая наша математическая формула (II 6, 1, 23-29. 40-42. 53-58; 2, 15-34). Именно материя сделала его телесным. И тут уже бесполезно спрашивать, чем является конкретное дерево или цветок, эйдосом или материальным телом. Беспощадная и, можно сказать, свирепая диалектика решительно стерла здесь эту противоположность эйдоса и материи, то есть сущности и не-сущности. Когда цветок растет нормально и как нечто целое, никому и в голову не придет различать в нем эйдос и материю. Но вот цветок сорван и помещен в какую-нибудь банку с водой, в результате чего его бытие сначала колеблется и увядает, а потом цветок просто засыхает, то есть погибает или умирает, и его не-сущее торжествует вопреки его вечно сущему эйдосу. Следовательно, материя перестала быть даже возможностью бытия, а стала принципом небытия, принципом смерти и, если угодно сказать, прямо принципом зла. Об этом у Плотина тоже сколько угодно текстов (I 8, 8, 11-29; 10, 11-16; 14, 49-54; III 6, 11, 24-29).
В-четвертых, Плотин считает принципом увядания или принципом зла и не эйдос и не материю, а их субстанциальное слияние. Эйдос, взятый сам по себе, так же как и материя, тоже не есть принцип увядания, смерти и вообще какого бы то ни было становления. А вот соедините вместе эйдос и материю, и вы получаете ни то и ни другое, а получаете смертное тело, да это еще хорошо, если только смертное тело; вы получаете из материи ни больше ни меньше, как принцип зла вообще и безобразия вообще. Эйдос – не зло, и материя – вовсе не зло, да и тело, само по себе взятое, тоже не есть зло, потому что оно может быть совершенным и прекрасным. А вот соедините то и другое в одну и единую субстанцию – и ваша субстанция, конечно, может расцветать, но может и увядать, а еще, того и смотри, может и совсем погибнуть, может просто умереть. Следовательно, эта не-сущая материя, которая по своему понятию и по своему первоначальному определению есть ничто, оказывается, может быть не только воплощением эйдоса, и это воплощение – не только органическое и вполне субстанциальное (например, телесное), но она способна наделить вечный и неизменный эйдос любыми телесными свойствами, вплоть до катастрофически гибельных для этой объединенности эйдоса и материи. Сам эйдос – вечен и даже никак не аффицируем, то есть к нему нельзя даже и прикоснуться, настолько он бестелесен и являет собою чистый смысл. Да таким он и останется навсегда, даже и в своем воплощении в те или иные смертные тела. А вот тело эйдоса взяло да и погибло. Эйдос отскочил себе в свой умопостигаемый мир и остался неуязвленным, а вот его тело взяло да и погибло. И причина всего этого – все та же самая не-сущая материя. Впрочем, само тело не есть зло, как не есть зло ни эйдос, ни материя. Но материя, не будучи злом по своей субстанции, в данном смысловом окружении оказалась принципом зла.
Что тело, взятое само по себе, не есть зло, свидетельствует у Плотина картина небесного свода. Ведь этот звездный космос еще не есть эйдос, он все еще материя, которой свойственно то, чего не знает чистый эйдос, и прежде всего пространственно-временное движение. Правда, это пространственно-временное движение звездного неба состоит из круговращения небесных сфер, которые хотя и материальны, даже телесны, но, совершая движение в круге, они при всей своей вечности все же остаются на одном и том же месте, потому что вечно возвращаются к одному и тому же виду. Это сближает небесный свод с неподвижным эйдосом, который вообще не совершает никакого движения, даже и такого кругового, которое вечно возвращало бы его к самому же себе. С другой стороны, однако, небесный свод представляет собою самую настоящую материю, которая и видима для глаз и слышима пифагорейцами даже на слух, а Плотин тут весьма близок к пифагорейцам. Небесная материя – это очень тонкая материя и максимально разреженная в отличие от материи подлунного мира, которая является и более грубой, и состоит из вечных рождений и смертей, и слишком плотная, так что она вполне соизмерима с самым обыкновенным человеческим телом. Но ведь античной мысли вообще свойственно понимать материю с разной степенью плотности. Поэтому если звездные боги состоят из особого рода тонкой материи, то в этом нет ровно ничего удивительного. Своей вечностью эта материя звездных богов близка к эйдосу, а своей подвижностью и чувственно-ощущаемым характером она близка к нашей обыкновенной земной материи. Боги имеют свою собственную и тончайшую материю, которую древние называли эфиром. Но этот эфир – тоже материя, хотя и не та, что в подлунном мире.
В-пятых, чистый и абсолютный эйдос, как он ни уязвим, но все же существует и существует целую вечность. Но, спрашивается, существует ли действительно эйдос в этой своей неуязвимости или не существует? Явно, существует, так как иначе он тоже был бы ничем и мы тоже в нем ровно ничего не мыслили бы. Но существование эйдоса отлично от самого эйдоса или ничем не отлично? Явно, отлично. Но что же это значит? Это, безусловно, значит, что даже и чистому, вечному и бестелесному эйдосу свойственно то, что восприняло его как эйдос и что сделало его существующим. Но, позвольте, ведь это же есть материя. Пусть это первичная материя, как ее назвал Аристотель, пусть это идеальная материя, пусть это даже умопостигаемая материя, но это вовсе не эйдос. Это именно материя. Но это такая материя, которая вовсе не дана в виде развернутого становления воплощаемого ею предмета. Ведь прежде чем становиться, необходимо все-таки еще быть, то есть просто быть, без всяких дальнейших и возможных судеб этого бытия. Тут мы подходим совершенно к новому оттенку общего понятия материи, а именно к материи уже умопостигаемой, которая не ведет эйдос в сферу какого-нибудь становления, а пока только еще утверждает его как просто сущее.
В-шестых, Плотин, как мы видели, вслед за Аристотелем, не останавливается даже и на этом. Оказывается, уже в самом уме тоже есть своя умопостигаемая материя. Но только здесь она не просто принцип существования эйдоса как самостоятельной умопостигаемой единичности. В чистом Уме она уже прямо становится материалом для умопостигаемых статуй. Ведь Плотин везде мыслит художественно, и в области чувственной, и в области умопостигаемой. Но художественность всегда ведь есть некоторого рода фигурность, некоторого рода материальность и даже телесность. Ровно то же самое происходит и в уме. Ведь плотиновский ум, как это мы тоже хорошо знаем (выше, с. 644), состоит не из чего другого, как из богов, которых греки всегда мыслили антропоморфно. Значит, эти боги, несмотря на свое умопостигаемое бытие, тоже ведь обладают определенной телесной структурой, для которой необходим и соответствующий тоже умопостигаемый материал, превращенный в статуи, то есть получивший некое оформление. Нечего и говорить, что в Уме и его материалы и его формы, хотя они теоретически и различимы, фактически совершенно неразделимы и представляют собою одно и то же. Об этом Плотин красноречиво говорит в II 4, 3, 10, 14-15; 19-20.
Таким образом, не-сущая по своему первоначальному определению материя в диффузном порядке проникает собою решительно все бытие, правда, получая везде специфический смысл, но, и это очень интересно, смысл вполне художественный. Художественность материи, как и все у Плотина, конечно, иерархийна, то есть она может проявлять себя от нуля до бесконечности. Тем не менее и тут совершенно некуда деться, материя является одним из основных принципов эстетики Плотина, так что если вы назовете Плотина материалистом, то едва ли глубоко ошибетесь, несмотря на все его идеалистические и даже вполне мифологические и даже мистические построения.
Наконец, в-седьмых, материя доходит у Плотина даже и до Первоначальнейшего принципа бытия, а именно до Единого или Блага. Ведь мы уже не раз доказывали, что Единое Плотина вовсе не есть пустая непознаваемость. Иначе о нем нечего было бы и говорить, а Плотин говорит о нем почти на каждой странице. Нет, непознаваемость здесь – это только одна сторона. Единое Плотина, оставаясь в основе непознаваемым и недосягаемым, вполне определенным образом изливает себя в бытие, является его потенцией и даже энергией. Да оно даже и досягаемо, правда, только в сверхумном восхождении, на которое далеко не все способны. Да и как быть способным, если оно охватывает все вещи, все времена и весь мир в целом? И тем не менее его тоже можно назвать, как и материю, не-сущим, потому что оно тоже ни одно, ни другое, ни третье, ни вообще что-нибудь, а решительно все, взятое вместе и целиком. Поэтому иррелевантность свойственна также и ему. И вообще все бытие имеет две полярные точки: в одном случае нет ничего потому, что принцип бытия может быть всем, но лишен всего; а в другом случае потому, что он не только может быть всем, но и фактически есть все. Но материальность, если ее понимать согласно первоначальному определению Плотина как не-сущее, формально свойственна в совершенно одинаковой мере и одному и другому. Таким образом, материя (наряду с эйдосом) тоже является у Плотина основным принципом бытия; и этот принцип воплощающе-организационный, то есть художественный. Он разработан у Плотина всецело в стиле его общей понятийно-диффузной методологии.
Поскольку иррелевантность впервые делает возможным слияние всякого сущего с не-сущим, она является только одной из главных функций материи вообще, а это значит, что без момента иррелевантности у Плотина вообще не обходится ни сама материя, ни сам эйдос, ни их слияние в одно целое, ни их всеобщая бытийная значимость. А это значит, что и красота, как ее понимает Плотин, не будучи иррелевантностью целиком, все же некоторый ее элемент содержит в себе в максимально обязательном порядке, как содержит она в себе в той или иной степени также и материю.
Все это предложенное нами исследование эстетической значимости материи у Плотина, как это очевидно, рисует понятийно-диффузную методологию Плотина все еще слишком теоретически, то есть с опорой исключительно на основные категории мышления Плотина. Однако понятийно-диффузная методология у Плотина этим далеко не исчерпывается. Нам предстоит проанализировать еще целый ряд конкретных, а иной раз даже потрясающих картин применения этой понятийно-диффузной методологии. Но это требует особого исследования, к которому мы сейчас и обратимся.
IIIУМ И БЛАГО (ЕДИНОЕ)
Теперь, если перейти к первично прекрасному, то таковым является, по Плотину, Ум, взятый в чистом виде, Ум сам по себе, в то время как Душа (не говоря уже о теле) согласно сказанному у нас выше прекрасна от Ума. Правда, Ум тоже прекрасен Благом, но эта зависимость совсем иная, не идущая в параллель с зависимостью тела от души и души от ума.
1. Ум и предельное совершенство
То, что Ум прекрасен сам от себя, мы видели уже не раз. Таковы, например, приведенные выше тексты – I 6, 6. 9; V 8, 11; V 9, 2. Будучи прекрасен сам от себя, он есть целостность, единое Все, прекрасная координированная раздельность. Присоединим сюда еще и следующие тексты.
По Плотину, "было бы, конечно, абсурдным, если бы существовало некое прекрасное живое существо, а живое существо-в-себе, удивительное и невыразимое по своей красоте, не существовало бы.
Значит, всесовершенное живое существо (Plat. Tim. 31 b) состоит из всех живых существ, или лучше, обнимает в себе все живые существа (Tim. 30 с; 31 а) и пребывает настолько же одним, сколь и всем, как и что Все является единым сущим и как все видимое обнимает все в видимом" (VI 6, 7, 14-19).
Учение о живом-в-себе, об "автодзоне" платоновского "Тимея" – главнейший пункт всей неоплатонической эстетики. Это есть именно живая, трепещущая жизнью глубина чистого ума, черпающего красоту из своих собственных недр.
Прекрасные описания самодовлеющей внутренней жизни ума, что и есть первичная красота, находим у Плотина во многих местах. Приведем хотя бы из VI 6, 18, 19-53:
"Всеобщая мудрость и универсальный ум, имманентный жизни и сосуществующий ей и целокупно объединенный с нею (pas noys epon cai synon cai homoy on), творит ее еще лучшей при помощи некоего умного расцвечивания, и соединяя с мудростью, заставляет ее красоту являться еще более достойной почитания. Уже и здесь [в земной жизни] мудрая жизнь есть поистине нечто достойное чести и прекрасное, хотя оно и видится [является] здесь в затемненном виде. Но там оно является во всей чистоте, ибо там она дает видящему [самое] видение и способность жить с высшей интенсивностью и с большим напряжением видеть живые [существа] и, наконец, [прямо] стать тем, что он видит. Здесь, [в чувственном мире], наш взгляд часто падает также и на неодушевленные [предметы]; и даже всякий раз, когда он и падает на живое, все же ему видны раньше неживые моменты из живого, и сокровенная жизнь [живого] находится в смешении [с тьмой и умиранием]. Так же, даже если возьмешь что-нибудь как не живое, то [тем самым оно уже] блеснуло тотчас же во всей своей жизни. Созерцающий сущность, проникающую собою умный мир и доставляющую ему жизнь, неподверженную изменениям, равно как доставляющую ему [имманентно] присущее ему знание и мудрость и узрение, уже не сможет без улыбки смотреть на весь дольний мир, взятый целиком, из-за его потуг быть [истинной] сущностью. В умном мире пребывает жизнь, пребывает Ум и сущие [предметы] покоятся в вечности. Ничто [там] не выходит [из сферы сущего], ничто не меняет его и не сдвигает, ибо, кроме него, нет ничего сущего, что могло бы касаться его, а если что-нибудь и было бы, то оно было бы ниже его [подчинено ему], и если бы существовало что-нибудь противоположное ему, то оно осталось бы неаффицированным со стороны этого противоположного, ибо, будучи [только] сущим, [это противоположное все равно] не могло бы определить его как сущее, но [делает это] другой [принцип], общий [для всего сущего и не-сущего], предшествующий ему [по смыслу], и он-то и есть сущее-в-себе. Поэтому прав Парменид (ср. Parm. В 8, 6 и Plat. Parm. 142 d), сказавший, что сущее есть единство. И не аффицируется сущее не в результате [простого] отсутствия [всего иного], но потому, что оно – сущее: только этому сущему и можно быть от самого себя. В самом деле, как можно было бы отнять у него [у сущего-в-себе], сущее или что-нибудь другое, что действительно (energeiai) принадлежит сущему и тому, что происходит от него? Пока оно существует, оно снабжает [все своим бытием]. А существует оно всегда, отсюда – и все то, [что от него происходит]. Так велико [сущее] в своей силе и красоте, что очаровывает [нас] и все подчиняется ему, радуется [одному] тому, что имеет след его [на себе] и вместе с ним ищет благо. Поскольку бытие раньше блага, если иметь в виду наши стремления к благу. И весь этот мир стремится и жить и быть разумным, чтобы вообще быть; и каждый ум, и каждая душа стремится быть тем, что они есть; бытие же довлеет самому себе".
2. Всеобщая мудрость
Эта "всеобщая мудрость", софия, характеризована у Плотина с самых разнообразных сторон. К ней применимо почти все, что мы находим у Плотина об уме вообще. Так, например, в Уме неразличимо бытие от причины бытия, раз он сам для себя причина. То же самое высказывает Плотин и о красоте (VI 7, 2, 27-29): "Так как Ум произошел не впустую, в нем нет ничего лишенного причины; но так как он все имеет, имеет и бытие красоты (to calos) вместе с его причиной".
Жизнь есть вообще то, что создает красоту. Это также и в сфере Ума и в сфере мудрости. "Живое, поскольку оно живое, прекрасно, содержа в себе наилучшую жизнь, и никакой вид жизни в ней не отсутствует" (VI 6, 18, 12-13). И Уму и мудрости свойственна размеренность. "Да и вообще из сущего ничто не находится в [чувственных] границах, но быть ограниченным и быть измеренным значит испытывать препятствие к уходу в [чувственную] беспредельность и не нуждаться в [чувственных мерах. Все находящееся там – суть меры, откуда все и показывается прекрасным" (VI 6, 18, 8-12). Следовательно, умная красота есть размеренность, служащая критерием и формой для размеренности красоты всякого иного бытия.
Наконец, если Ум есть свет, то и умная красота изображена у Плотина как умный свет. О световом видении красоты – бесконечные тексты.
3. Стремление Ума к еще более высокому началу
И все же, как ни велика красота Ума, и она стремится еще к более высокой. Она еще не есть последнее услаждение и Эрос. Взятая сама по себе, без всякого первоистока, откуда и она и все прочее, она даже представляет собою нечто бессильное и вялое. Без абсолютной базы Единого или Блага она есть только интеллектуальная размеренность, которая в значительной мере виснет в воздухе.
"Итак, когда кто-нибудь увидит этот свет, тогда и движется к этому и, жадно стремясь к свету, сияющему на этом, радуется, как и в отношении здешнего тела Эрос бывает не к [телесному] субстрату, но к представляемой на нем красоте. Правда, ведь каждое есть то, что оно есть, только если оно берется само по себе. Предметом стремления оно является [только] тогда, когда Благо сообщит ему свои краски, как бы придавая ему прелесть и эрос к его достижению. Поэтому и Душа, воспринимая на себя исходящее оттуда истечение, приходит в движение, ликует, наполняется неистовством и становится Эросом. До этого она и не движется к Уму, хотя он и прекрасен. Ведь его красота, до того как она воспримет свет Блага, бездеятельна; и, откинувшись назад, душа отпадает навзничь (Plat. Phaedr. 254 b) от самой себя и в отношении всего ведет себя бездеятельно, и она остается безразличной к Уму, даже в его присутствии. Когда же приходит к ней оттуда как бы теплота, она укрепляется, пробуждается, воистину окрыляется и хотя жадно стремится к тому, что рядом и близко, но все же поднимается к иному, как бы большему по воспоминанию [о нем]" (VI 7, 22, 1-17).
Об этом же – прекрасно и четко в VI 7, 27: сам по себе эйдос, форма, вовсе еще не есть благо, и полнота бытия – не в форме, но именно в благе, в достижении самого источника жизненных стремлений. Как читаем в VI 7, 28, 20-29, благо можно считать эйдосом, но для этого надо представлять себе постепенное восхождение эйдосов, которое есть возрастающее отхождение от того, что не есть эйдос, или форма, то есть от бесформенности, от материи. Внизу – абсолютная заполненность материей, где тонет всякая форма. В телах она уже появляется, хотя еще очень связана с материей. В душе она свободнее, и еще свободнее в Уме. Но в Уме есть материя, хотя и внутренняя. Если теперь исключить материю из самого Ума, то отпадает самая возможность всяких противопоставлений в Уме, ибо то, что в чувственности есть внеположность, в уме есть только различенность. Однако с отпадением различений отпадает и самая форма. Поэтому эйдос, максимально свободный от всякой материи, есть эйдос, свободный от самого эйдоса (aneideos physis). A это и есть Единое.
Однако, прежде чем перейти к красоте Единого, нужно сказать о том, что и в самом уме тоже существует материя, поскольку без нее в уме не было бы материала для тех изваяний (богов), из которых он состоит.
а) Проблему умной материи мало привлекали для изложения эстетики Плотина. Между тем это один из самых существенных ее пунктов. Мы скоро узнаем, что красота, по Плотину, является одновременно и умной, идеальной и выразительной, фигурной, даже пластической. Тот, кто не представляет себе, как чистый ум может быть выразительным, картинным (а таковы были почти все исследователи-позитивисты XIX-XX вв.), естественно, не мог понять этой проблемы и у Плотина. У последнего умная материя есть как раз условие пластичности Ума, фигурности эйдоса, что для эстетики является самым главным.
Учение об умной материи у Плотина затронуто главным образом в II 4, 2-55, – места, на которые здесь необходимо обратить серьезное внимание.
В II 4, 2 излагаются аргументы против умной материи. Говорят, по Плотину, что материя есть нечто неопределенное и бесформенное, в Уме же все совершенно и определенно, – какая же может быть материя в уме? Материя вносит сложность, а Ум прост. Материя – там, где возникновение одного из другого, в Уме же – ничто не возникает ни из чего, но существует вечно. Выходит, что Ум никакой материи в себе содержать не может.
В ответ на эти аргументы Плотин выставляет в II 4, 3 утверждение:
"Неопределенное отнюдь не везде достойно только презрения, равно как и то, что по своему смыслу могло бы быть понято как бесформенное, если оно имеет целью подчиняться тому, что раньше его, и совершеннейшему" (1-3). Плотин говорит, что, например, Душа есть нечто неопределенное в сравнении с Умом, и тем не менее она может вполне ему подчиниться. Но если умная материя вполне подчинена Уму, то она уже не есть нечто неопределенное и бесформенное. "Материя становящихся вещей постоянно имеет все разные и разные эйдосы; материя же вечных вещей постоянно остается самотождественной. Здешняя материя, пожалуй, – противоположность той, так как здесь она только отчасти все и [только отчасти] – одно [и то же] в каждой отдельной вещи. Поэтому, раз одно выталкивает другое, то ничего и не остается [в ней] пребывающим. Поэтому [же] она и не самотождественна постоянно, а там [в умном мире] она есть все одновременно. Поэтому она и не имеет там ничего, во что она могла бы перейти, так как уже имеет все. Тамошняя материя, стало быть, ни в коем случае не бесформенна; она не есть здешняя материя; и обе, следовательно, существуют разными способами" (9-16).
Итак, умная материя и умный эйдос есть одно и то же. Однако между ними существует и разница. Об этом говорит II 4, 4. Именно – раз эйдосов много, то, значит, в них есть нечто общее. Общее же есть в них тогда, когда есть и частное. Следовательно, в умной области должно быть нечто более отвлеченное, оформляющее, и нечто более частное, оформляемое. Другими словами, материя и эйдос тут все же различаются. Далее, если чувственный мир подражает умному, в умном же форма и оформляемое различаются, то, следовательно, должна быть противоположность эйдоса и материи и в умном мире. Плотин учит о неделимой делимости умного эйдоса:
"В самом деле, умный мир, с одной стороны, совершенно и окончательно неделим сам по себе, с другой же – как-то и делим. И если части удалены друг от друга, то также деление и удаление есть аффекция материи, поскольку последняя и есть то, что , [в данном случае] разделено. Если же [эйдос], оставаясь множественным, неделим, то многое, находясь в едином, существует в материи, будучи формами этого единого; такое единое, данное как многое, надо мыслить разновидным и многообразным. Следовательно [умный мир, эйдосы], до своего бытия в качестве разновидного, бесформен. Именно, если отнять от Ума его разновидность, формы, смыслы и мысли, то оставшееся там в виде более первоначального окажется бесформенным и неопределенным, и уже ничего не остается из этого [отнятых форм] ни при нем, ни в нем" (9-20).
Итак, в Уме эйдос и материя и различаются и тождественны. Вот это-то самотождественное различие ума в отношении эйдоса и материи как раз и создает пластическую сконструированность всей умной сферы. Ум делается, говорит Плотин, телом, так как он как бы вылепливается из некоего – умного же – материала под руководством того или иного отвлеченного смысла. Об этом читаем в II 4,5:
"Если оба [эйдос и материя] суть едино (так как Ум вечно и вместе имеет [все ] это), и если там нет материи, то там нет телесной материи: Ум ни в коем случае там не лишен формы (morphё), но есть вечно цельное тело, однако все-таки сложное. А именно – Ум обретает двоякое, так как он разделяет до тех пор, пока не придет к простому, что уже не может быть само делимо [дальше] ; покамест же он в состоянии, он двигается к своему глубинному основанию (bathos). Глубинное же основание каждой вещи – материя. Потому она и темна, что свет есть смысл, и Ум есть смысл. И, следовательно, видя смысл каждой вещи, Ум считает низшие слои его (to cato hypo) темными, как находящиеся под светом, подобно тому как светозарное око, увидевшее свет и краски, которые [тоже] суть свет, оценивает находящееся за красками, как темное и материальное, скрытое красками. Во всяком случае, темное в умных предметах и темное в чувственных вещах, однако, различны и различна также материя, поскольку различен и налегающий на обе эйдос. Ведь божественная [материя], принимающая оформленность (to oridzon), [уже] сама содержит оформленную и умную (noeran) жизнь; другая же материя [только еще] становится чем-либо оформленным, [сама], разумеется, еще не проявляя жизни и не мысля, но будучи лишь украшенным трупом. Форма [тут] – эйдол ("затемненный образ"), так что и субстрат – эйдол. Там же – истинная форма, так что и субстрат – истинная форма. Поэтому вполне правыми следует считать тех, которые утверждают, что материя есть сущность (oysian), если это говорится о той [умной] материи, потому что субстрат там есть сущность, лучше же сказать, сущность, мыслимая вместе с находящимся при ней [эйдосом], целостно, [т.е. как материя и эйдос одновременно], пребывающая в свете" (1-23).








