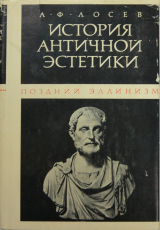
Текст книги "Поздний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 76 страниц)
4. Итог предыдущего
Прекрасное резюме всего трактата III 8 находим в 7-й главе.
а) "Итак, – читаем мы здесь, – может считаться ясным, – отчасти потому, что это вытекает само собой, отчасти об этом напомнило наше исследование, – что: все истинно-сущее [возникает] из созерцания и есть созерцание, а возникшее из него возникло вследствие того, что оно созерцает и само есть созерцательные данности (одно путем ощущения, другое – путем знания или мнения); что поступки имеют цель в знании и стремление к знанию; и порождения, исходящие от созерцания [имеют цель] в осуществлении лика (edoys) и другой созерцательной данности; что вообще все, будучи подражанием творящего, творит созерцательные данности и лики; что становящиеся субстанции, будучи подражанием сущего, указуют творящее, сделавшее своею целью не [самые] акты творчества и не акты деятельности, но чтобы созерцался продукт; что, [наконец], это хотят видеть размышления и еще раньше – ощущения, у которых целью является знание, и еще раньше этого природа творит созерцательную данность в самой себе и смысл, достигая [этим еще] другого смысла. Ведь и то ясно, что если первичное состоит в созерцании, то необходимо и всему прочему стремиться к этому, раз целью для всего является принцип, [Начало]. Действительно, когда живые существа рождают, то движут [этим] смыслы, существующие внутри, и это есть энергия созерцания и мука созидания многих форм (eide) и многих созерцательных данностей, наполнения всего смыслами и как бы постоянного созерцания. Ибо творить какое-либо бытие значит творить форму (eidos), a это значит наполнять все созерцаниями. И ошибки в возникающем ли или в действующем суть уклонение созерцающего от предмета созерцания. И как раз плохой художник оказывается тем, кто творит безобразные формы. [Потому же] и влюбленные (erotes) относятся к тем, кто зрит и спешит к лику" (1-27).
б) Еще короче резюме трактата III 8 можно представить в следующем виде. Все становится, меняется. Если так, то, следовательно, есть нечто нестановящееся и неизменное, без чего невозможно и самое становление, то есть существует "смысл", логос, и "вид", "лик", эйдос, априорная форма вещи (по Плотину, объективно-априорная, а не субъективно-априорная). Но становится не просто бытие; становится и сознание бытия; и "созерцательное" бытие тоже имеет априорные формы. Их Плотин называет созерцанием. Следовательно, созерцание, лежащее в глубине природы, есть принцип осмысления всякого живого самосознающего предмета. Это созерцание – иерархийно, от неодушевленного предмета до первопринципа. А так как природа красоты – умная, то есть красота есть, по Плотину, ум, то, значит, главный вывод из III 8 для эстетики тот, что красота мыслится Плотином как объективно данный смысл идеального самосознания бытия. Красота есть априорная форма интеллигенции, объективно осуществленная в бытии как граница между экстатическим уходом в глубину Первоединого и переходом во внешнюю чувственность. По сравнению с чистым созерцанием всякое действие есть только ослабление, отчуждение от себя самого, самозабвение. Когда созерцание ослабляется, потемняется, забывает себя и переходит в инобытие, оно превращается в действия, в те реальные действия, из которых состоит реальная жизнь природы. Созерцание есть действие в пределе, идеальная регулятивная структура, осмысливающая всякие действия и впервые их "делающая возможными". Вот почему оно – априорная форма всякой интеллигенции, и вот почему оно – "условие возможности" красоты как интеллигентной формы.
в) Нам хотелось бы для характеристики проанализированного у нас трактата употребить один термин, который принадлежит самому Плотину, но который здесь он пока еще не употребляет. Мы встретимся с ним ниже, в трактате V 8, 4-13. Термин этот – софия.
Этот термин введен Плотином для того, чтобы, с одной стороны, трактовать ум как начало всякого смыслового расчленения и объединения, а с другой стороны – констатировать и в самом уме его чисто умную же, чисто идеальную осуществленность. Ведь красота не есть только смысловая конструкция, представляющая собою какую-нибудь понятийную систему. Красота ведь есть, с другой стороны, также и вечно бурлящая жизнь, но такая, которая не переходит в человеческий материальный быт и которая для него может являться только принципом, а может и не являться, если этот быт безобразен. Жизнь, прежде чем проявляться во всех своих земных подробностях, должна пониматься пока еще как просто жизнь, без перехода в инобытие. Если не существует такой идеально собранной в себе жизни, то не может существовать и никакой раздробленной или рассеянной жизни, то есть жизни более дробной и более мелкой. Однако это значит, что самый исток жизни должен быть в том, что является истоком вообще всякой единораздельности, то есть в уме. Вот такую умную собранность-в-себе, такую умную осуществленность до перехода в дробно материальную осуществленность Плотин и называет софией, наделяя ее также свойством предельного самосознания.
Это ясно уже из простого восприятия самого обыкновенного художественного произведения, которое ведь состоит не только из посторонних к самой красоте материалов (красок или звуков), но еще и выявляет для каждого зрителя, слушателя или читателя ту или иную внутреннюю жизнь, так что даже простой пейзаж художник подает на своей картине с тем или другим, как говорят, настроением. Пейзаж может быть грустным или веселым, обыденным или возвышенным, типическим или символическим, прозаическим или торжественным. Но это и значит, что даже обыкновенное произведение художника всегда есть слияние не только какого-нибудь утверждаемого им бытия или смысла или идеи, но также и некой внутренней жизни, которая, хотя ее и можно видеть обыкновенными глазами и слышать обыкновенными ушами, на самом деле не имеет ничего общего ни со зрением, ни со слухом. Вот почему созерцание и творчество сливаются здесь в одно нераздельное целое, и как раз это-то Плотин и называет софией. В изложенном у нас выше трактате III 8 термин софия не употребляется. Но, судя по всем другим текстам Плотина, ясно, что в этом трактате III 8 именно софию он и считает принципом красоты.
г) Трактат III 8 для перевода является одним из самых трудных трактатов Плотина. Однако есть, кажется, один момент, который способен существенно облегчить понимание этого трактата и для его переводчика и для его читателя. Этот момент заключается в следующем.
Плотин в этом трактате все время употребляет термин "созерцание". На самом же деле это можно считать только особенностью его собственной терминологии и отчасти вообще античной терминологии. Но, насколько мы представляем себе, здесь имеется в виду тот простой мыслительный процесс, когда мы, выделивши из всего хаоса вещей какую-нибудь одну вещь, даем ей определенное наименование и тем самым отличаем от всех прочих вещей. Покамест круг, деревянный, железный или какой-нибудь еще, находится среди прочих вещей в том или ином виде (колесо, обруч) и никак нами не назван, он остается погруженным в мутную область чувственных восприятий и ровно ничем не дает о себе знать. Но вот мы осознали какой-нибудь из этих бесчисленных кругов как именно круг и сказали, что это есть именно круг. Сказать так значит отличить круг от всего прочего и отождествить его с ним же самим. Как только мы сказали, что круг есть круг, он уже получил для нас реальное существование, в то время как раньше он существовал сам по себе и для нас вовсе не был реальностью. Итак, познать что-нибудь это значит в первую очередь отождествить данный предмет с ним же самим. По Плотину, это значит подвергнуть вещь созерцанию.
Не нужно этот плотиновский термин понимать слишком торжественно, слишком возвышенно и слишком мистически. Это есть просто отождествление предмета с ним же самим, без чего невозможно его реальное и раздельное существование. Но это мы говорим о вещах неорганической и неодушевленной природы, где не ставится никакого вопроса ни о природе этого самоотождествления, ни о том, кто производит это отождествление предмета с ним же самим.
Однако в психической области тоже ведь происходит отождествление познаваемых предметов с ними самими. Но тут уже, несомненно, выступают две разные области: субъективно-психический акт отождествления и объективно-реальное существование самоотождествленных предметов. Естественно, что для греческой мысли такое противостояние двух областей не может быть окончательным. Раз существуют какие-то две области, значит, они объединяются в какой-то третьей области, поскольку никакой абсолютный дуализм немыслим для античной гносеологии. Но какая же это третья область?
Этой третьей областью может быть только такая ступень бытия, на которой необходимое для реального познания самоотождествление предметов происходит без субстанциального противопоставления этих областей. Представление о круге и объективно существующий круг при всем своем различии субстанциально должны быть одним и тем же кругом, то есть в этой третьей области противопоставление и отождествление предметов является процессом внутреннего расчленения одной и той же бытийной области. Эту область Плотин называет умом, поскольку в уме все эти процессы различения и отождествления происходят в нем же самом, то есть независимо ни от какой еще посторонней области, где эти процессы имели бы первичный смысл. Но раз достигнуто такое отождествление предметов, которое есть только внутреннее расчленение ума, то античная мысль, всегда стремящаяся к предельным обобщениям, тут же ищет еще и такую область, где нет даже этой внутренней расчлененности и где все содержится выше всякого расчленения, то есть вне всякого противопоставления и отождествления. Эту высшую ступень Плотин называет единым.
Таким образом, иерархия самосозерцания в природе, в душе, в уме и в едином оказывается не чем иным, как иерархией того самого простейшего и вполне бытового отождествления предмета с ним самим, без чего невозможно ни выделять этого предмета из бесконечного хаоса вещей, ни тем более приписывать ему какие-нибудь свойства, ни пользоваться этим предметом. Можно сказать, что в этом мировом самосозерцании с логической точки зрения у Плотина ровно нет ничего таинственного или непонятного. Это просто самый обыкновенный и бытовой процесс познавания вещей, то есть установление их как существующих. Другое дело – это сама стихия познания и мышления. Познавать и мыслить, по Плотину, это уже означает пребывать в некой возвышенной сфере. Познавание и мышление, по Плотину, взятые как таковые, можно сказать, священны и божественны. Поэтому и понадобился Плотину специальный термин, которого он мог бы вполне избежать, а именно термин "созерцание". Для эстетики же во всей этой теории Плотина важно то, что в красоте всегда имеется как различение, так и отождествление познаваемого и познающего, или мыслимого и мыслящего. Красота всегда есть какая-нибудь воплощенная мысль, и уже по одному этому она и священна и божественна. Переводя же эту теорию на современный прозаический язык, мы здесь ничего другого не можем сказать, кроме как постулировать необходимость отождествления предмета с самим собою и для того, чтобы он был познаваем, и, еще больше, для того, чтобы он обладал определенной формой. Заметим, кроме того, что выделение какой-нибудь вещи из хаоса прочих вещей и отождествление ее с нею же самой дает возможность познавать не только форму такой вещи, но и действия этой вещи. Такая вещь, однажды возникши из хаоса вещей, уже может быть началом и причиной других вещей, то есть может так или иначе действовать на прочие вещи, а также может и для нас оказаться орудием действия. Другими словами, это плотиновское созерцание обладает в данном случае не только смыслоразличительным характером, но и творческим характером. Все бытие созерцает само себя и тем самым творит себя самого.
Поэтому трактат III 8 мы должны признать или прямым введением в эстетику Плотина, или даже прямо первой его частью.
Теперь мы расчистили себе дорогу для настоящей эстетики Плотина и можем приступить к рассмотрению его двух специально-эстетических трактатов – I 6 и V 8. Чтобы правильно ориентировать их на фоне всей философской системы Плотина, необходимо помнить все эстетические аспекты, упомянутые выше. Красота содержит в себе планы апофатический, идеально-смысловой (то есть логический, эйдетический и софийный), психологический и гилетический. Мы рассмотрим участие каждого из них в конструировании прекрасного вообще. Теперь Плотин будет говорить уже о прекрасном самом по себе и не упомянутые точки зрения рассматривать в применении к красоте, но самую красоту в освещении с этих точек зрения. Начнем с I 6.
Перевод трактата
1. Физически-прекрасное не есть ни просто бытие телом, ни симметрия частей{5}
"Прекрасное заключается большею частью в зрительном восприятии; заключается оно также и в слуховых восприятиях, равно как и в соединении слов и во всей музыке, потому что мелодии и ритмы также бывают прекрасны. Если же мы от чувственного восприятия поднимемся выше, то прекрасными оказываются также занятия, поступки, состояния, науки и красота добродетелей (ср. Plat. Hipp. mai. 297 е – 298 b и Conv. 210 с). Существует ли еще красота высшая, это обнаружится [в дальнейшем]. Итак, что же есть то, что заставило и тела представлять прекрасными и заставило слух понимать звуки как прекрасные? И как, далее, вообще прекрасно все, что связано с душой? И прекрасно все именно от одного и того же или одна красота в теле и другая – в другом предмете? И что такое эти [разные виды красоты] или эта [одна красота]? (1-11).
Действительно, одни предметы, как, например, тела, прекрасны не от самого субъекта, но от участия [в другом]; другое же прекрасно само, например, природа добродетели. Одни и те же тела оказываются один раз прекрасными, другой раз – не прекрасными, так что быть телами и быть прекрасными телами, это – разные вещи. Но что же тогда такое это присутствующее в телах? Рассудим сначала об этом. Итак, что есть то, что приводит в движение зрительные восприятия тех, кто смотрит, обращает к себе, влечет и заставляет радоваться от этого видения? Если бы мы это нашли, то, пожалуй, мы рассмотрели бы и прочее, пользуясь этим как преддверием (Conv. 211 с) (12-20).
Как известно, многие утверждают, что для зрительного восприятия красоту создает, так сказать, симметрия частей в их взаимном отношении и в их отношении к целому, с прибавлением еще красивой окрашенности (ср. SVF III frg. 278; 472), и для них, как и вообще для всех, быть прекрасным есть не что иное, как быть соразмерным и хранящим в себе меру. У них ничто простое не будет прекрасным, но по необходимости только сложное. Кроме того, прекрасным у них окажется [только] целое; каждая же часть в отдельности [уже] не будет от себя самой содержать в себе бытия в качестве прекрасного, но [только] в зависимости от целого, достигая того, чтобы быть прекрасной. Однако раз прекрасно целое, необходимо, чтобы и части были прекрасными, потому что оно не состоит из безобразного, но красота охватила всех их. Кроме того, у этих [мыслителей] окажутся вне сферы красоты, например, красивые цвета или солнечный свет, поскольку они просты и имеют красоту не в силу симметрии. Чем, например, красиво золото и почему красиво видеть молнию ночью или звезды? Подобным же образом простота не должна приниматься во внимание и в звуках, хотя в условиях прекрасного целого часто прекрасен и каждый тон в отдельности (20-36).
Далее, поскольку одно и то же лицо в условиях одной и той же симметрии один раз оказывается прекрасным, другой же раз – нет, то как же не надо утверждать, что быть прекрасным для симметрического есть [нечто] другое и что симметрическое прекрасно [совсем] по другой причине? Но если мы перейдем, далее, к прекрасным занятиям и речам, требуя симметричности и для них, то какую же симметрию можно указать в прекрасных занятиях, законах, знаниях и науках? Как могли бы быть симметричными друг в отношении друга предметы знания? А если это надо понимать в смысле [некой] согласованности, то согласие и согласованность может существовать и в плохом. Например, утверждению "стыдливость (sophrosynё) есть глупость", согласно, созвучно и взаимно соответствует утверждение "справедливость есть благородная тупость" (R. Р. VIII 660 d; I 348 с; ср. Gorg. 491 е). Красота души, как известно, есть всякая добродетель. И эта красота более истинная, чем красота ранее названных предметов. Но почему же это симметрично? Хотя и существует несколько частей души, но это не симметрично ни в смысле [пространственных] величин, ни в смысле чисел. В каком же отношении происходит сочетание или смешение частей [или представлений]?{6} Что же было бы [тогда] красотой ума, когда последний остался сам по себе?" (37-54).
2. Сущность физически-прекрасного заключается в участии тела в эйдосе двоякого рода
"Итак, если вновь приступить к исследованию, то мы должны сказать, что же такое первоначальное прекрасное в телах. Именно, существуют определенные предметы, которые при первом взгляде на них опознаются в качестве прекрасных и о которых душа говорит как об известном, что при распознании его она принимает и в отношении к чему как бы приходит в гармонию. Когда же она нападает на безобразное, она от него отворачивается (Conv. 206 а), его отрицает, отказывается от него, не согласуясь с ним и отчуждаясь от него. Поэтому мы утверждаем что душа, сущая тем, что она есть по самой своей природе и относясь к лучшей сущности среди существующего, когда увидит что-нибудь родственное или след родственного, она радуется, беспокоится, возводит к себе самой и вспоминает о себе самой и о принадлежащем себе. В чем же, следовательно, заключается подобие здешних красивых предметов с тамошними? И если существует подобие, то пусть они будут подобными – но в одном ли и том же прекрасно здешнее и тамошнее? (1-13).
Мы утверждаем, что здешнее [прекрасно] благодаря участию в эй-досе (metochёi eidoys). Именно – все бесформенное, [однако], по природе способное принять форму (morphёn) и эйдос, будучи непричастным смыслу (logon) и эйдосу, безобразно и находится вне божественного смысла, то есть оно просто безобразно (ср. Tim. 50 d). Но безобразно также и то, что еще не побеждено формой и смыслом, когда материя не поддалась окончательному оформлению через эйдос (Arist. de gener. an. IV 3, 769 b 12). Поэтому, привходящий [в материю] эйдос упорядочивает путем объединенного полагания то, что из многих частей должно стать [неделимым] единством, приводя к одному [определенному] свершению и имея своим созданием [это] единство при помощи согласования, потому что сам он был единичен, и единичностью должно было стать и оформляемое [через него], поскольку это возможно для последнего как состоящего из множества [частей]. Отсюда водружается в нем красота, когда оно приведено к единству, и отдает она себя саму и частям и целому [в нем]. Когда же [эйдос] попадает на то, что [уже] едино и состоит из подобных друг другу частей, то он передает себя самого [только] целому, как, например, некая природа, а в других случаях искусство может придать красоту иногда всему зданию, включая [отдельные] части, иной же раз [тому или другому] одному камню. Вот, значит, каким образом тело становится прекрасным посредством логоса, исходящего от богов" (13-28).
3. Специфичность, двуплановость и внешняя выраженность эстетического эйдоса
"Познает ее [красоту] специфически определенная для нее способность [души], которую ничто не превосходит в смысле суждения о том, что к ней самой относится, даже когда участвует в [эстетических] суждениях и прочая душа. Но, может быть, и сама она произносит [суждения] на основании соответствия с присущим ей эйдосом, которым она пользуется в целях суждения, как отвесом в случае с прямой линией (1-5).
Но как согласуется то, что относится к телу, с тем, что существует до тела? Как домостроитель, сличая построенное здание с его внутренним эйдосом, говорит, что дом красив? Не потому ли, что построенное здание, если отделить камни, и есть не что иное, как внутренний эйдос, раздробленный внешней материальной массой, который проявляется во множестве как неделимый. Поэтому всякий раз, когда чувственное восприятие увидит, что эйдос, находящийся в телах, связал и победил природу, по своей бесформенности ему противоположную, и увидит форму, изящно возвышающуюся над другими формами, – оно, это восприятие, объединяя собранную здесь самое множественность, возносит и возводит
во внутреннюю сферу, уже неделимую, и дарит ей [эту множественность] как созвучную ей, согласованную с ней и ей любезную; как благородному мужу приятны следы добродетели, проявляющиеся в юноше и созвучные с его собственной внутренней истиной (5-16).
Красота краски проста благодаря форме и преодолению тьмы, содержащейся в материи, в силу присутствия нетелесного света, данного как смысл и эйдос. Отсюда и получается, что огонь, в противоположность прочим телам, сам по себе прекрасен, потому что он занимает место эйдоса в отношении прочих стихий, положением своим стремясь вверх и будучи тончайшим из прочих тел, как бы существуя вблизи нетелесного и только сам не принимая в себя ничего, в то время как прочее все его принимает [им проникается]. Оно в самом деле согревается им, он же не охлаждается, и содержит он в себе первичную окрашенность, прочие же вещи получают самый эйдос окрашенности от него. Отсюда он освещает и блестит, будучи как бы самим эйдосом. А то, что не преодолевает [материи], поскольку оказывается скудным по своему свету, уже не [является] прекрасным, как уже не причастное к цельному эйдосу окрашенности (17-28).
Неявные гармонии в звуках, которые создали собой и явленные, заставили душу и в этом отношении овладеть сознанием прекрасного, в качестве тех, которые то же самое обнаруживают на других вещах, [так что эйдос прекрасного везде один и тот же в душе и в вещах]. Чувственно [прекрасным звукам] соответствует быть измеренными числами не в любом смысле, но только в таком, который служит к созиданию эйдоса [в материи] и к преодолению [последней через него]. И этого рассуждения достаточно, поскольку речь идет о прекрасных [предметах] в чувственном восприятии, которые, как мы видим, оказываются лишь отображением и тенями, как бы ускользая пришедшими в материю и явившимися для ее украшения и для нашего изумления" (28-30).
4. Красота души требует для себя специфического восприятия – особого рода изумления, соединенного с мягким наслаждением
"Относительно дальнейших ступеней прекрасного, которые уже не дано видеть чувственному восприятию, но которые душа видит и утверждает без органов чувств, нужно строить рассуждение путем восхождения, оставляя пребывать внизу чувственное восприятие. Как и в чувственно-прекрасном невозможно было говорить об этом тому, кто этого не увидел и не воспринял как прекрасное, будучи словно слепым с самого начала, таким же образом не может быть речи и о красоте занятий с теми, кто не воспринял красоты занятий, наук и прочего подобного, а также и о светоче (Plat. Conv. 210 с) добродетели с теми, кто не имеет представления о том, насколько прекрасен лик справедливости и целомудрия (Phaedr. 250 b), и о том, что так не прекрасна даже вечерняя и утренняя звезда (Euirp. Melanippe, frg. 486 N.-Sn.). Напротив того, необходимо созерцать благодаря тому, с помощью чего видит это [прекрасное] душа; необходимо в созерцании радоваться, охватываться изумлением, пребывать в беспокойстве, – гораздо больше, чем на предыдущих ступенях, потому что тут уже прикосновение к истинному [прекрасному] (Plat. Conv. 212 а). Это и должно стать аффектом в отношении всего, что только прекрасно, удивлением и приятным изумлением, вожделением, эросом и беспокойством, связанными с наслаждением. Это нужно пережить. И переживают это все души также относительно того, что, так сказать, невидимо; однако больше – те, которые из них более способны к любви, подобно тому как и в области тела любят все, но мучатся не в равной мере, но есть такие, которые мучатся особенно. Их-то называют любящими" (1-22).
5. Красота души не есть ни фигура, ни краска, ни вообще физическая величина, но истинно-сущий эйдос, отделенный от всякой материи
"Итак, необходимо поставить вопросы тем, кто способен к любви в отношении нечувственного. Что вы переживаете относительно т. н. прекрасных занятий, прекрасных обычаев, мудрых нравов и вообще дел и состояний добродетели, относительно красоты души (Conv. 210 b-с)? И что вы переживаете, когда созерцаете прекрасными самих себя в своем внутреннем существе? (Phaedr. 279 b). И как вы ликуете и воспаряете, как вожделеете быть с самим собою, освобождаясь от тела? Ведь истинно-любящие это переживают. Так что же это такое, относительно чего у них эти переживания? (1-9).
Это – не фигура, не цвет, не какая-нибудь величина, но относится к душе; и если бесцветна (Phaedr. 247 с) она, то и целомудрие она имеет без цвета и иной светоч (Phaedr. 250 b) добродетелей, видите ли вы это в самих себе или созерцаете и в другом величие души, справедливый нрав, чистое целомудрие, мужество, обладающее серьезным ликом (Hom. Il. VII 212), достоинством и скромностью, расцветающее в бестрепетном, неволнуемом, бесстрастном состоянии духа, и во всем этом сияющий боговидный ум. Этому изумляясь и это любя, почему вы это называете прекрасным? Оно и есть и оказывается – и видевший не иначе и назовет его – истинно-сущим. Но что же именно истинно-сущее? Именно прекрасное. Однако разум еще стремится узнать, какое же сущее заставило душу быть достойною любви? Что блещет во всех добродетелях наподобие света? Или, пожалуй, взять и противопоставить противное, то, что становится для души безобразным? Быть может, будет иметь значение для того, что мы ищем, безобразное, – что оно есть и почему явилось как таковое (9-25).
Пусть будет душа безобразная, необузданная и несправедливая, нагруженная, с одной стороны, многочисленнейшими вожделениями, с другой – величайшим смятением, пребывающая в страхе из-за трусости и в зависимости из-за мелочности, размышляющая обо всем, о чем только размышляет, в качестве преходящего и низкого, всячески извращенная подруга нечистых удовольствий (ср. Plat. Gorg. 525 а), живущая жизнью того, что она только не воспримет при помощи тела, пользуясь безобразием в качестве наслаждения. Неужели же мы не скажем, что это безобразие присоединилось к ней под видом внешней красоты, что оно опозорило ее, сделало нечистой, запятнало (Phaed. 66 b) многим дурным, так что она уже не обладает жизнью или чистым ощущением, но жизнью затемненной, благодаря смешению со злом. Оно сделало ее во многом смешанной со смертью, [сделало] уже не видящей то, что должна видеть душа, уже не могущей пребывать в самой себе по причине постоянного влечения к внешнему, низшему и темному. Поэтому, будучи, думаю, нечистой, повсюду носимая влечениями к тому, что подвержено чувственному ощущению, имея многое смешанное с телом, существующая вместе со многим материальным и принявшая в себя чуждый ей облик (eidos) в результате смешения с худшим, она изменилась, подобно тому как погруженный в грязь и навоз уже не проявляет ту красоту, что имел, но обладает видом, который отпечатлелся на нем от грязи или навоза (25-45).
Безобразное, следовательно, появилось в нем в результате присоединения чуждого; и если он должен быть опять чистым, ему надлежит труд по смытию и очищению того, что было. Поэтому если мы называем душу безобразной, то по праву мы могли бы сказать, что это происходит по причине смешения, связи [с телом], по причине склонения к телу и к материи. И это безобразие для души в том, что она не является чистой и ясной, как и для золота, когда оно смешается с землею, которую если отмоешь, то остается золото, и оно прекрасно, пребывая отдельно от прочего и соприсутствуя только с самим собою. Таким же образом и душа, отделенная от вожделений, которые она имеет через тело (если она с ним слишком сближается), отказавшаяся от прочих страстей и очистившаяся от того, что она имеет в состоянии отелесивания, и пребывая только одна, она слагает с себя все безобразное, что появилось со стороны другой природы" (45-68).
6. Красота души есть умное очищение; она восходит к уму, и ум к nepво-благ у; с другой стороны, она нисходит к телам и низшему
"Отсюда можно заключить, что целомудрие, мужество и вся добродетель и сама разумность (phronesis), как гласит древнее слово, есть очищение (catharsis; Plat. Phaed. 69 е). Поэтому правильно вещают таинства, что не подвергшийся очищению и в Аиде будет валяться в навозе, так как нечистое, вследствие порочности, дружественно навозу (Phaed. 69 с). Очевидно, подобно тому как и свиньи не чистые в отношении тела, радуются навозу (Heraclit. hg. В 13; ср. Plat. Phaed. 64 с 5-7 (1-6).
Что же и есть истинное целомудрие, как не отказ от телесных удовольствий и избежание их как нечистых и относящихся к нечистому? Так, мужество есть отсутствие страха перед смертью. Последняя же есть отделение души от тела. Этого не боится тот, кто любит быть одним. Величие же души есть, как известно, презрение к здешнему. Разумность же есть мышление в обращении от низшего, ведущее душу к высшему. Поэтому очищенная душа становится эйдосом и смыслом, совершенно бестелесной, умной и исполненной божественного, откуда источник прекрасного и все то, что с ним родственно (6-16).
Следовательно, если душа возведена к уму, она есть в высшей мере прекрасное. Ум и исходящая от ума красота есть первоначальная собственность души и не чуждое ей, так как только здесь она и является душой в своем существе. Поэтому и с правом говорится, что душе становиться благом и прекрасным, это значит уподобляться богу (Theaet. 176 b), потому что прекрасное – оттуда, как и другая область существующего. Лучше же сказать, сущее есть красота (callonё); другая же природа [инобытие] – это безобразное. Безобразное и первично-алое – тождественны, так что то, наоборот, сразу и благое и прекрасное, благость и красота. Подобным образом, значит, и надо исследовать прекрасное и доброе, безобразное и злое (16-25).
И в качестве первого начала надо полагать красоту, тождественную с благом. От нее исходит ум как просто прекрасное. Душа же есть прекрасное через ум. Все же прочее прекрасно уже от оформляющей души, и в поступках и в занятиях. Также и тела, заслуживающие такого наименования, создаются таковыми, очевидно уже душой, так как, будучи божественной и участницей прекрасного, она делает прекрасным то, к чему она прикасается и над чем владычествует, насколько последнее может это воспринять" (25-32).








