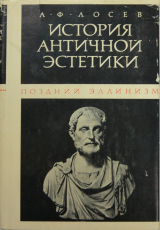
Текст книги "Поздний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 76 страниц)
Ведь очень трудно определять специфику эстетической предметности, не прибегая к подобного рода категориям. Даже такой рассудочно настроенный неокантианец, как Герман Коген, тоже считал любовь чем-то максимально характерным для нашего отношения ко всякой эстетической предметности. Этого почти никто не миновал из предыдущих античных эстетиков, и прежде всего этого не миновал даже и сам Платон, и опять-таки, не просто не миновал, но, можно сказать, положил в основание своей эстетики по крайней мере в своих ведущих и центральных диалогах. Поэтому не нужно удивляться тому, что также и Плотин связывает эстетику с теорией любви и что этот эстетический принцип любви пронизывает у него собою и все человеческое творчество, и всю природу, и весь мир, включая также и весь божественный мир. Указанная нами сейчас работа совсем не худо определяет так понимаемый эстетический принцип в качестве своего рода Ариадниной нити, позволяющей ориентироваться в плотиновской теорий жизни и бытия вообще.
7. Любовь и красота у Плотина
Понимая философию Плотина как синтез платонизма и аристотелизма{52}, Э.Краковский называет эстетику Плотина "платонической" и "личностной"{53}. Цель человеческой жизни, согласно Плотину, – очищение души; и этой цели подчинено искусство как первая ступень инициации, первый шаг в человеческом восхождении к Первоединству. Художник разыскивает идею Единого в его чувственных проявлениях; любящий созерцает ее в человеческой душе; и, наконец, философ обретает ее в сфере, очищенной от всякого смешения, то есть в боге. И постигнув красоту умопостигаемого мира, человек забывает чары искусства и чары любви. Но именно поэтому уже на ступени искусства предчувствуются и дают себя знать последующие уровни восхождения. В их свете искусство не может "успокоиться" в какой-то своей сфере, оно должно всегда осознавать свою неокончательность, несамостоятельность. Но, с другой стороны, это стремление к высшему придает искусству его смысл у Плотина. Искусство, область красоты, проникнуто у него тем, что мы назвали бы нравственным подходом. Вся красота мира уступает для Плотина красоте добродетельной души. Гармония искусства, а под искусством Плотин понимает прежде всего музыку, – призвана раскрыть себя как вместилище умной красоты; а красота должна вызвать любовь к себе, во имя будущего восхождения в любви к Единому. Ни "музыкант", ни любящий не могут достичь окончательной цели своего стремления, – не потому, что их стремление несовершенно, а потому, что подлинная цель находится не в их сфере, не в любимом, поскольку любимое – это конечное существо.
Красота – это отблеск идеального мира; тем самым она тождественна благу. По мнению Краковского, это учение о присутствии идеального мира в красоте вещественного мира выделяет философа на фоне всех предшествующих ему греческих мыслителей, потому что преодолевает традиционный дуализм идеи и материальной вещи, сущности и внешнего облика вещей. Все ступени бытия просвечены у Плотина – в большей или меньшей мере – единой Идеей, которой принадлежит все и которая все собою определяет{54}.
Благодаря этой новизне эстетики Плотина становится возможным "созерцать в аспекте красоты гигантский образ вселенной". Краковский подчеркивает, что "именно эстетика составляет существо плотиновского учения, при условии, что мы будем понимать эту эстетику как теорию художественного созерцания, равно как теорию красоты"{55}. В силу своей эстетической направленности, пишет он, учение Плотина есть в одно и то же время и имманентизм, и трансцендентализм. Эстетическое чувство залегает в основе экстатического единения, которое представляет высшую цель философии Плотина. Ведь восхождение к вершинам, где добро и красота совпадают, начинается на почве эстетического созерцания{56}. Эстетическая интуиция – вот та Ариаднина нить, которая ведет исследователя по лабиринтам мистической философии Плотина{57}, подобно тому как сам Плотин указывает человеческому духу путь к обретению самого себя в мире через откровение умопостижимого в чувственном{58}.
Конечно, и на этом никак нельзя остановиться. Все подобного рода слишком уж синтетические теории, собственно говоря, даже и не поддаются окончательному анализу. При самом остром, при самом глубоком, при самом тонком анализе этих систем в них всегда остается еще нечто такое, что никак не удается характеризовать и зовет исследователя к таким далеким горизонтам, стремиться к которым, пожалуй, даже и не очень целесообразно позитивно настроенному филологу, философу и эстетику. И все же в этом контексте нам хотелось бы указать еще на одно исследование, которое тоже построено на отчетливом понимании эстетической специфики Плотина и которое в силу этого неожиданным для нас образом заставляет сравнивать философию Плотина с христианством.
Но тот исследователь, которого мы сейчас приведем, имеет большое преимущество в том, что в своих рассуждениях о близости неоплатонической эстетики с христианством он весьма далек от всяких чрезмерных увлечений в этой области. Он выставляет только ту правильную мысль, что для неоплатонической эстетики не было соответствия в фактической истории искусства времен Плотина. Поэтому, если уж говорить о том подлинном искусстве, которое вполне отвечало бы требованиям неоплатонической эстетики, то таким искусством можно было бы считать прогрессировавшее в те времена христианское искусство. Но Плотин вполне чувствовал себя язычником и совершенно не думал о том, что его эстетическая теория соответствует, собственно говоря, только христианскому искусству, и представители самого христианского искусства, пока еще не имея никакой своей теории, тоже вовсе не предполагали и не знали того, что самая подходящая для их искусства теория была продумана язычником Плотином. Посмотрим, что говорится в настоящее время на эту исторически любопытную тему.
8. Плотин и возникновение средневековой эстетики
А.Грабар анализирует в своей статье некоторые тексты Плотина с точки зрения историка искусства{59}. Он видит свою задачу не в том, чтобы обобщить суждения Плотина о современном ему искусстве. Таких суждений у философа чрезвычайно мало, – и, по-видимому, не случайно, так как в его эпоху естественное развитие античного искусства уже прекратилось и речь шла лишь о беспорядочном, "зигзагообразном" чередовании тех или иных манер и художественных мод. Отношение Плотина к искусству существенно в другом отношении. В своей философии Плотин строит эстетическую теорию, которая, как считает А.Грабар, отвечает уже средневековому подходу к искусству.
Существо плотиновской концепции произведения искусства А.Грабар видит в том известном рассуждении философа, где изображение божества трактуется как причастное "мировой душе", как подтвержденное влиянию своего прообраза, как зеркало, способное отразить его облик (IV 3, 11, 23-27). Произведение искусства выступает здесь инструментом – хотя и весьма несовершенным – для познания божественного Ума; и вот вся ценность, весь смысл этого произведения. Другой жизни у него нет и не может быть.
Легко предполагать, продолжает А.Грабар{60}, какие последствия такая концепция могла иметь для практики изобразительного искусства. Она совершенно обесценивала всякое изображение внешней видимости вещей, проповедовала невнимание к реальным чертам материального мира. Установка на поиски подлинного, "умного" образа подчиняла непосредственное созерцание вещей их более или менее глубокому истолкованию. Кроме того, если смысл произведения искусства не в свободном наслаждении его красотой, а в нравственном или интеллектуальном уроке, который можно из него извлечь, то зритель должен был пройти для полного восприятия такого искусства специальную подготовку.
Далее, рассуждения Плотина о перспективе (II 8, 1) А.Грабар толкует в том смысле, что свою подлинную величину вещи обнаруживают для философа лишь при рассмотрении их в отдельности, во всех деталях, желательно вблизи. Плотина интересует истинная величина, истинная дистанция, – а именно такая, при которой можно подробно рассмотреть все детали, и истинный цвет, – а именно не искаженный удаленностью предмета. Но если сделать эти требования принципом изображения, замечает А.Грабар{61}, то придется исключить ракурс, геометрическую и воздушную перспективу. "Иными словами, в идеале, согласно Плотину, всякий образ предмета, допускающий свое полезное созерцание, должен быть расположен на первом плане, а разные элементы одного и того же образа – выстроенными бок о бок, в одном ряду"{62}. И в самом деле, продолжает А.Грабар, мы видим, что искусство поздней античности отказывается от разнообразия планов, сосредоточивает все изображение на первом плане, старательнейшим образом отражает детали и, наконец, полутонам предпочитает плоские и единообразные цвета.
Для Плотина все единственно существенное в вещи, то есть отражение в ней эйдоса, расположено на поверхности вещи. На глубине размещается темная материя, которая враждебна свету и не подлежит изображению (II 4, 5, 1-12). Опять-таки и этот принцип более или менее систематически осуществлен во все большем количестве уцелевших до нашего времени художественных произведений, начиная с поздней античности.
Для Плотина глаз должен обладать природой созерцаемого, подобно тому как вообще все сущее должно стать сперва божественным и прекрасным, и только тогда оно сможет созерцать бога и красоту. Если это положение, рассуждает Грабар, перенести в область изобразительного искусства, то оно потребует, чтобы в образе-представителе идеи было некое прямое, непосредственное сродство с изображаемой идеей. И в самом деле, начиная с эпохи Плотина в искусстве утвердились приемы подчеркнутого, "эмблематического" изображения некоторых деталей картины, – например, глаз.
Для Плотина внешние объекты не оставляют напечатления в душе. Ощущения не есть образы, отлагающиеся в самом человеке: "Мы видим предмет всегда на расстоянии"; и, следовательно, впечатление происходит – за счет пространственности зрительного и другого чувственного восприятия – в том месте, в каком находится предмет. А если бы душа получила в себе самой напечатленную форму предмета, ей незачем были бы органы чувств (IV 6, 1, 1 слл.). А.Грабар сопоставляет это рассуждение с такими фактами истории позднеантичного искусства, как "обратная перспектива" и "лучевая (панорамная) перспектива", при которой все предметы рассматриваются как бы сверху. Ведь если зрение "происходит во внешнем предмете", то художник может исходить исключительно из свойств изображаемого предмета, совершенно не принимая во внимание точки, в которой он сам находится. Предметы как бы сами развертывают себя на картине, не нуждаясь в наблюдателе, – отсюда обратная перспектива, отсюда панорамность изображения, когда точка зрения наблюдателя как бы вселяется в изображаемый объект.
Для Плотина задача образа – облегчить видение Ума, умное видение. В этом видении "мир становится прозрачным", предметы не ограничивают свет и не мешают друг другу, их материальная плотность исчезает, на их месте остаются чистые идеи: движение не смешивается с покоем, покой не смешивается с движением, прекрасное свободно от безобразного (V 4, 11-15). Поскольку в умном созерцании видящий как бы весь превращается в видение, а видимое становится прозрачным для света, видящее "я" теряет четкие границы. "Чтобы видеть", говорит Плотин, "нужно утратить сознание себя, а чтобы осознать это видение, нужно неким образом прекратить видеть. Если, таким образом, мы хотим видеть, осознавая видение, нам нужно достаточным образом от него отделиться, но не настолько, чтобы уже не возвращаться к нему и не погружаться в него по нашему желанию. В этом перемежающемся движении отдаления и соединения рождается сознание состояния нашей поглощенности во Всем, – высшая цель умного идеального созерцания". Умное созерцание есть истинное познание, не аналитически и дискурсивно "рассказывающее" о познаваемом, а отождествляющее себя с ним. "Мудрость богов и блаженных выражается не в суждениях, а в прекрасных образах" (V 8, 5, 19-22). Это высшее познание – не мысль, а осязание, несказанное и непостижимое соприкосновение (V 3, 10). Таким образом, "познание превращается в расплывчатое чувство, в бесформенное жизненное ощущение"{63}. Вплоть до эпохи Плотина греко-римское искусство ставит своей целью подражание вещам и существам чувственного мира. "Всякое изображение, выполненное в греческой, будь то классической или эллинистической традиции, фиксирует результаты рационального анализа изображенного предмета. Плотин же признает в искусстве, каким он его мыслит в аспекте созерцания умного мира, выражение непосредственного и полного познания сущности вещей, вселенской души"{64}. Для Плотина, заключает А.Грабар, идеальным должно было представляться такое художественное видение мира, в котором предметы не были бы ни автономными, ни непроницаемыми, где пространство исчезло бы, свет беспрепятственно проходил сквозь объемные тела, а сам зритель не мог бы отличить свое окружение от созерцаемого объекта. И в самом деле, продолжает А.Грабар, приводя в пример сохранившиеся мозаики, миниатюры, рельефы и особенно скульптуры позднейшей античности (IV-VI вв.): начинают появляться изображения, сведенные до единственного плана; свет становится равномерным и рассеянным; детали изображаются с крайней тщательностью; торжествует обратная и панорамная перспективы; находящиеся в одном плане фигуры как бы "вдвигаются" друг в друга, повисают в воздухе, утрачивают определенность формы, как бы не подлежат действию природных законов; вокруг фигур появляется "световое облако", не имеющее объема, совершенно прозрачное; природные формы становятся схематичными и превращаются в орнамент, художник по своей воле вносит в природу произвольный порядок.
Конечно, подчеркивает А.Грабар, идеи Плотина не имели никакого непосредственного влияния на художников его эпохи и последующей. Больше того, ученики Плотина выступили в IV в. защитниками традиционного классического искусства. Лишь в христианском искусстве поздней античности обнаруживаются те новые тенденции искусства, для которых эстетика Плотина служит как бы идеологическим комментарием, значение которого неоценимо. "И разумеется, неоплатоники, враждебные христианству, не заметили того отношения, которое можно установить между идеями их учителя и художественными произведениями, служившими делу их противников"{65}. Поскольку у самих христиан не найти объяснений религиозной ценности художественных форм, которые они использовали, эстетическое обоснование их у Плотина, говорит А.Грабар, приобретает капитальное значение для истории искусства.
IIПЛОТИН И ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ЕМУ АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЛИТЕРАТУРА
Собственно говоря, вопрос об оригинальности Плотина нами уже разрешен, поскольку мы выше подробно изучали постепенные исторические подходы античности к мысли Плотина. Тем не менее в настоящем пункте нашего изложения испытывается настоятельная нужда в более или менее точной и специальной формулировке этой зависимости Плотина от предыдущей философии, как равно и его оригинальности. Вопрос этот является одним из постоянных вопросов, которыми занимаются исследователи Плотина. Кроме того, изучение связей Плотина с предыдущими античными философами, как мы увидим ниже, заставляет нас сделать выводы огромной исторической важности. А именно – Плотин при всей своей оригинальности и при всем своем гениальном полете мысли, оказывается, был не только весьма начитан в античной философии, но постоянно и весьма уместно даже цитировал главнейших из этих философов. В результате подобного рода исследования приходится представлять себе Плотина как философа, насквозь пронизанного всеми главнейшими античными интуициями, то есть как философа именно чисто античного, а отнюдь не восточного, как это думали старые исследователи, проявляя в данном пункте свое, полнейшее невежество. Из огромных материалов, относящихся к этой области, мы приведем только главное и, как надеемся, наиважнейшее.
1. Плотин и Гераклит
Если в сообщении VI 1, 1, 2 о Фалесе и других ранних ионийских философах можно только догадываться и если в VI 6, 3, 25-26 Плотин имеет в виду беспредельное Анаксимандра и срединное положение земли, то Гераклит упоминается в тексте Плотина довольно часто. В своем учении о Едином как вечном и умопостигаемом и о телах как вечно становящихся и текучих Плотин (V 1, 9, 3-5) прямо ссылается на Гераклита (A 1). Без ссылки на Гераклита, но несомненно имея в виду его суждения А 8, Плотин (III 1,2 35) говорит о судьбе. Но что "и солнце всегда становится" (II 1,2,11) – это только краткое выражение целого рассуждения именно Гераклита (В 6) о том, что "не только ежедневно новое солнце, но солнце постоянно непрерывно обновляется". О возникновении всякой гармонии из противоположностей Плотин (III 2, 16, 40), почти наверняка можно сказать, говорит на основании известного рассуждения Гераклита о гармонии (В 8). Знаменитых гераклитовских образов, лука и стрел, у Плотина (III 2, 16, 48) мы не находим, но его мысль о схождении расходящегося и о борьбе частей целого в пределах этого целого выражена у Гераклита (В 5.1) опять-таки очень ярко. Также у Плотина (I 6, 3,28-29) почти дословно повторяется мысль Гераклита о том, что скрытая гармония сильнее явной (В 54). Плотин (IV 8,1,13) ссылается также и на идею Гераклита (В 60) о том, что "путь вверх и вниз один и тот же". Известно Плотину (VI 3, 11. 24-25) и мнение Гераклита (В 82) о том, что "самая прекрасная обезьяна безобразна по сравнению с родом людей". Вслед за Гераклитом (В 113) Плотин повторяет (VI 5,10,2): "Мышление обще у всех". Дважды (III 6,1,31 и VI 5,9,14) Плотин цитирует слова Гераклита (В 115) о том, что "душе присущ логос, сам себя умножающий". Из отдельных выражений Гераклита, встречающихся у Плотина, можно отметить следующие наиболее яркие: "Всякое пресмыкающееся бичом гонится к корму" (В 11 цитируется в II 3,13,17); "свиньи радуются грязи" (В 13 цитируется в I 6,6,5-6); "трупы более необходимо выкидывать, чем навоз" (В 96 цитировано в V 1,2,42); "я вопрошал самого себя" (В 101 цитируется в V 9,5,31).
Из приведенных нами материалов с полной несомненностью необходимо сделать вывод, что все главнейшие принципы философии Гераклита использованы у Плотина не только теоретически, но часто даже с буквальным приведением текста Гераклита.
2. Плотин и Эмпедокл
Плотину хорошо известно основное учение Эмпедокла о том, что "то любовью соединяется все воедино, то, напротив, враждою ненависти все несется в разные стороны" (В 17; В 26; А 52). Плотин несколько раз указывает это фундаментальное положение Эмпедокла (VI 7, 14, 23; IV 4, 40, 6; V 1, 9, 5-6; VI 7, 14, 20). Он цитирует (IV 8, 1,19-26) выражение Эмпедокла (В 115) "послушный неиствующей Вражде". Ссылается Плотин (II 4, 10, 3) и на теорию Эмпедокла о том, что "знание подобного возможно для подобного только". О том, насколько хорошо Плотин был знаком с Эмпедоклом, свидетельствует приведение им (IV 7,10,38-39) таких известных стихов Эмпедокла (В 112), как: "Привет вам, я уже для вас более не человек, а бессмертный бог", или (IV 8, 1, 34): "Мы пришли в эту скрытую пещеру" (В 120). Из более частных учений Эмпедокла Плотин (VI 3,25-27) знает положение Эмпедокла (В 75) об уплотненности внутренних частей глаза и разреженности внешних и эмпедоклову теорию зрения (Ср. I 4, 8, 4-5 и В 84).
3. Плотин и Парменид
Если Плотин не упоминает Ксенофана, ни Зенона Элейца, ни Мелисса, то Парменид, как это естественно ожидать ввиду знаменитого учения Парменида о бытии, встречается у Плотина достаточно часто. Знаменитый тезис Парменида (В 3) о том, что "мышление и бытие одно и то же", у Плотина приводится целых пять раз (V 9, 5, 29-30; I 4, 10, 5; VI 8, 17; III 8, 8, 8; VI 7, 41,81), и притом в первом случае буквально. Поэму Парменида о неподвижном, бесформенном и бесконечном бытии (В 8) Плотин местами буквально, а местами не буквально цитирует не менее 10 раз (III 7, 5, 21; III 7, 11, 3-4; V 1, 8, 22; VI 4, 4, 25; VI 6, 18, 42; IV 3, 5, 5-6; VI 4, 4, 24-25; V 1, 8, 18; III 7, 13, 50; V 1, 8, 20). Само собой разумеется, что как вечное становление Гераклита, так и вечная неподвижность бытия у Парменида безусловно соответствуют центральной доктрине Плотина. Плотин приписывает тому Пармениду, которого Платон изображает в диалоге, три основных начала (V 1, 8, 27). Но это уже необходимо считать преувеличением, поскольку и у самого-то Платона эти три ипостаси даны в весьма разбросанном виде, а реальный исторический Парменид и вовсе этого не касался
4. Плотин и Анаксагор
Плотину (V 3, 2, 22), конечно, было прекрасно известно учение Анаксагора (А 15, В 12) о чистом и несмешанном Уме, а также его учение (В 1) о частицах, бесконечных и по своей малости и по своему множеству (II 4, 7, 1-2; V 3, 15, 21; V 8, 9, 3; V 9, 6, 3; VI 5, 5, 4; VI 5, 6, 3; VI 6, 7, 4). Анаксагор (В 12) рисует целую картину того, как вначале все было вместе и нераздельно, как чистый и беспримесный Ум стал приводить хаотически разбросанные частицы бытия в упорядоченное и, в частности, круговое движение, как все частицы, будучи различны между собою, отождествлялись в Уме и как из этого воздействия Ума на хаотическую материю возник космос. Несомненно, и эта вся картина мирообразования не только знакома Плотину, но в целом ряде текстов он прямо воспроизводит ее в очень близких и даже буквальных выражениях (V 1, 8, 4-5; V 1, 9, 1; V 3, 3, 44). В кратчайшей, форме учение о происхождении вещей из отдельных элементов у Анаксагора и Демокрита (59 А 54) тоже целиком повторяется у Плотина (II 6, 1, 6), как и учение Анаксагора (А 20 b) о центральном положении частиц в космосе (IV 4, 30, 19). Из этих материалов видно, что Плотин, в учении об Уме в основном использовавший Аристотеля, отнюдь не пренебрегал также и Анаксагором, который был основоположником всего этого учения об Уме задолго до Аристотеля.
5. Плотин и другие натурфилософы
а) О пифагорейцах нечего и говорить, насколько хорошо Плотин знал всю пифагорейскую литературу. Однако ввиду того, что многие пифагорейские материалы были созданы только в период неопифагорейства и приписаны древним пифагорейцам, Плотин, конечно, не очень разбирался во всей этой истории античного пифагорейства, в которой путаются даже теперешние исследователи. Во всяком случае, Плотин (VI 6, 5, 10-12) знает и пифагорейское учение о числах, излагая его почти словами Аристотеля (Met. 1 6, 985 b 23-35-986а 1-8), и то (IV 7, 84, 3-5), что пифагорейцы понимали душу как гармонию тела (Аrist. De anim. I 4, 407b 29-32). Если произвести тщательный филологический анализ, то в очень многих текстах Плотина несомненно чувствуется знание пифагорейской и орфической литературы разных периодов. Однако производить здесь всю эту кропотливую филологическую работу мы не будем. Мы сошлемся только на одно наше собственное исследование{66}, из которого читатель может почерпнуть все необходимые сведения о зависимости Плотина от орфико-пифагорейского учения о числах.
Знает Плотин (V 1,9,29) и о мифологическом натурфилософе Ферекиде (7А 7, 7А 7а), учения которого о сверхчувственном мире приписываются им также и Пифагору. Не называя имени Ферекида, но несомненно имея его в виду (В 14), Плотин (V 1, 1,4) рассуждает о причинах падения душ.
б) Что же касается Демокрита, то Плотин (V 1,1,2), упоминая о бесконечном дроблении сущего, несомненно имеет в виду как Анаксагора, так и Демокрита (А 37), равно как и в своем изложении учения о соединении и разъединении частиц (II 7, 1,6) тоже почерпывает материалы из Анаксагора (А 54) и Демокрита (А 64). Точно так же о нераздробленности души на отдельные части и о тождестве мышления и ощущения у атомистов (68 А 105) Плотин (IV 7,3,1-2) знает из первоисточника, как и учение Демокрита (В 9, В 125) о противоположности неощущаемых атомов и наших ощущений (III 6, 12, 22). О стремлении подобного к подобному Плотин (III 4,10,3) тоже говорит одинаково с Демокритом (В 164).
Общий вывод, который мы должны сделать относительно знакомства Плотина с древней натурфилософией, не только положительный, но и вполне замечательный по своей яркости и четкости. Кроме того, Плотин является здесь не просто только излагателем старинных греческих представлений, подобно тому как это делает Аристотель в I кн. своей "Метафизики". Плотин еще и чувствует всю историческую необходимость этой давнишней греческой натурфилософии, используя все эти учения по их существу и располагая их в таком логическом порядке, который требовался его собственной философской системой.
в) Перед тем как перейти к Платону и Аристотелю, естественно было бы заговорить о софистах и Сократе. Но ни о том, ни о другом предмете нет никаких материалов, хотя и по разным причинам. Релятивистически настроенные софисты, конечно, ни с какой стороны не могли интересовать Плотина. Сократ же не мог часто упоминаться у Плотина потому, что он ничего не писал и Плотину нечего было из него процитировать. Поэтому имя Сократа упоминается у Плотина (между прочим, довольно часто) только в качестве примера человека или предмета вообще, как он фигурирует, например, и в силлогистике Аристотеля. Впрочем, в одном тексте Плотин имеет в виду Сократа, кажется, по существу. Это там, где он говорит (II 5,2,17) о тождестве "потенциального" и "актуального" Сократа. Вероятно, существо дела имеется Плотином в виду и там, где он говорит (III 2,15,59) об игре Сократа с самим собою не в существенном смысле слова, но только в смысле внешнего поведения.








