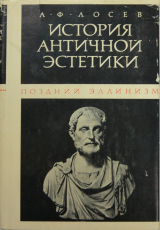
Текст книги "Поздний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 57 (всего у книги 76 страниц)
1. Мифологическая образность
Из всех этих методов внутреннего оформления речи у Плотина коснемся подробнее ее образности. Эта образность у Плотина очень специфична. Ее основная функция имеет мало общего не только с украшением речи, но даже и с простым пояснением тех или иных трудных мыслей. Ее функция по преимуществу есть функция живописания самого бытия, раскрытие смысловой картины самой жизни. Такая функция является поэтому главным образом философской или, лучше сказать, философско-онтологической, или, еще лучше сказать, символической. А отсюда вытекает то, что такая образность очень далека от поэтического назначения и по своей основной смысловой тенденции приближается, скорее, к науке и мифологии, то есть к тем областям, которые не хотят быть фантазией, но претендуют на буквальную объективную реальность.
Сюда относятся, прежде всего, мифологические образы. Плотин, правда, как сказано, не занимается философией мифа в специальном смысле слова, и все его теоретические высказывания о мифах имеют характер спорадический и более или менее случайный. Однако мифы для него есть самое подлинное бытие, а не произвольная поэтическая фантазия, и он заговаривает о них там, где речь идет о самых коренных принципах бытия и жизни.
Общих проблем мифологии у Плотина мы уже касались выше.
Во-первых, мы нашли, что свои три основные ипостаси, которые выведены им по преимуществу логически или, лучше сказать, диалектически, Плотин прямо приравнивает архаическим образом Урану, Кроносу и Зевсу. Поэтому доказывать символико-онтологический смысл и тем самым мифологическую транскрипцию основной ипостасной триады в данном месте нашей книги мы не будем.
Во-вторых, выше мы перевели и проанализировали целый трактат Плотина под названием "Об Эросе" (III 5). В анализе этого трактата мы тоже немало говорили о философской сущности плотиновского Эроса и вскрыли подлинный философско-символический и эстетически-символический смысл образа Эроса. В настоящем месте нашей книги этого мы теперь тоже не будем касаться, а отошлем читателя к указанным сейчас страницам нашего тома. Сказанного выше уже достаточно. Но сейчас мы хотели бы указать также и на то, что и прочие свои философско-эстетические проблемы Плотин очень часто выставляет в виде самых настоящих мифов. Поэтому, не гонясь за исчерпанием предмета, приведем главнейшее, что можно наблюдать у Плотина в этом отношении.
В III 2, 13, 16 Адрастия толкуется как неминуемая судьба. Но это так и есть по мифу, и Плотин тут ничего от себя не прибавляет. Афродита толкуется в V 8, 13, 15-17 как Мировая Душа, в III 5, 8, 1-3 – как душа Зевса, в III 5, 3, 30-32, III 5, 4, 22 и VI 9, 9, 30-31 – как просто душа, в V 8, 2, 9-11 – как красота. В III 5, 2, 15-16 различаются две Афродиты, одна – от Урана без матери, другая – от Зевса и Дионы; в III 5, 4, 18-19 от одной общей Афродиты в мир изливается множество Афродит. В V 5, 6, 26-27 Единое символизируется как Аполлон, причем самое имя Аполлона понимается как отрицание (греч. а) множественности (греч. pollon). Но Единое также толкуется как Уран, из которого порождается Кронос, приравниваемый Нусу; при этом Кронос, поглощая своих детей, является Нусом, охватывающим в себе все свои идеи; кроме того, он передает Зевсу владычество над миром, а Зевс есть Мировая Душа (V 1, 4, 9; V 1, 7, 30-37), так как он не довольствуется созерцанием отца, но переходит к "энергии ипостасирования бытия" (V 5, 3, 21-24). Деметра и Гестия у Плотина есть душа земли (IV 4, 27, 15-17), Дионис – переход во множественность (IV 3, 12, 2 слл.), Прометей – умопостигаемый демиург (IV 3, 14, 5-6). Можно спорить об эффективности у Плотина такого рода толкований; но нельзя спорить о том, что назначение привлекаемых здесь мифов – дать чисто онтологическую, но никак не поэтическую или только аллегорическую картину бытия. Лучше же сказать, перед нами здесь развертывается философско-эстетическое и притом символическое мировоззрение Плотина.
2. Световая образность и ее социально-исторический характер
То же самое надо сказать и о постоянных у Плотина световых образах. Выше мы уже говорили, что у Плотина все бытие с начала до конца пронизано светом, что Единое у него – солнце, Ум у него – всегда свет, Душа – световидна или темна, смотря по степени своего приближения к Уму, и т.д. Еще выше мы говорили, что этот свет неоплатоников есть реставрация древней мифологии. Теперь же необходимо сказать, что эти многочисленные световые образы и тексты о световом уме, о световидных идеях, о световидных душах и пр. есть, очевидно, у Плотина тоже не украшение речи и не пояснение мысли, но самая настоящая символическая онтология выдержанно эстетического характера. Прекрасное разъяснение по этому вопросу дает сам Плотин, отвергая в VI 5, 8, 1 слл. всякий намек на какое бы то ни было чувственное или пространственное представление в своих световых образах: когда он говорит об освещении материи через идею, то он предупреждает, что тут нет ровно никакого пространственного расстояния между идеей и материей, но это означает только ту или иную степень осмысления и оформления материи.
Особенно интересны те места из Плотина, где эти световые образы начинают принимать конкретную форму в виде световидных или излучающих свет изваяний или фигур. Так, если в I 6, 9, 15-43 мы читаем о световом видении красоты, то в V 8, 5, 22 все предметы в уме трактуются как "прекрасные изваяния", а в VI 9, 11, 19 – "как статуи мысленного храма". Чистое мышление, по Плотину, есть некое пиктографическое письмо, а дискурсивное мышление – буквенное письмо (V 8, 6, 1-19).
Для понимания всей этой световой мифологии и философии надо иметь в виду, что она была особенно сильна в век неоплатонизма как отражение теократически-монархической действительности Рима, подобно тому как эта последняя была необходимым результатом и орудием изображенной у нас выше социальной действительности. В мифологии и религии это создавало своеобразный языческий монотеизм, который хотя и резко отличался от христианского своим вне-личностным характером, тем не менее был также абсолютен и находил в солнце наиболее яркий образ единого управителя мира. Культ солнца чем дальше, тем больше растет в позднем эллинизме. Аполлоний Тианский приносит солнцу, своему главному божеству, жертвы и утром, и среди дня, и вечером. Гелиогабал и Аврелиан вообще не знают другого основного божества. Даже естественник Плиний (Nat. hist. II 6, 13) считает солнце душой мира. Популярный в позднем Риме Митра трактуется по преимуществу как бог солнца. К солнцу сводились, в конце концов, все божества, претендовавшие на универсальность. Солнцем оказались Зевс и Аполлон, Серапис и Сабазий, Дионис и Гермес, Плутон и Эскулап, Аттис и Геракл, Озирис и Митра. Повсюду строились храмы и часовни, посвященные солнцу. Юлиан посвящает "царю Гелиосу" целую речь, похожую, скорее, на гимн. У Макробия – Гелиос тоже на первом плане. Абсолютной новостью все это, конечно, не было. Это была, попросту, стародавняя мифология, теперь по-новому акцентированная, и Плотин свое учение о свете и свои зрительные образы базировал еще на Платоне, который тоже учил о солнце как высшем принципе (R. Р. VI 508 а – 509 с) и о блеске идей (Phaedr. 250 b и слл.). Посредствующим звеном был Посидоний, который, как мы знаем (ИАЭ V, с. 680-724), переработал гераклитовско-стоический первоогонь в направлении аристотелевски-энергийно понятого платонизма.
3. Эманационная образность
Далее, образы у Плотина, связанные с эманацией, также нельзя понимать грубо физически, но только онтологически-символически. Эманация, proodos, как мы знаем, по-русски значит "выхождение", "выступление". Но в науке уже не раз высказывалось мнение (П.П.Блонский, А.Ф.Лосев, Г.Ф.Мюллер), что эманацию у Плотина нельзя понимать только натуралистически в виде какого-то физически-механического выхождения, истечения или рассеяния. Даже аристотелевская "энергия" не есть просто физически-механическое действие (ИАЭ IV, с. 95-111). Свою эманацию Плотин понимает также и как смысловое становление, как текучую сущность. Поэтому тут и не физика и не поэтическая метафора, а опять-таки философско-онтологический, хотя в то же самое время и символический образ мира.
Выше, еще в обзоре главнейших общих интуиции, лежащих в основе эстетики Плотина, мы уже рассмотрели вопрос о том, что такое эманация, и привели все главнейшие тексты. Сейчас, однако, необходимо подчеркнуть именно образную сторону плотиновской эманации. Уже выше мы говорили, что она рисуется в виде излияния жидкости из сосуда, переполненного этой жидкостью. Также указали мы и пребывая неподвижной в этой [эйдетической] эманации (proodoi), и, на совмещение моментов прерывности и непрерывности в эманации. Сейчас же, ради выдвижения на первый план именно этой структурно-числовой природы эманации (наряду с ее непрерывно льющимся процессом), мы можем привести еще следующий текст из VI 6, 11, 24-29: "Если же предположить, что природа [первоединство] как бы последовательно рождает, – больше того, породила [уже все бытие], не оставшись при [абсолютной единичности] того, что она порождала, но как бы творя непрерывно [возникающее] единство, то она должна бы породить, с одной стороны, меньшие числа, описывая их [эйдетические контуры], во-вторых, ипостасийно утвердить большие числа – своим продвижением в дальнейшем направлении не на основе других вещей, но в своих собственных [эйдетических] движениях". Об этом же proodos у Плотина имеются и еще по крайней мере два текста (IV 2, 1, 44; VI 3, 22, 7).
Мифологические, световые и эманационные образы Плотина обладают максимально большой у него обобщающей силой. Однако образы и с меньшим обобщением в большинстве случаев тоже не теряют у него своего онтологического значения и, может быть, только рисуют бытие и жизнь с какой-нибудь отдельной стороны и являются в этом смысле абстрактно-онтологическими.
1. Физическая образность
Возьмем образы из чисто физической области. Когда Плотин приравнивает свой эйдос (или идею) огню и считает, что огонь есть самое прекрасное в мире (II 9, 4, 26-28), то здесь слишком ясно показываются мифологически-онтологические корни эстетики Плотина, чтобы мы принимали это за метафору. У Плотина мы читаем о мировом древе (III 3, 7, 11-16; III 8, 10, 10-12). Сюда же относятся такие образы, как приравнение Единого, взятого со всеми его свойствами, единичному яблоку со множеством принадлежащих ему свойств, цветом, запахом и пр. (VI 4, 11, 12-14), как приравнение души в теле неочищенному куску золота или уподобление непостоянства жизни изменчивой зыби на воде. Таково же сравнение мирового единства с точкой в круге, из которой исходят все радиусы, а точка эта и световая, и силовая, и радиусов бесконечное количество. (Весьма многочисленные тексты, например, I 7, 1, 24; IV 3, 17, 12). Единство также остается везде одинаковым и в то же время различным, как свет и звук, исходящие из одного источника, но по-разному воспринимаемые окружающими субъектами (VI 4, 12, 1-7). Точно так же едино, но по-разному понимается и всякое произносимое слово (VI 4, 15, 6-8). Душа, взятая сама по себе, есть непроизнесенное слово, душа же в теле есть слово произнесенное. Душа присутствует как огонь в воздухе (IV 3, 22, 1-2). Когда мы смотрим вовне, забывая о самих себе, мы уподобляемся отдельным выражениям лица, не знающим того, что они относятся к одной и той же личности (VI 5, 7, 9-11). Человек стремится к высшему, то есть к Уму, как влюбленный стремится на долгожданное свидание (VI 5, 10, 3-10), влюбленный стоит у дверей Ума и трепещет перед входом. Мы связаны с землей, как птицы, которые то приближаются к земле, то удаляются от нее. Жизнь есть сон, и погруженная в материю душа спит и грезит во сне об Уме.
2. Образность из художественной практики
Целый цикл образов взят Плотином из художественной практики. Человек должен совершенствовать свое внутреннее "я", как скульптор ваяет свою статую (I 6, 9, 1-3). По поводу своего излюбленного понятия единства Плотин говорит для его объяснения, что прикосновение разными пальцами к одному и тому же предмету или к одной и той же струне на лире не мешает тому, чтобы был один предмет или одна струна (VI 5, 10, 24-26). Отношение ноуменального мира к чувственному есть отношение живописца к своей картине (VI 7, 7, 6-7). Единство мира есть единство хора, который подчинен одному дирижеру и в котором участники исполняют музыкальное произведение, ничем не отвлекаясь по сторонам (VI 7, 7, 16). Жизнь – это театральная сцена, а каждый человек – это актер, а вся жизнь целиком есть драма, которую исполняют все люди, то выходя на сцену, то покидая ее (III 2, 11. 15-18; это богатейший образ, взятый Плотином из стоически-кинической диатрибы, но глубоко разработанный им в эстетическом, этическом и метафизическом направлении).
3. Один весьма характерный бытовой образ
Дж. Рист{28} обращает внимание на метафору раздевания и одевания у Плотина, выискивая связь ее внутри платоновской традиции. Цитируя I 6, 7, 3-7, где Плотин говорит о том, что мы "срываем гиматии, облекающие нас, когда мы опускаемся из Ума", Рист указывает на эту же метафору у Прокла (In Alcib. I 138, 16-18), а также находит намек на нее у Платона (Gorg. 523 с-e), где вместо гиматия Плотина или хитона Прокла речь идет об amphiesmata ("одежды").
Плотин, считает Рист, бесспорно знает о ритуально-мистической роли хитона, служившего повозкой (ochёma) для прохождения души через семь планетных сфер или через четыре элемента. Но самого термина "хитон" в этой связи мы у Плотина не найдем. Плотин здесь свободен и от дуализма гностиков, у которых хитон, связанный с элементами или сферами, сам причастен злому Демиургу, и от буквализма Прокла, "объясняющего один физический акт – срывание хитона – другим, ритуальным раздеванием перед входом в святилище... Плотин же говорит о физическом акте как об аналогии очищения души"{29}. И так всюду, считает Рист, где Прокл говорит буквально, Плотин говорит метафорически или аналогически, а мы бы сказали, символически.
Рист толкует отмеченную еще Порфирием (V. Р. 23) связь восхождения Плотина с платоновским "Пиром" (210 d-211 с). "Пир" указал Плотину путь-дорогу (hodos, poreia) к покою и единению с Благом. Но Плотину недостаточно терминов созерцания, видения, идущих от "Пира", и даже срывания одежд с души для выражения состояния его четырехкратного восхождения. Вслед за Анри Рист пишет, что последняя стадия восхождения к Уму связана у Плотина не с видением или созерцанием (стало быть, света), но с осязательным соединением (VI 9, 10-11). Когда Плотин обращается к глубинам собственного опыта, он заговаривает языком Платона, стремясь при этом к более полному соответствию своему предмету. "Это, собственно говоря, не созерцание (theama), но другой способ видения, восторг (ecstasis), опрощение, отказ от самости (aytoy), и жажда к осязательному прикосновению (pros haphёn), и успокоение, и усиление ума к возможно более полному слиянию, когда жаждешь узреть в святая святых. А кто рассчитывает как-либо иначе узреть, тот ничего не достигнет" (VI 9, 11, 22-26).
Метафора одевания или раздевания имеет в этом смысле для языка и мысли Плотина весьма глубокое символическое значение, несмотря на свое бытовое происхождение.
4. Социальная образность
Много образов – для нас весьма показательных – взято Плотином из социальной области. Что его Ум есть царь, а Единое – "царь царя и царей" (V 5, 3, 20), в этом, конечно, не приходится и сомневаться. Единое держит весь мир, как рука держит вещь (VI 4, 7, 9-18). Мир есть государство, порядки которого не дают проявиться злу (III 2, 17, 22-23); а божественное управление миром есть командование полководца над войском (III 3, 2, 13-14). Что чувственное ощущение есть вестник, душа – переводчик, а Ум есть царь, это тоже у Плотина само собой разумеется. Но социальная подоплека всей эстетики Плотина, ее, так сказать, социальная онтология (для своего времени) особенно ярко выражена в сравнении чистого духа, возмущаемого телесными страстями, с народным собранием, в котором бунтует чернь (VI 4, 15, 23-26). Мудрость и красота тоже аналогизируются с собранием, но в котором спокойно и разумно принимается единое решение (VI 5, 10, 18-19). Путь души вовнутрь себя самой есть восхождение в храм (V 1, 6, 12; VI 9, 11, 19). Материя-это нищенка, которая стоит перед дверями души и умоляет впустить ее. "Мир изображает ее нищенствующей, тем самым обнаруживая ее природу, поскольку она лишена блага" (III 6, 14, 10-12 ср. Plat. Conv. 203 b).
Эти образы говорят сами за себя; и не нужно особенно вдаваться в анализ этих образов, чтобы понять их реакционно-аристократическую сущность.
Из социальной области взяты также обозначения Единого как отца людей в земном теле, как детей, ушедших от родителей и забывших их, Единого и Ума как родины, и возвращение человека на эту родину, как Одиссея, предпочитающего родину чувственным наслаждениям волшебницы Кирки и нимфы Калипсо (I 6, 8, 16-18).
Таковы главнейшие типы образности у Плотина. О каждом таком образе, конечно, можно было бы написать целое исследование, но для нас сейчас важно только одно: Плотин пользуется своими образами почти исключительно символически-онтологически (или вообще, или, по крайней мере, в отношении тех или иных частных областей жизни и бытия), и тут он меньше всего занят поэтикой и риторикой.
1. Итог предыдущего
Если же теперь подвести итог всему сказанному выше относительно внешнего и внутреннего стиля Плотина, то необходимо будет сказать, что основа этого стиля (правда, только основа) – чисто платоновская. Эстетически-онтологическое понимание своей образности он берет, в конечной инстанции, тоже у Платона. Вся доплатоновская философия, критикующая антропоморфизм, не приемлет мифологии как объективной и неметафорической картины мира, и только Платон впервые создал такой аппарат мысли, который охватывал древнюю мифологию именно в ее неметафорическом реализме, поскольку это было доступно логически-конструктивным методам Платона. Но Платон – это только основа. Плотин восстанавливает оживленность философской речи Платона, доходящей до "энтузиазма" и "мании", но он реформирует ее диалогическое многословие в направлении более скромной и деловой диатрибы, а ее чрезмерный пафос умеряет силлогистическим способом изложения Аристотеля. Однако и это еще не есть полное своеобразие стиля Плотина.
Нужно помнить, что Плотин писал в эпоху второй софистики и что его архаизирующий стиль, при всей отвлеченности его философии, все же отражал потребность времени. Но у него нет ни острого архаизма Элия Аристида, ни риторических изломов Филостратов. Вторая софистика ушла у него не в риторику, но в интимность, так что она осталась у него только в виде более доступной, более понятной и более интимной подачи платоно-аристотелевского глубокомыслия. Она и создала в нем этот своеобразный стиль какого-то внутреннего, едва заметного ораторства, производящего на нас впечатление сразу и суровой величавости и мягкой интимности. С этой точки зрения частые отступления Плотина от классического языка и трудности его речи имеют свой, вполне определенный стилистический смысл, так что когда вчитаешься в Плотина, то не хочется менять ни его смешанного языка на более чистый аттический диалект, ни трудностей его речи на более легкое изложение.
Так, приблизительно, можно было бы сказать об этом удивительном стиле, который до сих пор в мировой науке еще не нашел для себя внимательного исследователя. Формулировать его трудно, но он ясно чувствуется всяким, кто прочитал хотя бы десяток страниц "Эннеад". Стиль этот, несмотря на то, что обычно называется метафорами, сравнениями, фигурами и прочими терминами теории литературы, постоянно имеет тяготение покинуть чисто поэтическую область и перейти к онтологии, к выразительной характеристике того бытия, которое представлялось Плотину наиболее основным и непререкаемым. Для эстетики это имеет то огромное значение, что выразительные методы, которыми занимается всякая эстетика, в основе своей коренятся у Плотина в объективно-онтологической сфере. Захватывая глубины человеческой субъективности, она в то же самое время коренится в объективном бытии, имеет своей целью интимно-субъективно преподнести не субъективные, но именно объективные глубины действительности. Другими словами, язык и стиль Плотина определенным образом тяготеют к методологии символизма. Но это мы и находили выше, когда пытались характеризовать и общую онтологию Плотина и его общеэстетические методы.
2. Динамизм, интегральный характер и монизм образности у Плотина
В 60-х гг. появилось весьма ценное исследование образности языка Плотина с некоторым повторением того, что у нас было предложено в предыдущем изложении, но с выдвижением на первый план и ряда других моментов, которые у нас не формулированы в достаточно четкой форме. Французское исследование, которое мы сейчас находим нужным кратко изложить, выдвигает на первый план динамизм поэтического языка Плотина, стремление поэтически характеризовать основные ипостаси не в столь разрывном виде, как это часто получалось в теоретической диалектике Плотина, а следовательно, также и выдвинуть на первый план общий монизм поэтической образности у Плотина, лишающий поэзию у Плотина ее самостоятельного значения и переносящий ее в сферу эстетики диалектически-онтологического характера, то есть, мы бы сказали, к символизму.
Рассмотрим те выводы, к которым приходит этот французский исследователь Р. Ферверда{30}.
Образные системы "Эннеад", говорит этот исследователь, позволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, обращает на себя внимание вполне сознательное и весьма последовательное употребление вводных слов перед сокращенными метафорами, что указывает на то, что каждая отдельная метафора соотносима с более полным образом. В этом Плотин следует общей теоретической установке греков, которая отрицает наличие сколько-нибудь существенных различий между метафорой и образом. Отсюда само собой следует, что метафора ценна и важна не сама по себе, но что в качестве образа она осуществляет сравнение известного предмета с предметом неизвестным, чтобы разумно осветить в нем какой-либо отдельный аспект. Итак, ее функция состоит лишь в осуществлении вразумляющего сравнения, и она, таким образом, не способствует зарождению какого-либо третьего понятия, превосходящего и образ, и предмет. Плотин не идет на поводу у выражений, взятых в их буквальном смысле, это заставило бы его погрязнуть в мистическом и иррациональном чувстве, но он подчиняет их строгим законам разума, что особенно проявляется в его критике гностических учений.
Плотин предпринимает своеобразную проверку метафорической терминологии и употребляемых им образов. Под этим следует разуметь то, что Плотин нередко оставляет один образ и обращается к другому, который освещает тот же самый затруднительный момент с нашей точки зрения: второй образ поэтому проверяет и подтверждает первый. Следует отметить, что этот прием дополняющих и корректирующих друг друга образов далеко не случаен, будучи органически присущим самой плотиновской мысли.
Этот метод особенно ярко выступает в центральных частях "Эннеад", где Плотин рассматривает бытие и деятельность Единого, Ума, Души и материи. Система плотиновских образов дает возможность составить хотя бы приблизительное представление о бытии этих труднопостигаемых сущностей.
Мы уже видели, что Плотин сравнивает Единое с отцом (напр., II 9, 16, 8; II 9, 17, 52), с царем (напр., I 8, 2, 8 и 28), с источником (III 8, 10, 5), с солнцем (напр., V I, 6, 29), со светом (напр., V 1, 7, 4), с запахом (V 1, 6, 35), со снегом (V 1, 6, 34), с огнем (напр., II 1, 1, 20; V 4, 2, 30), с центром круга (напр., I 7, 1, 25; IV 3, 17, 12).
Ум сравнивается у Плотина с побегом, с реками, исходящими от своих истоков (напр., III 8, 10, 5), со светом (напр., I 6, 5, 22), с солнцем (напр., III 5, 2, 31), с науками (I 2, 4, 27; V 9, 6, 4), с семенем (напр., V 9, 6, 10), с теплом (напр., V 1, 3, 10), с лицом (напр., VI 7, 14, 8; VI 7, 15, 26), с огнем (напр., V 9, 8, 13).
Душа часто тоже уподобляется огню (напр., IV 3, 10, 6), свету (I 1, 7, 4; I 8, 14, 38), кормчему (IV 3, 17, 29), печати (IV 9, 4, 19). Материя поясняется при помощи образа зеркала (напр., III 6, 7, 25), воды (III 6, 7, 32), воска (напр., III 6, 9, 7) и тени.
Эти образы, взятые в отдельности, способны осветить лишь один аспект трудностей в понимании недоступных сущностей. В совокупности же они показывают, что Единое священно, первично, неистощимо и единственно. Ум же содержит в себе множественность (как бы еще не развернутую), и он прекрасен. Душа управляет миром и сообщает жизнь существующему. Материя сама по себе невозмутима и уродлива, однако она способна воспринимать любые формы.
Деятельность же всех основных ипостасей также передается при помощи образов и метафор. Так, они производят и сами зарождаются, они эманируют, продвигаются, протекают, развертываются, отражаются и распространяются подобно свету, теплу и воде; они способны оставлять следы и отпечатки.
Таким образом, существует неиссякаемое динамичное движение, которое зарождается в недрах Единого и пронизывает весь мир, вплоть до материи, от которой оно отталкивается и возвращается обратно к тому же Единому, от которого оно исходит.
Плотин приписывает ипостасям такие действия, как "видеть", "созерцать", "соединять", "любить", "продвигаться", "возвращаться в себя", "закрывать глаза". У него неисчерпаемая диффузия переходит в мощную концентрацию, которая восстанавливает утерянное единство. И хотя образы не содержат всей полноты истины о высших ипостасях, они тем не менее внушают нам представление о бестелесной силе, которая пронизывает сверхчувственный мир и соединяет воедино его самые отдаленные части, не смешивая их при этом в материальном смысле слова.
Этот динамизм является доминантой всей плотиновской системы. Итак, динамический характер{31} образов выявляет внутреннюю связь всех частей плотиновского космоса и до некоторой степени смягчает и нейтрализует резкое противопоставление его различных уровней. Хотя, сверяя образы, Плотин показывает, что ни один из них не способен во всей полноте достигнуть поставленной перед ним цели, однако этот же прием вскрывает то, что принципиально каждый предмет сопоставим с любым другим предметом. Так, глаз иногда есть образ светила, но в другом месте он может обозначать Душу или Ум. Одно и то же светило (солнце) может в свою очередь символизировать ясность Ума или простоту Единого, тогда как сам Ум тоже сравнивается с Единым. Таким образом, даже само Единое подпадает под этот принципиальный метод Плотина. Оно сравнивается и с материей на основании неизреченности этих двух сущностей. В этом сказывается страстное стремление Плотина интегрировать в своей философской системе дуалистический момент, отрицающий материальную тождественность различных уровней, и момент монистический{32}, который в нематериальном смысле соединяет их друг с другом.
Этот вывод наталкивает на вопрос об отношении Плотина к предшествовавшим ему и современным ему философам. На примере многих образов мы наблюдаем смещение и сведение к одному различных элементов, в первую очередь платонической диалектики, которая настаивает на фундаментальном различии двух противоположных миров (дуализм), и стоического синтеза, который рассматривает мир как слитное целое (монизм). Однако следует отметить, что это сближение дуалистического и монистического моментов не является новшеством, вносимым Плотином, так как тот же процесс наблюдается, например, у Посидония. Однако Плотину всегда удается как бы вдохнуть новую жизнь в традиционный материал благодаря сугубо личной переработке традиционного наследия. Некоторые проблемы Плотин решает по-аристотелевски, пользуясь конкретными примерами (белизна, дом, круг), из которых он делает более общие выводы.
Четвертым источником (после Платона, Аристотеля и стоиков) образности "Эннеад" является кинико-стоическая диатриба. Многие образы Плотина встречаются также в культовом языке так называемых примитивных народов (зеркало, круг, источник, свет, танец).
То, что образы "диатрибы" по большей части выступают в поздних писаниях Плотина, является исключением из общего правила, по которому те или иные образы Плотина нельзя отнести к определенному периоду его жизни.
Также невозможно отметить внутреннее развитие образов, сравниваемых в разные периоды. Поэтому логичнее следовать при перечислении образов порядку Порфирия, а не хронологическому порядку. Это постоянство образов заставляет нас сделать вывод, что Плотин к моменту написания "Эннеад" уже имел всю свою философскую систему, в которой он в готовом виде освещал отдельные стороны, не теряя при этом из виду целого.
Следует также отметить влияние аллегорической экзегезы древних мифов, которые, так же как и образы, выполняют функцию сравнения и играют дидактическую роль. Но в то время как образы черпаются по большей части из неодушевленного мира, в мифах речь идет о богах и полубогах, которые и оживляют и украшают часто сухие традиционные материалы.
Наконец, хотя число олицетворений в "Эннеадах" достаточно незначительно (III 7, 45, 11 – 12; III 8, 30, 43; III 8, 8, 32; I 8, 14, 41; I 8, 51, 9-11), они все же играют свою роль при украшении плотиновского текста. Эти олицетворения мы здесь не приводим.
3. Плотин и Бергсон с точки зрения проблемы образного мышления
В 1949 году известный знаток неоплатонизма Э.Брейе{33}, вспоминая своих учителей полувековой давности Т.Рибо, П.Жане, Г.Тарда, Дюркгейма, П.Таннери, вспоминает также и знаменитого А. Бергсона, у которого он слушал комментарий к IV "Эннеаде" Плотина, посвященной учению о душе. Речь идет, очевидно, о конце 90-х гг.
а) Э.Брейе приводит предварительно два образа Бергсона и Плотина, связанные с представлением о человеке и замыкающие развитие мысли философов, чтобы возродить ее затем с новой силой, Бергсон пишет в конце своего рассуждения о поверхностном и глубоком типе человека: "Большую часть времени мы не замечаем в нашем "я" ничего, кроме обесцвеченного призрака, тени, которую чистая длительность набрасывает на гомогенное пространство"{34}. Плотин, говоря о взаимоотношениях души и тела, в конце трактата "О счастье" пишет, что Мудрец занимается своим телом, как музыкант играет на лире, пока она не вышла из употребления; в последнем случае музыкант меняет ее или перестает пользоваться лирой. "Он теперь бросает лиру на землю, смотрит на нее с презрением и поет без помощи инструмента" (I 4, 16, 23-27). Эти образы Бергсона и Плотина, считает Э.Брейе, не риторические метафоры, а созданы в духе своеобразной "игры"; употребляя терминологию известного философа Хойзинги в его книге "Homo ludens", Э.Брейе задается целью показать природу образов у Бергсона и Плотина и их близкое родство, а затем и метод, которым они следуют, употребляя эти образы.








