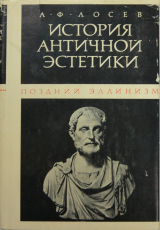
Текст книги "Поздний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 76 страниц)
1. Значение логики
Поздние платоники, конечно, тоже напирают на магию и демонологию, что тоже нисколько не делает их оригинальными для данного времени. В теоретическом же отношении эта школа вводит одну большую новость, которой в дальнейшем в сильной степени воспользуется неоплатонизм. А именно – Альбин вводит в число основных философских наук логику, понимая ее, в основном, по Аристотелю, но с гораздо более широким толкованием.
В этой же школе возобновляется также аристотелевское учение о формах, которое тут объединяется с Платоном путем толкования идей как прообраза для форм. Этим был положен конец стоическому натурализму в физике и космологии. В теологии Альбин, тоже прибегая к разделению стоически-платонического Нуса, также старается поставить как можно выше первый Нус, хотя уже самое обозначение его в качестве Нуса не говорит о приближении к неоплатонизму, так что здесь важна только тенденция.
Даже несговорчивые и надменные в своем консерватизме перипатетики не избежали модного в те времена сближения с другими школами. Об этом говорит ярче всего упоминавшийся у нас (ИАЭ V, с. 739-752) трактат Псевдо-Аристотеля "О мире". В результате всех этих взаимных сближений мы получаем следующую картину.
2. Итог
Посидоний совершает великий перелом от раннего эллинизма к позднему эллинизму, открывая широкий путь от секуляризации первого к сакрализации последнего, что удалось ему сделать при помощи соединения стоицизма с платонизмом и через обоснование стоическим платонизмом мифологии, демонологии и мантики. Этим была создана платформа для дальнейшего объединения философских школ и приближения к неоплатонизму. Приближение к неоплатонизму совершалось путем отхода стоического платонизма от его первоначальных натуралистических позиций и постепенной замены их усложненной аристотелевской натурфилософией. Эта критика натурализма назревала уже и в среде самих стоических платоников, так что в конце концов Нумений прямо критикует стоиков за материалистическое представление о душе.
Действительно, тот Ум, та Душа, те сперматические логосы, о которых учит Посидоний, представляют собою совершенно нерасчлененное и некритическое смешение, с одной стороны, вполне чувственного, вполне вещественного, вполне материального огня, или теплоты, а с другой стороны, вполне отвлеченного, вполне идеального смысла и оформления. Когда задумались над этим некритическим смешением, то вспомнили старинное аристотелевское разделение формы и материи, которым здесь и заменили нерасчлененную концепцию сперматических логосов. Эти последние, как и все подобные понятия, стали теперь трактоваться уже расчлененно, но это расчленение имело своей единственной целью объединение, ставшее теперь уже систематическим и продуманно-методическим. Кроме того, старая имманентистская материально-чувственная закваска стоицизма здесь нисколько не умерла, но нашла свое новое выражение в том, что аристотелевская натурфилософия стала отныне служанкой демонологического построения космологии, потому что аристотелевские формы, являвшиеся у Аристотеля живыми энтелехиями, стали мыслиться здесь насквозь материально-чувственно и в то же время без всякой потери своей идеальности, а это и значит, что они стали мыслиться в качестве демонов. Точно так же и неопифагорейцы стараются изменить самый метод стоического платонизма и сделать его из эмпирически-позитивного математическим. Школа Гая уже вполне методически изгоняет натурализм из физики и космологии и вводит утонченные методы логики Аристотеля.
3. Заключение о римско-эллинистической эстетике
Пересматривая всех этих поздних платоников II в. н.э., приходится поражаться огромной силе и крепости того, что нужно именовать стоицизмом, который признавал все существующее телесным, а все идеальное только иррелевантно-смысловой данностью. Правда, в этом чистом виде стоицизм удержался в античности недолго. Даже и первые стоики признавали телесность мира не просто как непознаваемое бытие, но как такое, познаваемость которого определялась только переносом субъективно-логических категорий на объект. Объективная действительность никогда не исчезала из поля зрения античных философов. Оставалась она и в стоицизме. Но, будучи изображена в виде огня, она в то же самое время трактовалась как Логос, то есть как словесно-умственное построение, вполне аналогичное тому, что совершалось и в субъективном языковом мышлении. О последующих философах и говорить нечего.
Чем дальше, тем больше они расширяли и углубляли познавательную картину мира, и его красота становилась все более и более внушительной. Уже у первых стоиков красота была чудовищным хаосом космического бытия, которое осмысливалось в своей полной и непосредственной данности, так что хаос и Логос на фоне мировой судьбы оказывались страшным зрелищем для эллинистического субъекта, не умевшего ввиду своего изолированного существования представить мир более гармоничным. В дальнейшем мы видим – и особенно с Посидония, – как ранний стоический аллегоризм переходит в красивую и стройную платоническую теорию небесных сфер. Но и это далеко еще не было выходом первоначального эллинистического субъективизма за пределы собственных индивидуальных умозрений. Уже у Цицерона, уже в анонимном трактате "О космосе", у Плутарха (хотя и далеко не всегда), у некоторых позднейших стоиков (например, у Марка Аврелия) твердая и определенная красота вечно подвижного космоса, и подвижного по твердым законам, становится традиционной философско-эстетической картиной. Но стоицизм далеко не был опровергнут такого рода эстетикой.
Из недр античной мысли должна была возникнуть непреодолимая и неопровержимая логическая тенденция, которая закрепила бы эту философско-эстетическую картину тоже как нечто непреодолимое и неопровержимое. Но для этого необходимо было философское функционирование еще одной античной стихии, уже зародившейся в раннем эллинизме, но получившей свое полное развитие только в позднем эллинизме, то есть по преимуществу в Риме. Только римское мышление могло придать греческим философским категориям это непреодолимое и неопровержимое значение. Только Римская империя смогла дать такую могучую картину мира, в которой могли бы совместиться и прежний начально-эллинистический субъективизм и поздняя социальная громада Римской империи.
И мы видим, как у поздних платоников неизменно назревает эта могучая значимость основных философских категорий, которые раньше продумывались в Греции очень глубоко, но не очень устойчиво и вдали от всякой железной систематики философско-эстетической мысли. Мы видим, как бьется мысль поздних платоников II в. н.э. за непобедимую устойчивость прежних философско-эстетических категорий. Стало уже давно всем ясно, что сдвинуть такую громаду, какой является космос, с места, может только такое же колоссальное начало, такая же непобедимая причина, а именно мировая Душа. Но ведь мировая Душа была только причиной движения космоса, но отнюдь не его вечной и неопровержимой закономерностью. Римское мышление требовало для своей эстетики обязательно неопровержимо-существующей мировой закономерности, обязательно и вечно действующего начала, которое не просто двигало бы миром, но делало бы этот мир именно миром, то есть внедряло в него определенную смысловую закономерность, определенный закон и определенную государственную субстанциальность. И здесь гоже становилось ясным учение, которое в гениальной форме было создано еще Аристотелем, если не прямо Платоном и Анаксагором. Это было учение о мировом Уме. Конечно, это уже не был стоический Логос, который для этих поздних времен был не только слишком материален, то есть состоял из огненной пневмы, но и чересчур материалистичен, потому что отрицал необходимую для вечной правильности космоса основу, а именно мир невещественных идей. И мы видим, какие огромные усилия затрачивают эти поздние платоники для того, чтобы формулировать этот мировой Ум, для того, чтобы его неопровержимым образом объединить с мировой Душой и чтобы сохранить эту мировую Душу, без которой материя была бы мировым трупом, а не принципом вечного самодовления.
Но и все эти проблемы еще кое-как получали у поздних платоников некоторого рода твердую и определенную систему. А вот что им уже совсем никак не удавалось – это понять мир как абсолютно неделимую субстанцию, как то Единое, которое превыше всякого Ума и всякой сущности. Даже Нумений, наиболее близко подошедший к этой проблеме, и тот все еще продолжал именовать свое наивысшее начало не чем иным, как только Умом. Он всячески отделял этот свой высший ум от того низшего ума, который вместе с душой движет космосом. Но все-таки даже и Нумений не имел такой универсальной интуиции, которой требовало от него римское мышление, именно интуиции такого Единого, которое превыше всякого Ума и всякой сущности, потому что обнимает и все то, что вне Ума и вне сущности.
И нетрудно понять, почему проблема Единого не могла получить достаточной разработки у поздних платоников наряду с другими философскими категориями. Дело в том, что стоицизм, который пытались преодолеть поздние платоники II в. н.э., упорно отстаивал позицию, заставлявшую его трактовать все бытие как чисто телесное. В этом мировом теле не так трудно было найти мировую Душу и мировой Ум, поскольку мировая Душа была реальным двигателем всего телесного, а мировой Ум трактовался как средоточие всего целесообразного, целенаправленного и точно сформированного, что было в мире. Но найти и формулировать такое Единое, которое держало бы весь мир как бы в единой точке и в котором совпадали бы все телесные, душевные или умственные противоположности, – это было задачей весьма тяжелой и требовало весьма тонкой и глубокой диалектики, на почву которой поздние платоники пытались становиться, но не всегда удачно, сводя диалектику как единство противоположностей только на логическое разделение и оформление стоического хаоса жизни. Не мудрено поэтому, что проблема Единого оказалась самой последней проблемой, которая торжествовала свою победу над материалистическим стоицизмом.
Неоплатоническое Единое нисколько не мешало общематериалистическому мироощущению, но оно было таким его окончательным заострением и завершением, формулировать которое было очень трудно и которое хронологически оказалось самой последней проблемой, завершавшей победу платонизма над стоицизмом.
Вот почему все центральные категории неоплатонизма уже были разработаны поздними платониками II в. н.э., но только не категория Единого. С появлением этого Единого и с его точной формулировкой как раз и начался неоплатонизм, началась завершительная сфера римского мышления, начался завершительный предел мировой Римской империи. Но тем самым, конечно, начался и конец и Римской империи и всего античного мира. С постепенным разрушением Римской империи, то есть с постепенным возвышением не языческого, не безличностного, но уже чисто христианского личного Единого, разрушалось и неоплатоническое учение об Едином. Но все-таки это разрушение продолжалось по меньшей мере четыре века.
Кроме общеизвестной греческой литературы, в которой коренится неоплатонизм, в настоящее время можно указать на так называемые кумранские рукописи, находимые с 1947 г. в районе Мертвого моря и относящиеся ко II в. до н.э. – I в. н.э., где, несомненно, содержатся намеки на неоплатоническое представление о благе и красоте. Об этом – Сadiоu R. Esthetique et sensibilite au debut du neoplatonisme. – "Revue philosophique de la France et de l'etranger", 1967, N 1, p. 71-78.
Часть Вторая. КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ПОЗДНЕГО ЭЛЛИНИЗМА, ИЛИ НЕОПЛАТОНИЗМ
IПРОИСХОЖДЕНИЕ И КАТЕГОРИАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
1. Трудности изучения предмета
Трудности понимания неоплатонизма и его изучения весьма велики. Однако это не значит, что мы не можем ставить в качестве своей ближайшей цели его социально-историческую характеристику. Одной из постоянных уловок буржуазной методологии является откладывание социально-исторических характеристик того или иного явления в истории до полного и окончательного его изучения. Как хорошо известно самим же буржуазным ученым, никакое полное и окончательное изучение предмета никогда не может иметь места ввиду неисчерпаемости и бесконечности изучаемых в науке явлений природы и общества. Отложить социальную историю данного исторического явления до полного и совершенного его изучения – это значит раз навсегда отказаться от всякой социальной истории в данном вопросе, ибо никакое явление никогда не будет изучено окончательно. С другой стороны, марксистско-ленинская теория очень часто обладает возможностью получения общих выводов на основании небольшого количества частных проявлений этого общего, совершенно не нуждаясь в привлечении всего необозримого количества относящихся сюда частностей. Очень часто какой-нибудь отдельный факт, кажущийся при формалистическом подходе к предмету чем-то весьма незначительным, какое-нибудь отдельное замечание или выражение, какой-нибудь отдельный образ дают возможность сделать гораздо более важное обобщение, чем десятки и сотни менее выразительных фактов, как бы тщательно и подробно они ни были зафиксированы и изучены. Все это делает социально-исторический подход к неоплатонизму, по крайней мере, возможным.
Другое дело – это резюмирующий, итоговый и синтезирующий характер неоплатонизма. Как было уже указано выше, это заставляет нас при изучении неоплатонизма очень часто обращаться назад, в глубину веков предшествующего социального и философского развития древнего мира, и здесь, конечно, волей-неволей оказывается важным выходить весьма далеко за пределы социальной эпохи самого неоплатонизма. Однако и в данном случае марксистско-ленинская теория имеет большие преимущества перед всякой другой методологией, поскольку при ее помощи уже получены весьма глубокие и острые результаты в характеристике основных движущих сил античного общества.
2. Общинно-родовая и рабовладельческая формация
Неоплатонизм развивается в последний период античного общества и литературы, а именно в период окончательного развала античной рабовладельческой формации, то есть в период ее перехода в феодализм. Это есть период феодализации Римской империи. Ясно, таким образом, что для правильного понимания развала рабовладельческой формации и его идеологии необходимо точно представлять себе, что такое рабовладельческая формация вообще и в чем заключается ее идеология.
Известно суждение Энгельса о прогрессивном характере рабства в сравнении с предшествующим ему общинно-родовым строем. В чем же заключается этот прогресс? Общинно-родовой строй есть основанный на родственных отношениях коллективизм труда, коллективизм владения средствами производства, а отчасти и орудиями производства, коллективизм распределения продуктов труда. Здесь мы имеем максимально обнаженную жизнь рода, еще не дошедшую до классового разделения и до государственного оформления, и, так как мировоззрение всякой эпохи определяется ее социальными условиями, то, очевидно, природа и мир на ступени общинно-родовой формации тоже должны пониматься в свете этой последней, то есть представлять собою в той или иной степени обобщенную картину тех же самых общинно-родовых первобытно-коллективистических отношений. Что же это были за природа и мир, если они тоже состояли здесь из живых индивидуумов, порождающих друг друга и составляющих некую универсальную родо-племенную общину? Такая природа и такой мир, очевидно, суть мифологические, ибо античный мир богов, демонов и героев и есть не что иное, как некая космическая родовая община. Мифология, и притом в своем наиболее чистом, наиболее буквальном и непосредственном виде, мифология, еще не тронутая никакой рефлексией, это и есть основная идеология общинно-родовой формации и ее основная эстетика. И это нам нужно очень хорошо запомнить, потому что неоплатонизм, как мы далее увидим, в основном есть не что иное, как реставрация наиболее архаической мифологии в ее непосредственном виде, и социальная эпоха неоплатонизма есть не что иное, как попытка частичного возврата тоже к своего рода архаическим общинным отношениям. Это – первое основное слагаемое неоплатонизма и его эпохи.
Рабовладельческая формация, пришедшая в первую треть I тысячелетия до н.э. на смену формации общинно-родовой, уничтожившая родовые авторитеты и создавшая вместо них новый коллектив, уже государственный и рабовладельческий, вместе с тем уничтожила и безраздельное господство чистой и непосредственной мифологии и обеспечила господство свободных и сознательных индивидуумов, – правда, на данной ступени только в виде сравнительно небольшой прослойки "свободно-рожденных", живущих путем эксплуатации огромного рабского или отчасти рабского населения. В этом и заключался прогрессивный характер рабовладельческой формации. И так как рабовладельческая идеология есть второе основное слагаемое неоплатонизма, то сейчас необходимо формулировать и ее, конечно, в кратчайшей форме.
3. Раннее античное рабовладение
Рабовладельческая формация имела свою длинную тысячелетнюю историю. Первый ее период, представляющий собой эпоху классической Греции, то есть VI-V вв. до н.э., есть тот период, который можно назвать периодом простого или непосредственного рабовладения. Родо-племенная община, которая в результате своей перезрелости уже не могла собственными силами обеспечить своего существования, перешла к эксплуатации тех, которые не были связаны с нею родственными узами; она должна была перейти к внешним завоеваниям, к приобретению чужих людских ресурсов, попадавших теперь к ней в рабское состояние. Но это рабовладение в первые века своего существования могло быть только вполне непосредственным, подобно тому как сельский хозяин эксплуатирует домашних животных, следя за каждым их движением и направляя в нужную сторону их деятельность. Раб на этой стадии социального развития есть только домашнее животное, и более ничего; и потому его эксплуатация происходит путем непосредственного соприкосновения с ним его господина. Этот дух непосредственности, ясности и простоты отличает собою всю полисную рабовладельческую систему классического периода и всю ее идеологию.
Общество этого времени есть сплошной монолит, в котором отдельная личность еще далека от какого бы то ни было обособления и самоуглубления, от какого бы то ни было противоречия с государством и обществом. Она все получает от государства и все отдает государству; государство освящает и защищает все рабовладельческие отношения, и всякий рабовладелец отдает себя в распоряжение этому государству. Это и было тем молодым и героическим периодом греческой полисной рабовладельческой системы, который создал прославленных героев Марафона и Саламина и обеспечил культурный и социальный расцвет классической Греции. Тем же самым вполне непосредственным характером отличается и содержание полисной рабовладельческой системы эпохи расцвета. Государство здесь еще очень далеко от функционирования в чистом и абсолютизированном виде; оно здесь дано в своей непосредственной связи с гражданской общиной, каждый член которой принимает непосредственное участие в решении самых основных государственных дел. Наконец, если рассматривать это рабовладельческое государство как целое, то оно является в этом периоде миниатюрным полисом, который можно обозреть одним взглядом, в котором все дела известны всем и в котором всякий участвует так же непосредственно, как и в жизни собственной семьи. Городские и государственные функции такого полиса настолько тождественны между собою, что наилучшим переводом греческого слова "полис" является не "государство" и не "город", но именно "государство-город".
Общественно-личная монолитность, непосредственно гражданский характер, миниатюрность и партикуляризм греческого классического полиса является азбучной истиной всех достаточно полных обзоров греческой истории; однако только марксистско-ленинская теория может дать этому замечательному историческому явлению необходимое и убедительное объяснение. Оно коренится в непосредственности и простоте рабовладения классической греческой эпохи.
4. Гилозоистическая эстетика
Что дала такая социальная база для идеологии и, в частности, для эстетики? Ясно, что она уже не являлась трудовым коллективом родственников и потому не вырастала из отношений между родственниками, то есть между живыми индивидуумами, которые были бы связаны кровными узами. В рабовладельческой формации люди вступали между собою в гораздо более отвлеченные связи; и отношения между господином и рабом были, конечно, гораздо более абстрактными, чем коллективно-трудовые отношения между родственниками. И господин и раб продолжали оставаться одушевленными существами, но вместо родственных отношений между ними вырастали только производственные связи. И вот эта-то' существенная особенность рабовладельческой формации данного периода и налагала неизгладимую печать на идеологию. Поскольку люди здесь все еще находились в атмосфере связей между одушевленными индивидуумами, эта одушевленность не могла не переноситься на внешний мир, и в этом смысле рабовладельческая идеология вполне совпадала с архаической мифологией, давая то же учение о всеобщем одушевлении природы и мира.
Однако, поскольку самая связь между этими одушевленными индивидуумами мыслилась теперь уже не родственно, а производственно, постольку природа и мир начинали представляться теперь хотя и одушевленными, но уже не по типу родственных связей, а по типу материального происхождения одной вещи из другой согласно тем или другим производственным, то есть формообразующим, принципам. Вот почему основной идеологией и эстетикой рабовладельческой формации классического периода является не мифология, но учение об одушевленной материи, или так называемый гилозоизм, то есть учение о происхождении мира и человека из живых и одушевленных стихий земли, воды, воздуха, огня и эфира под действием тех или иных формообразующих принципов, вполне имманентных этим стихиям и точно так же просто и непосредственно направляющих и организующих эти стихии. Демокрит однажды, может быть, случайно и незаметно для себя самого, формулировал эту связь тогдашних учений о формообразующих принципах с рабовладением. Он говорит (В 270, Diels9): "Пользуйся слугами, как членами своего тела, употребляя одного из них для одного дела, другого для другого". Такие учения, как Фалеса о водяном единстве, или Диогена Аполлонийского о воздушном мышлении, или Гераклита об огненном Слове, отличаются от архаической мифологии только критикой антропоморфизма, но вполне совпадают с ней в учении о всеобщем одушевлении, заменяя прежних богов и героев учением о тех или иных формообразующих принципах одушевленной материи, находящихся с ней в простом и непосредственном соприкосновении. Отдельные этапы этого гилозоизма и его быстрое перерождение в течение VI и V вв. прослежены нами раньше (см. главы, посвященные досократовской философии, ИАЭ I с. 255-500).
5. Систематически-логическая реставрация старого гилозоизма у Платона и Аристотеля
Однако если иметь в виду непосредственно неоплатоническую философию, то на нее влиял не тот чистый и простой гилозоизм, который характерен для восходящей эпохи классического рабовладения. Это последнее уже во второй половине V в. до н.э. начинает заметно колебаться и расшатываться, и вышеуказанный общественно-личный монолит начинает давать здесь заметные трещины. Прежнее простое и непосредственное тождество человека и гражданина уже изживало себя; полис начинал нуждаться в использовании частной и свободной инициативы, основанной не на общих государственных предписаниях, но на чисто личной предприимчивости и изобретательности. Однако в связи с этим появляется индивидуалистическая философия софистов и Сократа, противопоставляющая себя прежнему объективному гилозоизму и зовущая к субъективному самоуглублению человека. Этот краткий период шатания и брожения завершается в IV в. мощными философскими системами Платона и Аристотеля, в которых произошло объединение старого гилозоизма и нового учения о человеке и в которых учение о формообразующих принципах мира и человека достигло своего предельного (для греческой классики) и систематического развития. О различии систем Платона и Аристотеля, которое будет играть существенную роль в нашем дальнейшем изложении, в данном месте нет нужды распространяться. Тут важно только то, что и платоновское учение об идеях и аристотелевское учение о формах одинаково есть учение о формообразующих принципах гилозоистического мира и что обе эти философские системы являются только утонченной логической обработкой, а значит, и реставрацией прежнего гилозоизма, характерного для периода восхождения классической рабовладельческой идеологии. Надо было восстановить юность греческого полиса. Но в IV в. это восстановление могло быть только реакционным. Оно не могло происходить тут свободно и естественно, но оно могло происходить здесь только в результате сознательных планомерных и субъективных усилий отдельных человеческих индивидуумов. Поэтому и характерная для идеологии юного греческого полиса непосредственность связи между одушевленной материей и формообразующими принципами должна была неизбежно стать предметом сознательной рефлексии, то есть перейти из непосредственности в целую логическую систему отношений между формами, или идеями, с одной стороны, и материей – с другой. Так возникло платоновское учение об идеях и аристотелевское учение о формах как результат систематически-логической реставрации старого гилозоизма.
Вот эта-то платоно-аристотелевская ступень классической рабовладельческой философии, то есть не ступень ее молодого героизма, но уже ступень ее реставрации в период ее отмирания и в период нарождения нового, а именно уже эллинистического рабовладения, вот эта-то систематическая философия Платона и Аристотеля с ее утонченными логическими методами и ложится в основу неоплатонизма наряду с упомянутой выше архаической мифологией и рабовладельческой идеологией вообще. Это есть третье основное слагаемое неоплатонизма и его эпохи.
Каким образом совместилась в неоплатонизме прежняя антропоморфная мифология с неантропоморфным отвлеченным платоно-аристотелевским идеализмом, этот вопрос специально будет рассматриваться ниже.
6. Логическая реставрация юности рабовладельческого полиса
Для понимания платоновских и аристотелевских элементов неоплатонизма (конкретно о них речь будет ниже) очень важно сделать все выводы из того, что дает нам здесь марксистско-ленинская теория. Из этих выводов в данном месте нашего изложения во всяком случае необходимо указать следующих два.
Во-первых, в традиционных изложениях философии Платона и Аристотеля обыкновенно не ставится вопроса о социальном происхождении самого содержания учения об идеях и учения о формах. Тем не менее то, что платоновские идеи и аристотелевские формы, призванные объяснить весь мир и всего человека в его личном и общественном бытии, ровно ничего не содержат в себе ни личностного, ни общественного, это обстоятельство целиком зависит именно от рабовладельческой формации, поскольку последняя основана на производственно-вещевом понимании человека. Когда в платоновском "Федре" изображается восхождение в идеальный мир, то этот идеальный мир оказывается состоящим не из чего другого, как из отвлеченных понятий, взятых в своем абсолютном бытии – "справедливости", "целомудрия", "знания", – так что это идеальное бытие оказывается "бесцветным", "безобразным", "неосязаемым" (Phaedr. 247 cd). Эта отвлеченность платоно-аристотелевских идей и форм, очевидно, есть результат того отвлеченного представления о человеке, которое было принесено критикой антропоморфизма в период восхождения рабовладельческой формации. Уже в эпоху общинно-родовой формации, то есть в период возникновения самой мифологии, ввиду первобытного и стихийного коллективизма, не было никаких оснований для представления о богах и демонах как о настоящих личностях, ибо боги и демоны являлись там гораздо больше обожествлением сил природы, то есть демоническими принципами тех или других областей природы и общества, чем личностями, неповторимыми и единственными, в настоящем смысле слова. Еще меньше того было оснований в эпоху возникновения философских учений об идеальных сущностях трактовать эти последние как личности. Вместо живых богов старой мифологии и их управления миром мы имеем здесь идеи и формы, то есть неантропоморфные формообразующие принципы; платоновские идеи – это не просто боги, но логические конструкции богов. Таков же Нус Аристотеля, понимаемый им только как "форма форм". Без такого вывода платоно-аристотелевских идей и форм по их содержанию из глубин рабовладельческой формации классического периода не будет понятна и связь неоплатонизма с этой рабовладельческой формацией.
Во-вторых, необходимо поставить вопрос также и о социальном происхождении того принижения чувственного мира, которое мы находим у Платона и которое целиком перешло от него и в неоплатонизм. Это принижение, несомненно, кроется опять-таки в глубинах той же самой рабовладельческой формации, потому что только с появлением этой последней мир узнал, что человек есть вещь или, в крайнем случае, домашнее животное, то есть что человек есть товар, и притом не самый ценный, что существование его не обладает никакой принципиальной ценностью, что оно текуче, эфемерно и ненадежно и что всякий человек существует только благодаря своему приобщению к чему-то над-человеческому, благодаря его безусловному повиновению этому последнему. Таким образом, принижение всего чувственного в античном платонизме и неоплатонизме есть не что иное, как результат той ограниченности сознания, которая вытекала из самых глубоких оснований рабовладельческой формации. Без этого также не может быть правильного понимания неоплатонизма. Относительно Аристотеля дело в этом вопросе обстоит несколько сложнее, потому что у него рядом с принижением чувственного и материального мы находим и элементы очень высокой оценки этих видов бытия и знания. Но зато Аристотель – это уже канун того нового учения о человеке, которое было создано новым этапом рабовладельческой формации, а именно эпохой эллинизма.
Приводя здесь последовательную марксистско-ленинскую точку зрения, необходимо сделать еще одно уточнение относительно социально-исторической значимости платонизма. Поскольку платоновские идеи не суть антропоморфные боги, но только их логическая конструкция, постольку Платон есть представитель и выразитель не общинно-родовой, но рабовладельческой формации. Поскольку, однако, эти идеи не находятся у него в таком же простом и непосредственном взаимоотношении с материей, как Ноэсис Диогена Аполлонийского или как Логос Гераклита и Демокрита, но во взаимоотношении логически опосредствованном, постольку подобная философия могла вырастать только из опыта весьма углубленной личности, которой уже хорошо знакома рефлексия не только над космическим целым, но и над собственным мышлением. В этом смысле, но только именно в этом и ни в каком другом смысле слова, Платон, можно сказать, также стоит в начале эллинизма, как и в литературе Еврипид и в практической жизни – сократовские школы. Но Платон углубляет человеческую личность вовсе не для того, чтобы ее изолировать и психологизировать на манер эллинизма, в отрыве от объективных основ природы и общества. Он ее углубляет ровно настолько, насколько это ему нужно для утверждения объективно идеальных основ все той же природы и все того же общества, то есть для сознательной и логической реставрации юности рабовладельческого общества. И в этом смысле он нисколько не эллинист, но представитель именно классической рабовладельческой идеологии. Таково двойственное положение Платона в истории классовой идеологии Древней Греции.








