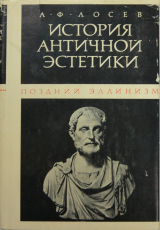
Текст книги "Поздний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 76 страниц)
Что касается независимости Души, ее трасцендентности, отстраненности от чувственного мира, то эта концепция, по мнению Армстронга, связана с позитивной трактовкой материи – именно как источника зла. Чем ближе к материи, тем множественнее, слабее, дальше от первоначального единства оказывается Душа. Именно поэтому, считает Армстронг, различия между низшей и высшей Душами непреодолимы, и лишь человеческая душа содержит в себе и ту и другую. Материя не может тронуть вселенскую Душу, или, например, Души звезд (II 2, 3, 6-8), но она вполне в состоянии исказить логосы (I 8, 8, 15) или помешать логосу и эйдосам в их формирующей деятельности (II 3, 11, 11-13). Способность человека обладать и вселенской и низшей Душой объясняется двойственностью его собственного бытия (II 1, 5, 18-21; VI 7, 5, 21-25; IV 3, 12-18; IV 8, 7, 1-2).
Армстронг анализирует тот аспект плотиновской концепции низшей Души, в котором Плотин называет ее "природой" (physis). Этот аспект Армстронг считает развитием платоно-аристотелевской традиции, подвергнутой стоическому воздействию. Стоический элемент в концепции Плотина обнаруживается там, где Плотин говорит о чувственном мире как об органическом целом (III 2, 2-3), о сперматических логосах (IV 3, 10, 38-42; IV 4, 11, 17-28). Однако, считает Армстронг, стоический характер этих логосов у Плотина существенно переосмысливается, если принять во внимание отношение плотиновских логосов к Уму (IV 3, 5, 8-14). Так же и в трактате VI 7, 5 имманентные логосы – это скорее "по-аристотелевски переосмысленные платоновские трансцендентные души, чем что-нибудь стоическое". Армстронг вообще считает, что стоическое влияние сказалось больше на лексике, чем на существе дела (см. IV 3, 11,6-12).
Так же и в отношении аристотелевского влияния, по мнению Армстронга, нужно высказываться в высшей степени осторожно, хотя термину "природа" у Плотина, видимо, присущ дискуссионный обертон природы Аристотеля.
Природа у Плотина бессознательна, но деятельна (IV 4, 13, 7-8), она даже созерцает, но не обладает своим созерцанием (III 8, 1, 18-24). Созерцание природы, подобное сну (III 8, 4, 24-25), является активной силой лишь случайно, или, во всяком случае, непреднамеренно. Даже самая низшая душа для Плотина – не аристотелевского типа, так как она не имманентна. В II 3, 9, 32-34 Плотин пишет, что Душа связана не с материей, но с телом. Здесь, по мнению Армстронга, Плотин принимает платоновскую концепцию независимости Души и отвергает аристотелевскую доктрину о том, что душа – это форма тела (ср. VI 7, 6, 7-12). Для Плотина, в отличие от Аристотеля, природа, даже если ей присущи созерцание или сознание, не является регулятивной силой (см. трактат "О проблемах Души" – IV 3-4), но природа – формирующий и дающий жизнь принцип.
Подводя итог всем этим наблюдениям об отношении Плотина к Аристотелю в области учения о Душе, можно сказать следующее.
Во-первых, и диалектически, и формально-логически, и систематически, и, вообще говоря, сознательным образом Плотин, несомненно, заимствует свое учение о Душе из платонической традиции, и прежде всего из платоновского "Тимея". Это – третья ипостась после единого и ума, которой противостоит совершенно в духе "Тимея" материя, или необходимость. Об этом не может быть никаких споров. Стоики для Плотина в своем учении о душе, конечно, слишком материалистичны, поскольку душа эта у стоиков является не чем иным, как все тем же мировым огнем, а в отношении человека просто теплым дыханием. Нет ничего общего у Плотина в его учении о душе также и с гностиками, которые для него слишком дуалистичны, антидиалектичны и антропоморфичны. С герметической литературой у Плотина тоже мало общего, ввиду отсутствия в ней отчетливого диалектического метода. В противоположность всем этим концепциям Платон в учении о душе выступает для Плотина в качестве единственного и непререкаемого авторитета.
Во-вторых, однако, кроме строго логической диалектики Плотину свойственно также еще и то, что мы называем понятийно-диффузным стилем и философии и эстетики (общее определение этого стиля – выше). Но Плотин не принадлежит к тем философам, у которых философия и стиль философии настолько разорваны, что не имеют ничего общего между собою. И философия и эстетика поэтому не только внешним образом, но и в смысле своего внутреннего оформления отличаются у него именно этой понятийно-диффузной структурой. И вот тут-то мы и наталкиваемся на целый ряд неожиданностей, далеко выходящих за пределы той канонической триады, которая формулируется в виде традиционных трех основных ипостасей. Душа у Плотина, конечно, является в полном смысле платонической ипостасью и совершенно безупречно занимает то третье место, которое было ей отведено еще Платоном. И тем не менее материальный мир, космос, то, что ниже и дальше Мировой Души, все это переживается Плотином настолько глубоко, искренно и откровенно, что возникает вопрос, не назвать ли космос вместе с той материей, из которой он состоит, тоже своего рода ипостасью, которая, в случае положительного ответа на этот вопрос, была бы, следовательно, уже четвертой ипостасью. Все дело заключается в том, что каждая ипостась в платонизме, будучи окружена инобытием, всегда оказывается способной перейти в это инобытие и тем самым получить уже новую структуру. Так, из Единого получился Ум, а из Ума – Мировая Душа. Но вот эта Мировая Душа – тоже еще не последняя ступень ипостасного развития. Она ведь тоже переходит в свое собственное инобытие, а если это так, то возникает уже и дробление универсальной Души, возникает бесконечное количество больших и малых душ, и они уже лишены такой предельной самодвижимости, которой отличается универсальная Душа. Эти отдельные души уже несравненно слабее универсальной Души. И эта слабость выражается в том, что цельная душа уже подчиняется отдельным и часто весьма мелким жизненным порывам. А это, в свою очередь, для Плотина, как и для Платона, означает получение душою того или другого тела, поскольку угождение души разным отдельным жизненным порывам и означает ту или иную подчиненность ее телу. Но до сих пор Плотин все еще не выходит за пределы строго классического платонизма.
В-третьих, мы часто натыкаемся у Плотина и на это уже неклассическое понимание души, на некоторого рода оправдание мелкого и мелочного существования душ и даже, можно сказать, на прямое любование этим космическим хаосом, который необходимым образом возникает ввиду стремления каждой индивидуальной души стать универсальной душой и ввиду прямого оправдания этого мелкого внутрикосмического поведения душ у Плотина. Подобного рода космологическая картина, можно сказать, почти целиком отсутствует у Аристотеля.
Чтобы покончить с вопросом о Душе, необходимо сказать еще и о том вопросе, который часто дебатировался в аристотелевской литературе, а именно вопрос о бессмертии индивидуальной души. Одни исследователи, опираясь на аристотелевское учение о том, что индивидуальная душа есть "первичное (законченное) осуществление естественного органического тела" (De an. II 1, 412 b 4) и поэтому она не может существовать отдельно от тела, а тем самым и обладать бессмертием после смерти тела. Другие исследователи обращали внимание на то, что у Аристотеля есть также учение об уме, с телом не связанном и привходящем в него извне (De an. I 4, 408 b 18-19). Этот ум Аристотель называет noys poioyn, и в отдельной человеческой душе ему соответствует noys patheticos, понимаемый как способность души к мышлению. Ум деятельный не может погибнуть вместе с телом, так как он связан со всеобщим умом; но вместе с тем он, будучи ориентирован на индивидуальную человеческую душу, и сам известным образом индивидуализируется. Аналогом такого аристотелевского построения у Плотина является как раз его понимание соотношения между всеобщей и индивидуальной душой. Всеобщая душа у него никак не связана с данным чувственным телом. Вместе с тем она претерпевает у него разделение по телам, то есть индивидуализируется. Плотин совершенно определенно учит о бессмертии этой индивидуальной души, и в этом он отличается от Аристотеля. Но вместе с тем эта его душа не является собственником аффекций, всяческих страданий, переживаний, вожделений и т.п. Все эти аффекций свойственны у него тому, что смешано из души и тела. Эта "смесь" со смертью тела, понятным образом, разрушается. Но душа как таковая у Плотина остается бессмертной.
Таким образом, можно сказать, что Плотин аристотелевскую душу понимает как смесь души и тела. Аристотелевский же индивидуализированный ум поэтому мы должны понимать как отдельную плотиновскую душу, бессмертную и с телом связанную только относительно, так что с этой точки зрения можно сказать, что и у Аристотеля индивидуальная душа, называемая им, правда, умом, тоже является бессмертной (чего, правда, у самого Аристотеля мы в четкой форме не находим). Заметим, что при всей неясности проблемы бессмертия индивидуальной души у Аристотеля, у Плотина мы находим специальный трактат "О бессмертии души" (IV 7) и что в сравнении с общим равнодушием Аристотеля к судьбе отдельных душ у Плотина учение о душепереселении и воплощении душ является одним из основных.
Мы не имеем возможности в данном труде произвести сравнение Плотина и Аристотеля решительно по всем пунктам их философско-эстетической системы. И после того как мы привели материалы относительно трех ипостасей у Плотина, об остальном скажем только кратко.
5. Потенция и энергия
Несомненно аристотелевского, но никак не платоновского происхождения проблема потенции и энергии у Плотина{109}. Эта бушующая и действительно энергийная и уж тем самым, конечно, энергичная сторона бытия представлена достаточно ярко и у Аристотеля (ИАЭ IV, с. 91 – 111) и у Плотина. Разница этих двух концепций заключается в том, что Плотин весьма ярко выдвигает в этой проблеме противоположности умного и чувственного мира. Но остается незыблемым тот факт, что термин "энергия" у того и у другого философа указывает на выразительную сторону бытия, потому что в энергии как раз и выражается внешним способом то, что является внутренним содержанием соответствующего предмета. Такого рода энергию тоже необходимо относить к той текуче-сущностной стороне бытия, о которой мы говорили выше. Об этой энергии, собственно говоря, трудно даже и сказать, является ли она только идеальным и только материальным началом. Оба эти начала Плотин принципиально и в абстрактном виде, конечно, строго различает. Тем не менее текуче-сущностный характер его системы заставляет Плотина весьма часто толковать те или иные проблемы именно в энергийном отношении. Такова, например, вся проблема эманации, или логоса (об этом ниже). Соответственно требуют "выразительного" толкования и термины dynamis ("потенция"), а также и "потенциально-сущее" и "энергийно-сущее" (об этом ниже). Принцип потенции и энергии настолько ярко представлен у Плотина, что всю его эстетику можно прямо назвать энергийным идеализмом, или, точнее, энергийно-миметическим идеализмом, поскольку каждый отдельный момент энергийного развития представляет собою только то или иное подражание тому или другому предыдущему моменту.
6. Четыре причины
Можно, далее, сказать, что и четыре причины Аристотеля остались для Плотина элементарной картиной всякой реальности. Ведь все, что существует, по Плотину, и материально, и обладает тем или иным эйдосом, и в той или другой степени самодвижно, то есть является причиной себя самого, и, наконец, в той или иной степени целесообразно, то есть выявляет в себе самом преследуемую им цель. Материя, эйдос (или, как обычно неправильно переводят, "форма", излишним образом противопоставляя эту "форму" платоновской "идее", хотя у Плотина тут употребляется только один термин, "эйдос", или иногда "идея"), причина и цель, – эти четыре основные принципа у Аристотеля (Phys. II 3, вся глава) целиком вошли в философию и эстетику Плотина. Ведь философско-эстетическая мысль Плотина базируется прежде всего на понятии каждого существа, или вообще жизни. Мы уже много раз говорили о том, что последней ипостасью из трех основных является именно Душа, а все дальнейшее является у Плотина только эманацией души. Но это же и значит, что у Плотина все бытие обязательно одушевлено, обязательно есть жизнь, почему для него ничего не стоит тут же переходить и к мифологии. В сравнении с этим Аристотель, как мыслитель гораздо более позитивного направления, не делает всех выводов о мифе, которые сами собой вытекают из его учения о четырех принципах. Но если бы Аристотель не был таким антагонистом Платона, часто излишним образом противопоставлявшим себя своему учителю, то и он должен был бы давать концепцию мифа как вещи в ее законченной форме. В значительной мере, однако, это компенсировалось у него общей чрезвычайно живой картиной природы. Природа для него не только материя с ее оформлением, но всегда также и самодвижная живая причина и, главное, так или иначе, но ежемгновенно достигаемая та или иная цель. Вся эта картина причинно-целевой и эйдетически оформленной материальности, как мы сказали, еще не является для Аристотеля мифологией, да и Плотин не называет это мифом в терминологическом смысле слова. Но ясно, что эта живая и вечно бурлящая картина природы представлялась и Плотину и Аристотелю подлинной и насыщенно жизненной реальностью, на которую только природа, с их точки зрения, была способна.
7. Материя и природа
Отдельно стоит сказать о концепции материи у Плотина и Аристотеля. Как мы показали в специальном исследовании концепции материи у Аристотеля (ИЭА IV, с. 56-68), эта аристотелевская концепция довольно близка к платоновской.
а) Материя у Аристотеля тоже есть не-сущее, но не в смысле абсолютного отсутствия, а в смысле отсутствия только отдельных качеств, в смысле возможности появления этих качеств при условии того или иного объединения материи с эйдосом. В сущности говоря, это и есть самое настоящее учение Аристотеля о материи, которое нетрудно отметить у него в многочисленных текстах.
Однако Аристотель – антагонист Платона, и опять-таки не в абсолютном смысле слова, но в смысле более позитивной обрисовки отдельных платоновских категорий. Также и материю Аристотель хочет представить в виде реального чувственного субстрата, в виде чувственного материала, из которого создаются вещи. Отсюда у Аристотеля возникает некоторого рода путаница, доставляющая исследователям обычно очень много труда представить себе аристотелевскую материю в окончательно ясном виде. Но сейчас мы обсуждаем не самого Аристотеля, а Плотина в сравнении с Аристотелем. При таком подходе к Плотину, несомненно, надо утверждать, что платоновское учение о не-сущем играет у него первую роль. И тем не менее Плотин настолько любит жизнь и так высоко ставит материю в системе своей космологии, что он часто совершенно по-аристотелевски тоже склонен свою чистую материю понимать субстратно, то есть чувственно-материально. Конечно, филологические Зоилы и тут найдут разного рода противоречия и путаницу в текстах Плотина. Но при более свободном подходе к текстам Плотина необходимо сказать, что концепция материи у него обоснована на известном рассуждении Платона о материи как о не-сущем (Plat. Tim. 47 е – 53 с). Но это у Плотина только один из основных принципов. Да и в качестве одного из основных принципов эта материя фигурирует у Плотина даже и в умопостигаемом мире. Но кроме строгих принципов мировоззрения у Плотина имеется еще и сама картина мировоззрения, где эти принципы появляются у него в очень причудливом сочетании и переплетении, о чем мы выше говорили в характеристике понятийно-диффузного стиля Плотина. И вот в этом-то переплетении и взаимно-диффузном состоянии принципиальных категорий у Плотина мы находим весьма богатую и вовсе не отвлеченную картину бытия. И вот тут-то живая, самодвижная и вечно целенаправленная природа Аристотеля, и притом, конечно, не только природа, но и вся человеческая жизнь рисуется у Плотина несомненно под сильным влиянием Аристотеля (о природе у Плотина – см. ниже){110}.
б) Как читатель мог заметить во многих местах нашего исследования, в эстетике Плотина мы выдвигаем на первый план понятие материи, о котором в систематическом виде мы будем говорить в части V, посвященной общей характеристике эстетики Плотина. Что же касается настоящего места нашего исследования, то нам хотелось бы в яснейшей форме сказать об отношении плотиновского понимания материи к ее пониманию у Аристотеля. Главное мы уже сказали. Но как раз в самое последнее время появился огромный труд о материи у Аристотеля, который заставляет нас еще раз внимательно учесть все относящиеся сюда тексты из Аристотеля. Выше мы увидели в аристотелевском учении о материи огромную путаницу. Но после того исследования, о котором мы сейчас будем говорить, это можно считать путаницей только в формальном смысле слова. По существу учение Аристотеля о материи основано на путанице понятий только в том смысле, что он вообще отрицает диалектический метод. В своем богатейшем изображении действительности он базируется больше на дистинктивно-дескриптивных методах мысли. У Плотина мы тоже найдем много разных характеристик материи, которые иному читателю также могут показаться основанными на существенной путанице понятий. Но, как будет показано в части V, у Плотина это вовсе не путаница, а только торжество диалектического метода. Вместе с тем мы все-таки настаиваем на зависимости Плотина именно от Аристотеля и как раз на почве неудовлетворенности чисто негативной характеристики материи, как она дается у Платона. Поэтому мы позволяем себе задержаться еще некоторое время на характеристике материи у Аристотеля.
Термину и понятию "гиле" у Аристотеля посвящена большая монография филолога Хайнца Хаппа{111}, созданная в 1965-1969 гг. в Тюбингенском университете. Эта работа, начинающаяся с подробного разбора существующих концепций аристотелевской материи, ставит целью преодолеть "сужающие интерпретации" этой категории у Аристотеля и восстановить ее первоначальный, согласно X.Хаппу, смысл как всеобъемлющего принципа бытия, как "чистой возможности" и одновременно как активной противоположности формы. При этом автор неоднократно подчеркивает глубокую взаимосвязь аристотелевского понимания материи с платоновско-академическим учением о началах, считая, что лишь установление глубоких и прочных связей между Аристотелем и Платоном, выведение аристотелевской "гиле" из второго платоновско-академического начала позволяет восстановить аристотелевскую мысль в ее подлинной оригинальности{112}, а это для нас очень важно потому, что наше исследование, учитывающее глубочайшее влияние Платона, все же приходит к выводу, что концепция материи у Плотина вовсе не сводима только к одному Платону.
Изучение аристотелевских текстов приводит X.Хаппа к убеждению, что материя есть прежде всего чистый принцип, одно из основных "начал", не имеющее никакого отношения к всевозможной "вещественности", "телесности", "плотскости", "массе" (наподобие материи стоиков). И все же рядом с этой вполне "идеалистической", принципиальной концепцией материи исследователь находит у Аристотеля тенденции к упрощению и огрублению понятия материи.
А именно (1) уже у Аристотеля материя привлекается в положительном смысле для объяснения мирового устройства, конкурируя с "эйдосом" и "сущностью"" но если Аристотель лишь изредка называет материю "сущностью" (oysia), то стоическая философия доводит эту тенденцию до крайности, делая материю окачествованной сущностью в полном смысле слова. (2) Во-вторых, по мере того как материя приобретает свойства самостоятельной сущности, у Аристотеля принижается роль бытийного эйдоса, который начинает сливаться с акцидентальной категорией "качества", или "состояния". В сфере низших элементов эйдос постепенно совершенно теряет всякое отличие от состояния или качества, что приводит в конце концов, опять-таки у стоиков, к тому, что эйдос превращается в качество (poion) субстанции-материи. (3) У самого Аристотеля в его естественнонаучных и биологических исследованиях материя выступает как "конкретное вещество", совершенно затмевая материю как чистый бестелесный принцип ("начало"). (4) В качестве "материи" у Аристотеля по традиции, идущей от досократиков, иногда рассматриваются (особенно в биологических работах и в IV книге "Метеорологии") четыре обособленных элементарных качества: тепло, холод, влага, сухость. В послеаристотелевской науке эти "состояния материи" нередко рассматривались даже как самостоятельные тела, и, как всегда, стоическая философия довела эти имеющиеся у Аристотеля тенденции до учения о телесности свойств и качеств. (5) Наконец, в-пятых, аристотелевское (или, вернее, платоно-аристотелевское) учение об ограниченности и единстве мира и небесконечности содержащихся в нем стихий неизбежно предполагает известную "телесность" материи и фактически равносильно закону о "сохранении материи". Развив эту мысль, стоики провозгласили, что совокупность не возникшей и не знающей уничтожения материи космоса не увеличивается и не уменьшается по количеству (Зенон: см. SVF I frg. 24; Хрисипп: SVF II 184 f.).
Все эти имеющиеся у Аристотеля, хотя и очень слабые, тенденции трактовать материю телесным, "весомым" образом расцветают сразу же после его смерти как в самой перипатетической школе, так и у других философов, – как уже упоминалось, прежде всего стоических, с их материалистически-монистическим представлением о телесно-вещественной материи как единственной действительности. Теофраст указывал на трудность аристотелевского понятия материи, но еще ничего не изменял в нем. Наоборот, перипатетик Стратон отказался и от неподвижного двигателя, и от эйдоса как бытийного начала, и от телеологической причинности (энтелехии) и пришел к монистическому представлению о материальных силах (теплом, холодном, тяжелом, легком и т.д.) как единственной причине всех мировых процессов. Уже начиная с II в. до н.э., несмотря на отдельные попытки возвратиться к чистому идеализму первоначальной аристотелевской материи, вся античная философская теория придерживалась перипатетически-стоического понятия материи как вещества, а ранняя христианская мысль по различным религиозным мотивам не только приняла представление о "телесной", "косной" материи, но и способствовала его окончательному закреплению. Одностороннее, огрубленное понимание материи как неподвижной, плотной сущности сохраняется до Нового времени, делаясь основой понятия массы в классической физике.
Однако такому "отягченному" понятию материи решительно противостоит неоплатоническая тенденция, которая, возвращая чистоту платоновско-аристотелевскому "второму началу", понимает материю как бестелесный, всепроникающий бытийный принцип. Однако вплоть до Симплиция, который в своих комментариях к Аристотелю впервые восстановил мысль ученика Платона, "чистое" понятие материи у Аристотеля было чрезвычайно непопулярным.
Формально-"идеалистическое" содержание материи определяется методом аристотелевского исследования. Материя выступает прежде всего как необходимый общий субстрат противоположных моментов (Phys. 17), как необходимая гипотетическая (потому что неощущаемая) "первая материя" четырех элементов (De coelo II 3, IV 4). Далее статус материи уточняется: она – "первое начало" в смысле "ощущаемого тела в возможности", на почве которого вторично возникают уже ощущаемые и определенные, и тем самым взаимно противоположные моменты (например, теплота и холодность), и уже в третью очередь – такие вещи, как огонь, вода и др. (De gen. et corr. II 2, 329 a 32-35). Если создается впечатление, что Аристотель говорит о материи по большей части в связи с телесным и вещественным, то это – пережитки "досократической" натурфилософской традиции, а не собственное оригинальное содержание аристотелевской концепции материи.
Когда Аристотель говорит об "ощущаемой материи", то имеется в виду не ощущаемость самой по себе материи, а неощущаемая материя ощущаемых сущностей. Сама по себе материя, согласно Аристотелю, который здесь вполне присоединяется к Платону, неопределенна, неограниченна и, следовательно, как таковая непознаваема: "Материальное никоим образом не может быть схвачено само по себе" (Met. VII 10, 1035 а 8-9).
Поэтому у Аристотеля не может быть не только непосредственного познания самой по себе материи, но и никаких перспектив такого познания. Материя предшествует четырем элементам, но ничто предшествующее элементам не может ощущаться (De gen. et corr. II 5, 332 a 26), потому что "материя есть среднее [превращающихся друг в друга противоположностей], оставаясь неощущаемой и непостижимой" (332 а 35 – b 1){113}. Так называемая "умопостигаемая материя" математики, по Аристотелю, не существует ни как действительная субстанция в чувственных вещах, ни как некая действительная идеальная сущность, а присутствует в ощущаемых вещах как потенция, как некоторая их возможность, которую переводит в действительность сам математик, поскольку делает ее предметом своего действительного познавательного акта (Met. XIII 3, 1078 а 30 – см. комментарий У.Росса к этому тексту{114}). Подлинное место умопостигаемой материи – только в надкосмическом Уме.
X.Хапп показывает, что за разнообразными "материями" у Аристотеля – материей как субстратом противоположностей, материей как субстратом первоэлементов, умопостигаемой материей и многими другими "материями" стоит единое понятие материи как одного из начал в бытии, причем Аристотель мыслит это начало прежде всего "духовно", а не "вещественно", хотя, как уже упоминалось выше, у него можно наблюдать и некоторые тенденции телесно-вещественного понимания материи, тенденции, получившие свое развитие прежде всего у стоиков{115}. Наиболее общий принцип всякой материи – это "чистая возможность", лишенная каких бы то ни было положительных определений. Но, несмотря на эту лишенность, материя как чистая возможность, согласно Хаппу, представляет не пассивное, а в известном – хотя и трудно определимом – смысле весьма активное начало, источник противодействующих форме движений и воздействий{116}.
Отсюда видно, в какой форме учение Аристотеля влияло на Плотина. Аристотель вполне ясно различает несколько типов материи, начиная от негативно-мыслимой материи и кончая материей умопостигаемой. Аристотель только не свел все эти виды материи в одно целое, и потому изложение им этих вопросов действительно страдает неясностью. Но Плотин, со своим диалектическим методом, сумел не только использовать все эти разнообразно и противоречиво действующие у Аристотеля разновидности материи, но и сумел свести их в одно нераздельное целое, данное диалектически, и притом иерархийно.
8. Человек и его внутренняя жизнь
Здесь тоже очень много совпадений Плотина с Аристотелем. Что у того и другого мыслителя человек – это прежде всего ум и что все более элементарные потребности человека (питание, рост и размножение) вовсе не составляют специфики человека, об этом и говорить нечего, тут у Плотина полное совпадение с Аристотелем. Точно так же и разделение добродетелей на практические и дианоэтические, то есть связанные непосредственно с деятельностью тела и зависящие от преобладания цельного ума, это все мы находим и у Плотина и у Аристотеля. Даже больше того, высшая добродетель, по Аристотелю, есть, как мы знаем (ИАЭ IV, с. 162-163), погружение в чистое созерцание. Но это целиком вошло и в философию Плотина, только Плотин здесь идет дальше. Как мы увидим в своем месте, Плотин проповедует еще более высокое восхождение человека, чем просто ум, хотя бы даже и чистейший. Самое высокое состояние человека, по Плотину, – это восхождение в сферу даже выше ума, когда гаснут все малейшие различения, на которые способен ум, и когда ум соприкасается с выше-сущностным Единым. Этого последнего учения у Аристотеля мы не найдем. Но концепцию созерцания, и притом чистейшего, только умного и ни с какой стороны не чувственного, мы находим у Аристотеля весьма нередко и особенно в "Этике Никомаховой" (X 7, 1177 а 17-1178 b 8). Наоборот, учение о загробных странствованиях души и об ее награждениях и наказаниях после смерти земного тела, весьма близкое к мировоззрению Плотина, у Аристотеля отсутствует.
9. Критика учения Аристотеля о категориях
В заключение мы коснемся одного вопроса, который необходимо ставить либо в начале изложения Аристотеля, либо в его конце, поскольку категории суть наиболее общие понятия бытия и мысли. Если подходить к делу отвлеченно, то, конечно, учение о логических категориях не имеет никакого отношения к эстетике. Однако мы подходим и к Плотину и к другим античным мыслителям совершенно иначе. И при таком подходе открывается довольно яркая именно эстетическая сущность учения Плотина о категориях. Как известно, у Аристотеля имеется специальный трактат "Категории", входящий в состав его знаменитого собрания трактатов по логике под названием "Органон". Что касается Плотина, то ему принадлежат целых три специальных трактата о категориях, – это VI 1-3. Поэтому учение обоих философов о категориях сопоставимо. Прежде всего необходимо сказать, что свое учение о категориях Аристотель мыслит и метафизически, то есть не диалектически, и формально-логически. Кроме того, учение это изложено у Аристотеля в логическом смысле довольно небрежно или, если не употреблять оценочного термина, то слишком уже описательно. В трактате "Категории" анализируются следующие 10 категорий: сущность (субстанция), количество, качество, отношение, место, время, положение, состояние, действие, страдание. Уже ближайший анализ этих 10 категорий указывает на то, что они часто перекрывают друг друга и отнюдь не являются строго продуманной логической системой. Сам Аристотель в других своих сочинениях дает совсем другое количество категорий и совсем другое их обозначение{117}. Плотин подвергает это учение Аристотеля о категориях уничтожающей критике (VI 1, 2-24).
Здесь у нас не место излагать всю эту плотиновскую критику учения Аристотеля о категориях{118}. Плотину совершенно ясно и отсутствие всякого единого принципа классификации категорий у Аристотеля и многозначимость отдельных категорий и возможность их по-разному комбинировать. Самое же главное, однако, у Плотина – это четкое разделение категорий на чувственные и умопостигаемые, разделение, целиком отсутствующее у Аристотеля. Эту тенденцию разграничивать идеальные и материальные моменты мы находим у Плотина и вообще везде, как, например, в недавно приведенном у нас разделении тоже аристотелевских категорий потенции и энергии. Далее, для Плотина возникает вопрос и о том, что вообще нужно понимать под логической категорией, и можно ли ее понимать так абстрактно-метафизически и так формально-логически, как это вышло у Аристотеля. Это ведь то, что нужно назвать "родами бытия". А каждый такой род (genos) Плотин понимает вовсе не изолированно-метафизически, но как живое действие и порождение. Род и вид соотносятся между собою не просто в изолированном виде и не формально-логически, но так, что род порождает свои виды. Особенно красноречиво Плотин говорит об этом в VI 2, 19-21. Можно было бы сказать, что виды эманируют из своего рода и что поэтому род и вид являются друг в отношении друга либо энергиями, либо потенциями, смотря по нашей точке зрения на этот предмет. Наконец, Плотин дает свою систему категорий и в положительном смысле слова, но, пожалуй, термин "система", который мы здесь употребили, едва ли подходит к Плотину ввиду текуче-сущностного характера его категорий (о том, что такое текуче-сущностный анализ у Плотина, см. выше). "Категории" чувственного мира Плотин подробно рассматривает в VI 3. Но эту красивую диффузию категорий чувственного мира мы здесь не будем рассматривать. А вот относительно категорий или, вернее, родов умного мира два слова необходимо сказать в целях эстетики.








