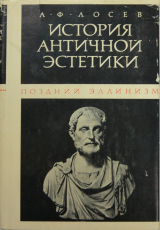
Текст книги "Поздний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 76 страниц)
Исследователи обычно трактуют пять категорий платоновского "Софиста" (покой, движение, тождество, различие и бытие) как именно логические категории, которые абсолютно неподвижны и друг с другом не общаются, или общаются формально-логически. Плотин действительно использует эти категории для характеристики Ума. Но интересная вещь: покой не есть движение, и движение не есть покой; и тем не менее "идея (idea) в покое есть предел (peras) Ума. Ум же является ее движением", так что все есть и движение и покой, и "все роды (genё) происходят благодаря цельности (di'holon), так что каждое является чем-то последующим [т.е.] некоторым покоем и некоторым движением" (VI 2, 8, 23-27). Здесь и в последующем рассуждении этой главы Плотин доказывает мысль, что каждый эйдос в уме, будучи сам собою и ни от чего не завися, тем не менее является и покоем, и движением, и сущим. Другими словами, эйдос не только обладает определенной структурой, но он еще заряжен и всеми другими "эйдосами Ума". Он в этом смысле динамичен или, во всяком случае, является принципом смыслового становления всего, что есть в Уме.
В заключение необходимо сказать следующее. Именно, благодаря тому, что эйдосы вовсе не суть порождения психических действий человека, а предполагают свое объективное, не зависимое ни от какой психики существование (об этом весьма выразительно в V 9, 7, 1-12), из этого весьма отчетливо вытекает, что душа пользуется именно эйдосами для распознания блага (I 5, 3, вся глава), что эйдосы являются для всего моделью, образцом, регулирующим принципом (VI 5, 8, 8-15) и что, наконец, они являются подлинной красотой (I 6, 9, 34-36). Ведь и сами эйдосы являются идеальной жизнью и смысловым движением, взятым в самом себе, еще до применения ко всякой внеэйдетической области, до всякого инобытия (V 9, 7, 12-18).
4. София
Эйдос, будучи смысловым рисунком чистого ума, конечно, есть необходимое условие для существования красоты или прекрасных предметов. Ясно, однако, что один только смысловой рисунок красоты отнюдь еще не вскрывает всей ее глубинной сущности. Ведь взглянувши на любое произведение искусства и просто на любой прекрасный предмет, мы сразу чувствуем внутреннюю жизнь, заключенную в его глубине, в отношении которой эйдетический рисунок является только внешним выражением. В области красоты бурлит своя глубокая жизнь, большая или малая, смотря по значительности прекрасного предмета, но обязательно есть какое-то внутреннее сознание, требующее своего признания также и от нас, созерцающих эту красоту. И эта внутренняя жизнь красоты должна быть настолько сильной и настолько творческой, что она уже не допускает никакой другой оценки и мешает находить красоту только в одних внешних формах вещей. Эта внутренняя жизнь красоты является предображением и всего того, что от этой красоты будет истекать, и всех тех бесконечных прикосновений к ней, которые она не может не обеспечивать.
Плотин пользуется в этом случае старинным греческим термином sophia, что значит "мудрость". Этот термин повсюду встречается в греческой литературе, и в своем месте мы не раз этого касались. Но у Плотина эта софия доведена до терминологической определенности. Она есть тоже ум, но не ум, взятый сам по себе, а в таком своем виде, когда он является принципиальной картиной всех своих инобытийных воплощений. София – идеальна, но вовсе не в смысле совокупности абстрактных понятий, а в смысле умственной картины, наделенной творческими возможностями для своего функционирования вовне. Конечно, анализируя какое-нибудь художественное произведение в настоящее время, мы не говорим о "мудрости" или "премудрости", но мы все же говорим о внутри-жизненном или идейно жизненном содержании картины или музыкального произведения, причем внутреннее содержание это дается внешне, дается воочию, иной раз даже захватывает нас, приводит нас в некоторого рода восторг или восхищение – словом, определенным образом бытийно-жизненно существует и само по себе и как принцип для своего внешнего воплощения, в частности для эстетических переживаний зрителей или слушателей. Ведь говорим же мы даже еще и теперь об ином скрипаче, что он играет с душой. Вот эту творчески-материальную, но в основе своей все же остающуюся идеально-мыслимой и вполне внутренней, и умственную, или, точнее, сказать, смысловую область Плотин и именует термином "софия".
Если в VI 1, 12, 46-53 Плотин противопоставляет внешнее и внутреннее или, как он говорит, "здесь" и "там", то и для софии он тоже требует такого противопоставления; и, конечно, "тамошняя" софия важнее "здешней", потому что является для нее принципом и смысловым заданием. В I 3, 6, 12-14 Плотин прямо ставит софию и диалектику на одном уровне, требуя для того и другого высших и предельных обобщений, а не сводя их только на что-нибудь единичное или случайное. В другом месте у Плотина (V 1, 4, 5-9) мы читаем, что человек, обратившись от здешнего мира "к самому первообразу (archetypon) этого мира, миру истинно-сущему", увидит умные сущности, обладающие своим собственным внутренним сознанием и вечной жизнью. Он увидит также и Ум, царствующий над всеми ними, и ровно ни с чем не смешанный, и увидит далее "непреодолимую мудрость". В этом тексте перечислены все главные свойства софии: она есть идеальный и вечный архетип всего сущего, обладающий собственным самознанием и непреодолимо царствующий над всем. Прибавим к этому также и то, что в своей конструированной таким образом софии Плотин находит также и принцип подлинного блаженства, поскольку заданность и фактическая созданность совпали в ней, вызывая удивление и восторг (I 4, 9, 16-23; I 4, 15, 1-6).
Второстепенными текстами необходимо считать упоминания о софии в связи с критикой гностических учений (II 9, 8, 36-38; II 9, 10, 19-23), а также и явную замену термина "софия" другим термином, близким к этому, "мышление" или, вернее, "практическое" мышление – phronёsis (IV 4, 10; IV 4, 12), практическое, конечно, не во внешнем смысле, а в сфере самого же ума, поскольку софия, по Плотину, есть, попросту говоря, умная же существенность ума в самом себе. Сюда же относятся у Плотина и другие слова того же корня – phronimos "разумный" (I 5, 10, 14) и phronёsai "быть разумным" (I 5, 10, 22-23). Однажды термин "софия" употребляется у Плотина в ироническом смысле относительно людей, предающихся чувственной жизни, внешним успехам и смышлености (V 9, 1, 7). Наконец, в систематической форме свое учение о софии Плотин излагает в V 8. Перевод и анализ соответствующих текстов – ниже. Там мы прямо увидим, что Плотин именует Софию умным изваянием, а представителями этой софии считает богов.
5. Миф
В порядке дальнейшей конкретизации эстетического бытия а именно в порядке предельно ясной его выраженности, мы наталкиваемся на одну огромную проблему у Плотина, именно на проблему мифа. Плотин и здесь не преследует никаких целей систематического изложения, поскольку его собственная философская система только и сводится к общеизвестному учению о трех первичных ипостасях. Тем не менее существует множество разных оснований, не говоря уже о множестве плотиновских текстов, чтобы выдвинуть это понятие мифа на первый план наряду с логосом, эйдосом и Софией. И с нашей точки зрения, Плотин в весьма доступной форме мыслит себе переход от софии к мифу. Ведь софия у него, как мы сейчас видели, – это есть совпадение идеально-смыслового с материально-фактическим, то есть особого рода идеальная субстанция. Идея, вместо того чтобы быть отвлеченным понятием и дискурсивно-логическим определением, вбирает в себя все свои возможные материальные воплощения и отождествляется с ними, пребывая в своей собственной идеальной области. Поэтому мы и говорили, что софия есть тот же самый неоплатонический Ум, но только обращенный ко всякому окружающему ему инобытию и содержащий его в себе, то есть являющийся его идеальной субстанцией, которая выступает в виде того, что может возникнуть вне Ума. Если так понимать софию, то ясно, что она является не чем иным, как только общим понятием для всех своих видовых проявлений, которые и суть отдельные божества.
Каждый бог является у Плотина, таким образом, предельной, то есть максимально общей идеей для того или иного участка или для той или иной области космической жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мифология является у Плотина завершением ноологии, то есть учения об Уме, как равно нет ничего удивительного и в том, что миф не подвергается у Плотина специальному и систематическому исследованию. Ведь ему и без того ясно, что ноология, которая увенчивается софиологией, есть не что иное, как та же самая мифология.
Между прочим, для Плотина весьма характерно, что в своих изложениях греческой мифологии он совсем не пользуется термином "миф". Мифологическая атмосфера настолько близка Плотину и настолько для него необходима, что он даже и не пользуется термином "миф", подобно тому как мы все время дышим воздухом, совершенно не зная, что такое воздух вообще (это знают только химики), и даже почти не употребляем этого термина, а если и употребляем, то только в бытовом и научно мало значащем смысле. Так, излагая вслед за Плотином (R. Р. X 614 b – 621 b) миф о судьбе душ, как, например, об их падении с неба на землю и об их обратном возвращении, о предызбрании ими своей последующей судьбы, Плотин в IV 8, 4 – этому посвящен почти весь трактат – ни разу не употребляет слово "миф", равно как и в другом подобном же рассказе на эту тему (IV 3, 9, 1-12). В рассказе о Пандоре слово "миф" употребляется (IV 3, 14, 5); употребляется этот термин также и в рассказах о Нарциссе, который любовался своим отражением в воде (I 6, 8, 11), об Одиссее и Калипсо (I 6, 8, 16-20 как продолжение мифа о Нарциссе) и о наличии Эроса "в картинах и мифах" (VI 9, 9, 25-26). Вполне отчетливо фигурирует термин "миф" в указанном у нас ниже тексте III 5, 9, 24-29.
Само собой разумеется, что в периоды рационалистической метафизики, то ли спиритуалистической, то ли материалистической, в Новое время в Европе вообще не обращали никакого внимания на мифологические концепции античного неоплатонизма, расценивая их как ничтожные детские сказки или как бредовые мистически-заумные идеи. Однако необходимо сказать, что в настоящее время даже и в этом отношении в науке произошел коренной переворот как в классической филологии, так и в истории античной философии. Мифологию у неоплатоников понимают теперь не как случайное и притом бредовое явление, но как необходимое следствие всей теоретической философии неоплатоников. Кроме того, неоплатоническая теория мифа оказалась настолько коренным образом связана со всей предыдущей античной философией, что бредовое ее понимание грозит превратить в бред также и всю античную философию. Если в настоящей главе мы хотим дать некоторого рода обзор основных неоплатонических интуиции, лежащих в основе эстетики неоплатонизма, то миновать диалектики мифа у неоплатоников нам никак нельзя.
В наиболее полной форме теория мифа анализируется у Плотина в трактате III 5 (см. ниже). Но сейчас нам хотелось бы привести два-три примера из того, как трактуется неоплатоническая мифология у современных исследователей. а) Известный швейцарский филолог В.Тейлер{211} указывает в своей статье сочинения Платона, которые оказали наибольшее влияние на философию неоплатонизма. С точки зрения этого исследователя, возможно, наиболее глубоким образом определила содержание неоплатонической мысли "эзотерическая" речь Платона "О благе", которая не сохранилась в полном виде, а известна лишь во фрагментах. Г. Кремер{212} находит возможным даже говорить в связи с этим сочинением Платона о возникновении "метафизики духа". Согласно Кремеру, развернутая в речи "О благе" структура мира, слегка видоизмененная Спевсиппом, Ксенократом и Аристотелем, по прошествии "мертвой эпохи" эллинизма определила весь неоплатонизм. Как известно, в речи "О благе" у Платона намечается "демоническая" попытка свести все первоначала мира к Единому и к Неопределенной двоице.
Однако, сколь ни близка тенденция, обозначившаяся в этой речи Платона, к дальнейшему направлению развития философии к "духовности", умосозерцанию и умозрению, однако реально неоплатоники и читали и использовали в своих сочинениях не трактат "О благе", а диалоги. На первом месте здесь стоит платоновский "Тимей". "Федр" занимает второе место по частоте цитирования (как мы видели выше, В.Тейлер допускает здесь неточность). Третье место принадлежит, по Тейлеру, "Пиру" (и это тоже неточно). При этом у Плотина толкование "Федра" часто переплетается с толкованием "Пира"; и прежде всего его внимание сосредоточено на речи Диотимы.
В своем рассказе о рождении Эроса Диотима символически выражает непостижимую сущность человека, который в вечном беспокойстве стремится к внутреннему совершенству и никогда не достигает его. При этом единственный способ добиться длительного обладания прекрасным – порождение, будь то порождение материальных себе подобных существ или порождение возвышенных мыслей.
Когда Плотин начинает излагать речь Диотимы, то у него исчезает весь воспитательно-политический пафос Платона, воспевающего любовную связь между наставником и учеником и процветающую на этой основе добродетель, Для направленной вовнутрь этики Плотина и для его "монологического" мира{213} общественные и политические интересы перестали существовать. Какие же моменты речи Диотимы были развиты неоплатоническим философом?
Прежде всего это рассказ о рождении Эроса. Плотин в образе Пении представляет материю (I 3, 16; II 4, 16, 21). Материя-Пения лишена блага и красоты, она есть отрицание всех ценностей. Наоборот, в умном мире нет ни нужды, ни трудностей (VI 7, 12, 22). Согласно толкованию Плотина, Порос, с которым сочетается материя-Пения, это не истинное бытие и не самодовлеющий ум, или идея, а некая второстепенная устроенность, некая "мудрость образа", неустойчивый временный эйдос.
У Порфирия, как можно видеть из комментария Симплиция на аристотелевскую "Физику" (Simplic. In phys. 231, 10 слл. Diels.), Пения также приравнивается к космической материи. Известно также, что Порфирием был написан трактат "Об Эросе в "Пире". Однако от этого трактата ничего не сохранилось. Можно лишь предполагать, пишет В.Тейлер{214}, что Порфирий возвращается к трактату своего учителя Плотина (III 5), где тот анализирует миф об Эросе.
Помимо детально разработанной легенды о рождении Эроса Плотин неоднократно привлекает последнюю часть речи Диотимы. Как и у Платона, здесь в ряду восхождений к добродетели на высшем месте стоит "доброе и прекрасное", или "прекрасное добро". Как и у Платона, восхваляется стремление к живому и любовному общению с благом, с божеством. Однако если в платоновском "Пире" добродетель мудреца направлена прежде всего на воспитание любимого, то у Плотина, как уже упоминалось, цель всех стремлений сосредоточивается на "изваянии" (agalma) души, которому надлежит придать правильный облик (tektainein). Лишь прекрасная душа, по Плотину, способна увидеть первую красоту. В.Тейлер считает даже, что ввиду этой сосредоточенности неоплатонического философа на внутренней красоте место нравственности остается несколько неясным{215}.
В другом месте.(IV 7, 10, 42) Плотин, по В.Тейлеру, подчеркивает все ту же мысль: душа должна искать порядка и справедливости не вовне, а в созерцании самой себя, воздвигая в самой себе как бы изваяния богов (ср. Conv. 216 е).
Насколько свободно Плотин относится к букве платоновского учения, показывает, например, то, что перечисление ступеней, проходимых влюбленным, не соответствует тому, которое дается у Платона в конце речи Диотимы (V 9, 1, 21).
Мотивы внутреннего очищения души, к которому и сводится у Плотина весь нравственный долг, повторяются у него неоднократно. Воля к созерцанию есть залог успешного восхождения к Единому (VI 9, 3, 20. 29). Сохранив в себе частицу уродства, человек неспособен обрести прекрасное (V 8, 2, 37). Вместо того чтобы презирать мир, гностикам следовало бы заботиться о постепенном восхождении тела к богу (II 9, 17, 23). Лишь очищение и добродетель, понимаемая как внутреннее приуготовление, приводят к соединению созерцающего с созерцаемым, когда уже без всякого водителя, поднятый духовной волной, созерцатель внезапно начинает видеть свет первоединства (VI 7, 36, 5).
В этом трактате VI 7 Эрос выступает как стремление души к Единому и к высшей красоте, в которой сама душа наполняется жизнью. В высшей заостренности этого стремления любящий начинает понимать то в любимом, что не имеет никакой формы; неопределенное, бесконечное становится целью влечения, и тем самым любовь становится безмерной, не будучи направлена ни на что ограниченное. Созерцающий в неком опьянении (VI 7, 35, 24) возвышается над рассудком и разумом. Душа любит здесь уже не Ум, а самого бога, абсолютное Единство, которое настолько превышает всякое определение, что, будучи любимым, есть в то же время и сама любовь (VI 8, 15, 1). По мнению В.Тейлера, любовная связь души с любимым выражена иногда у Плотина даже сильнее, чем в платоновском "Пире" (212 а){216}.
Это учение о восхождении души к богу, и характеристика этапов этого восхождения в том виде, как оно дано у Плотина, было усвоено позднейшими христианскими писателями, что, согласно В.Тейлеру, бесспорно засвидетельствовано даже текстуальными совпадениями{217}. Правда, Тейлер затрудняется ответить на вопрос, является ли сходство трактата Григория Нисского De virginitate, особенно в гл. 10 и 11, результатом знакомства Григория Нисского с текстом Плотина или же как Плотин, так и Григорий Нисский (через Оригена) зависят от раннего неоплатоника Аммония Саккаса.
Нам представляется изложенная сейчас работа В.Тейлера весьма плодотворной. Особенно мы считаем важным объединение мифологических образов с весьма напряженной внутренней и чисто духовной деятельностью философа. Миф – не произвольная сказка неизвестно о чем. Это – только необходимый вывод из философских теорий Плотина и из обрисованной у него чрезвычайно напряженной жизни человеческого духа.
Следующий автор, которого мы считаем полезным здесь изложить, уже конкретно рассматривает плотиновские мифы как результат предельно философских обобщений у мыслителя, и притом с указанием также и известного рода непоследовательности в логической интерпретации мифологии у Плотина.
б) О Плотине часто утверждают, что он слишком склонен к апофатике, чтобы заниматься аллегориями. Высшее бытие у него непознаваемо. Это бытие нельзя назвать никаким именем. В лучшем случае его нужно называть "Единым". Всякое человеческое слово, согласно Плотину, может быть лишь "направлено" в сторону непознаваемого (VI 9, 4), и оно выполняет свое назначение, когда позволяет в конце концов отказаться от самого же слова.
Подобная "философия невыразимого", говорит Ж.Пепен{218}, необходимо должна была прибегнуть к языку уподоблений, к символам. Неисчерпаемым запасом символической выразительности и явилась для Плотина классическая мифология.
Плотин сознает ограниченность символического языка, который по определению неадекватен истине. В особенности необходимость последовательного изображения событий отличает мифологический рассказ от действительного положения дела. Так, Платон в "Тимее", подчиняясь внутренней логике мифа, говорит о рождении существ, которые в действительности, согласно Плотину, никогда не рождались; и Платон раздельно описывает сущности, которые в действительности могут существовать лишь вместе (III 5, 9, 26-28). Но, с другой стороны, эта особенность мифа весьма удобна "для обучения и для разъяснения мысли". Например, хотя вселенная никогда и не была без души и хотя никогда не было беспорядочной материи, однако, разделив "в слове и в рассудке" эти слитные моменты, можно с большой легкостью обрисовать целое (IV 3, 9, 14-20). Для этого надо лишь, освободившись от условностей мифологической формы, вновь соединить разрозненные в мифе моменты (III 5, 9, 28-29).
Древние создавали храмы и статуи для того, чтобы привлечь божества к своим изображениям. Точно так же, по мнению Плотина, миметическое изображение действительности в мифе хранит в себе некую природную "симпатию" (prospathes), связывающую ее с прообразом. Символ есть как бы зеркало, охватывающее видимость вещи (IV 3, 11, 6-8).
Мифологический символ всегда остается всего лишь образом действительности, и поэтому в конечном итоге он должен быть оставлен, подобно тому как молящийся, войдя внутрь святилища, оставляет позади себя статуи, стоящие у входа (VI 9, 11, 17-19). Миф преодолевается в своей интерпретации. В своем толковании мифы "намекают" наиболее мудрым "пророкам" на истинный образ бога, подобно тому как жрец понимает загадку, скрытую в божественном изображении. В особенности если сам человек становится единым, он становится подобием (homoioma) Единого; и, как образ Единого (eicon), он, отправляясь от самого себя, восходит к архетипу (VI 9, 11, 25-30).
Ж.Пепен подробно разбирает миф о рождении Эроса у Плотина.
Плотин не усматривает в мифологии какой-то "тайной философии". Подобно Платону, он заимствует мифологические образы для развития своей собственной мысли. Часто Плотин просто перенимает у Платона такие мифы, как рассказ о падении души, об ее смешении в кратере и другие (IV 8, 4, 35-38; ср. Tim. 41 d; VI 9, 9, 28-30; ср. Conv. 180 de).
Но с особой детальностью, и притом не один раз, Плотин развертывает миф о рождении Эроса. Во II "Эннеаде" этот миф, заимствованный из "Пира" Платона, истолковывается просто и прямолинейно. Бедность (Пения), олицетворение материи, беспокойной, ищущей, назойливой, но вечно обманутой, вступает в брак с Богатством (Поросом), под которым Плотин понимает одно из отдаленных подобий Первоначала, и от этого брака появляется Эрос, означающий тело мира, – но не его душу, потому что душа мира – бог (II 3, 9, 43-47).
В III "Эннеаде", в трактате "О любви", Плотин дает уже другую трактовку этого же мифа об Эросе. Философ начинает с перечисления имеющихся у самого Платона вариантов мифа; в "Федре" (242 d) Эрос оказывается сыном Афродиты, а в "Пире" (203 е) он – дитя Пороса и Пении, а также и Афродиты. Дело в том, разъясняет Плотин, что существуют две Афродиты. Афродита Небесная, дочь Неба, или Кроноса (то есть Ума), – это чистая, без примеси материи душа, которая рождает Эроса, не отделяясь от родителя-отца, так что Эрос есть воплощение созерцания умом самого себя. Отсюда и этимологическое сближение Эроса с horasis, "созерцанием" (III 5, 3, 15). Но существует и другая Афродита, дочь Зевса и Дионы. Она олицетворяет душу чувственного мира. Эта Афродита тоже рожает Эроса, как свое собственное созерцание. Находясь внутри мира, второй Эрос правит земными браками и помогает одаренным душам вспомнить об умном мире (III 5, 3, 30-38).
Плотин распространяет этот миф еще дальше. Всякая индивидуальная душа, даже душа животного, говорит он, – это Афродита; и всякая Афродита рождает своего Эроса сообразно своей природе и своим заслугам, в той мере, в какой она склоняется к благу.
Из трех Эросов лишь первый – бог, остальные – демоны (III 5).
Плотин еще раз возвращается к мифу об Эросе в VI "Эннеаде", в трактате "О благе и Едином" (VI 9). Здесь Психея, то есть душа, влюбляется в Эроса; а это значит, что любовь к Единому Благу соприродна душе (VI 9, 9, 24-25). Происходя от Единого, душа любит его – любит небесной любовью, если она не отпала от него, или любит вульгарной "любовью" толпы, если она от него отпала (VI 9, 9, 29-30). Здесь Эрос уже не сын Афродиты. Он рождается одновременно с нею, являясь устремлением к благу, неотделимым от души, и он рожден от души постольку, поскольку душа лишена блага и стремится к нему (III 5, 9, 45-48).
Разная разработка мифа об Эросе позволяет Ж.Пепену реконструировать плотиновскую теорию аллегории{219} и проиллюстрировать концепцию мифа, представленную в III "Эннеаде" (III 5, 9). В самом деле, легенды об Афродите и Эросе, повинуясь логике последовательного рассказа, разрывают во времени изображаемые ими действия, которые одновременны, или, лучше сказать, вневременны. Ведь неопределенное состояние души, движение смыслов из мирового Ума в душу, обращение души к уму представляют собой одновременные явления.
Плотиновской аллегории, замечает Пепен, не хватает строгости и непрерывности; между персонажами мифа и элементами его значения нет строгого однозначного соответствия, какое было обязательным у стоических экзегетов. Каждый персонаж мифа у Плотина выражает сразу несколько философских реальностей. Так, Пения у него одновременно и материя, и неопределенная душа; Афродита – и ипостасная душа, и душа мира, и индивидуальная душа. С другой стороны, у одного понятия есть несколько мифологических воплощений. Так, Ум, отец Души, представлен Кроносом, а также Ураном и Зевсом: Душа – Афродита, но также Психея, Гера, Пения и т.д.
Ж.Пепен{220} отмечает и еще одну характерную черту Плотина. Излагая мифы Гомера или Гесиода, он никогда не выступает в качестве истолкователя "Илиады" или "Теогонии", а ведет себя так, как если бы эти мифы были всеобщим достоянием. Правда, эти гомеровские или гесиодовские мифы к Плотину попадают, как правило, через посредство Платона. Но иногда Плотин обходится и без посредника. Например, желая показать, что память принадлежит лишь одной душе, а движущаяся и текучая природа тела лишь препятствует ей, Плотин привлекает символ Леты, реки забвения, независимо от Платона (IV 3, 26, 54-55): Лета – это как бы течение природных телесных процессов, уносящих память. Чтобы образно описать влияние звезд на человеческую судьбу (согласно Плотину, это влияние никогда не абсолютно), философ привлекает миф о трех мойрах: Клото, Лахесис и Атропос (II 3, 15, 9-12). Единое у Плотина представлено в образе Аполлона, в этимологии имени которого Плотин усматривает "отрицание множества" (apophasis ton pollon, V 5, 6,27-28).
Иногда Плотин вступает в спор с распространенными символическими представлениями. Так, он не находит возможным изображать материю в образе матери: ведь мать принимает активное участие в развитии нового существа, тогда как материя, согласно Плотину, это чистая пассивность и полное бесплодие, материя сама по себе никогда не может ничего произвести (III 6, 19, 1-25). Ведь даже евнухи, сопровождающие бесплодную мать-Кибелу (символ материи), лишний раз показывают полную неспособность материи что бы то ни было породить (III 6, 9, 25-41).
В одной из глав трактата "О прекрасном" (I 6, 8) Плотин выводит целую последовательность мифологических образов и символов. Гоняться за мирской и телесной красотой, согласно Плотину, – это все равно что опуститься в Аид, это значит уподобиться Нарциссу (I 6, 9, 8. 10-12), это значит забыть о странствиях и блужданиях Одиссея (I 6, 8, 17-20).
В ряде случаев, указывает Пепен{221}, философ с большой свободой относится к преданию. Например, история Прометея и Пандоры получает у него столь необычное толкование, что в ней уже никак нельзя узнать старый гесиодовский миф (I 6, 8, 6-21). Согласно Плотину, Прометей сам сотворяет тело Пандоры; появление Пандоры среди людей означает приход души в чувственный мир. Дары богов означают те блага, которые душа получает от Ума, когда оставляет его. Прометей предлагает Пандоре отказаться от даров, то есть – согласно Плотину – предпочесть чистый Ум его произведениям. Но сам Прометей прикован Зевсом к скале, потому что, говорит Плотин, он слишком связан внешними связями со своим созданием, Пандорой (IV 3, 14, 1-17).
Наиболее развитой мифологической темой в "Эннеадах" Ж.Пепен считает генеалогию трех великих богов гесиодовской теогонии, Урана, Кроноса и Зевса, в которых Плотин видит воплощения трех первосущностей{222}. А именно – Уран представляет Единое, Кронос отождествляется с Умом. Поскольку Ум происходит от Единого, он в свою очередь порождает умные сущности. Однако все множество порожденных Умом сущностей им же и поглощается. Почему? Потому, что Ум боится, как бы они не попали в материю и не выросли в ее потоке. "Таинства и мифы о богах намекают (ainittontai), – пишет Плотин, – что Кронос, порождая прекрасных детей, слишком любит их, чтобы отпускать их от себя. Из любви к своим детям он и оставляет их всех при себе, ликуя от созерцания их великолепия и своего собственного великолепия" (V 8, 12, 3-7). Таким образом, вместо чудовищной ревности Кронос исполнен у Плотина безграничной любовью и стремлением к полноте совершенства. В подтверждение привлекается и этимология: Cronos – это coros noy, "насыщение ума" (V 1, 4, 9-10). Если Зевс связывает Кроноса, то это значит, что Ум навсегда прикован к своей умной области, и даже, согласно Плотину, сам не хочет выходить из нее. А то обстоятельство, что Кронос лишает производящей силы своего отца Урана, символизирует у Плотина совершенное самодовление Единого и его отделенность от Ума, которому Единое препоручило порождения (V 8, 13, 1-11).
Если, далее, благодаря хитрости Реи одно из порождений Кроноса, Зевс, избегает участи остальных, – то это значит, что Ум, вполне насыщенный умопостижимым как своим питанием, производит Душу, как бы младшее дитя, которое должно перенести во внешний мир образ своего отца, тогда как все его братья остаются с отцом.
Зевс представляет собою Мировую Душу. И, храня память о своем отце и деде, Зевс-Душа, родитель индивидуальных душ, проникнувшись жалостью к ним, усталым от земного существования, иногда позволяет им вернуться в умопостигаемую область (IV 3, 12, 6-19).
Будучи жизнью мира (и здесь опять на помощь Плотину приходит старое этимологическое сближение Зевса с жизнью, dzoe), Зевс не обязан дискурсивным образом рассчитывать и помнить свои планы. Он принимает единый образ мирового устроения от Ума, подобием которого Сам является (IV 4, 10, 4-29).
В этой переработке гесиодовского мифа особенно ясно видно, с какой непринужденностью Плотин приписывает мифологическим образам многозначность, не характерную для типичных эллинистических толкователей Гомера и Гесиода.
Здесь мы, однако, должны самым резким образом разойтись с исследованием Ж.Пепена, которое считаем вообще весьма ценным и которым стараемся всячески воспользоваться. Дело в том, что Ж.Пепен, как почти и все исследователи Плотина, ни капли не учитывает того, что мы выше назвали понятийно-диффузным, или текуче-сущностным стилем Плотина. Этот стиль, как мы говорили, заключается именно в постоянном перекрывании одного понятия другим или одного образа или символа другими образами или символами. Это ни в каком случае нельзя считать ни каким-нибудь недостатком писательской манеры Плотина, ни какой-нибудь путаницей. Это есть только результат того, что всякая сущность у него берется не только сама по себе, но почти всегда еще и в своем совпадении с явлением, то есть с проявлением сущности. О противоречиях, о натяжках, о произвольных искажениях или о какой-нибудь неосведомленности здесь не может идти никакого разговора. Это попросту тот самый принцип "все во всем", который не только часто проповедовался разными философами всех времен и народов, но который составляет существенную особенность еще и первобытного мышления. Созерцая все во всем, будет только естественно одно и то же толковать как разное и одному и тому же приписывать противоречащие свойства, но особенно свободно обращаться именно с мифами, которые из всех трактуемых у Плотина структур являются как раз наиболее синтетическими и наиболее в смысловом отношении насыщенными. Поэтому мы не будем вместе с Ж.Пепеном толковать формально-логические противоречия в мифологии Плотина как нечто недоработанное, невнимательное и случайное. Наоборот, так оно и должно быть, особенно если мы вспомним сказанное у нас выше об эйдетически-меональном и диалектически-иерархическом стиле Плотина.








