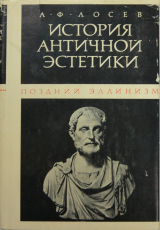
Текст книги "Поздний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 76 страниц)
Плотин существенно перерабатывает рационалистический подход Аристотеля, в результате чего в основу плотиновского учения о Едином ложится идея "мистического единения". Армстронг считает два признака этого мистического единения важнейшими для Плотина: это, во-первых, принцип простоты, или непосредственно-монументального единения, и, во-вторых, принцип трансцендентности, который легко спутать с простотой. Эти принципы служат у Плотина заменой рационального подхода.
д) Все приведенные выше материалы из Плотина, как наши собственные, так и те, которые приводит Армстронг, безусловно свидетельствуют об одном. Именно, нужно считать совершенно ложным обычное сведение плотиновского Единого только на философию Платона. То, что в центре здесь именно Платон, а не кто-нибудь другой, это совершенно ясно и не требует никакого доказательства. Однако в концепцию Единого у Плотина вошли не только платоновские материалы, а еще очень многое другое. И прежде всего сюда вошел Аристотель, не говоря уже о том, что в Древней Академии уже шли горячие споры об Едином, и это Единое признавалось отнюдь не всеми непосредственными учениками Платона. Говоря конкретнее, основная негативная характеристика плотиновского Единого несомненно совмещалась у Плотина с огромным количеством разного рода позитивных элементов. Это не было у него какой-нибудь холодной и рассудочной абстракцией. К своему Единому Плотин относился с очень большой непосредственностью, интимностью и даже любовью, и следы этого Единого Плотин находил решительно во всем. Единое для Плотина не просто абстрактная категория, да и вообще не категория. Это предмет страстной любви Плотина и принцип решительно всего существующего на свете. Тут-то и сближалась мысль Плотина с Аристотелем, который, несмотря на всю абстрактность своего мышления и несмотря на весь свой антагонизм с Платоном, все же находил в мире некое единство, осмысливающее, организующее и любовно охраняющее всякую даже малую сущность, не говоря уже о сущностях космического порядка.
Итак, Единое у Плотина ни в каком случае не является только платоновским единым. В крайнем случае это – платоно-аристотелевское Единое, к тому же разработанное и углубленное последующими платониками, по времени более близкими к Плотину, чем Платон, от которого отделяло Плотина почти семь столетий.
Очень интересна та критика Аристотеля, которую сам Плотин формулирует весьма ярко. Прежде всего Плотин, конечно, признает то, что основание бытия у Аристотеля – сверхчувственное. Но тут же он остроумно замечает, что если это есть самосознающий ум, то уже это самосознание ума лишает его первенства, поскольку у Плотина первое бытие, которое выше всего, должно быть и выше сознания (V 1, 9, 7-9). Далее, Плотин упрекает Аристотеля за то, что у него не один, а много принципов, в результате чего каждая небесная сфера имеет своего двигателя (VI 9, 9-11).
Однако Плотин здесь едва ли прав. Ведь сколько бы принципов движения Аристотель ни признавал, все-таки он признает и единственного двигателя, это именно то, что он называет умом и что он сам как раз квалифицирует как "перводвигатель". Плотин совершенно не прав, считая, что и в чувственном и в умопостигаемом космосе, по Аристотелю, существует множество двигателей, движущих бытие каждый по-своему, так что все бытие лишается разумного плана; и получается, что Аристотель – это проповедник какого-то всеобщего хаоса. Что ни звезда, то свой двигатель, и что ни какой-нибудь двигатель, будь то хотя бы и сама земля, он опять-таки ничему не подчиняется. И если что-нибудь осуществляет какую-нибудь правильность, то это значит, что Аристотель, по Плотину, признает только случайное совпадение, а не закономерность (V 1, 9, 12-23). Получается, думает Плотин, что Аристотель не нарушает небесной гармонии, что все его двигатели только телесные, но что на самом деле не существует такой материи, которая разделяла бы эти двигатели (V 1, 9, 24-26). На самом же деле всякому, кто изучал Аристотеля, ясно, что его перводвигатель, как ум, и является принципом космической гармонии и даже содержит в себе свою собственную, уже интеллигибельную материю. В этой критике Аристотеля Плотин слишком увлекся.
2. Числа
Оставляя сферу Единого и переходя к следующей области бытия, Плотин сталкивается с миром чисел. Этим числам Плотин придает огромное принципиальное значение и посвящает им целый трактат, который так и называется "О числах" (VI 6). Эти числа, занимая среднее положение между Единым и Умом, являются как бы структурой самого Ума. В них еще нет ноэтической качественности, с появлением которой Плотин уже приходит к самому Уму. Тем не менее мир чисел для него – это вполне божественный мир и, конечно, даже гораздо более высокий, чем те боги, которые зарождаются в сфере Ума. Поскольку этот трактат Плотина в свое время был нами и переведен и проанализирован, сейчас мы вполне можем только отослать читателя к соответствующей нашей работе{103}.
Вопреки этому учению об Едином и об Уме Аристотель имеет свое собственное учение по этим темам, и в этом смысле он не может считаться предшественником Плотина в его учении о числе. Числа трактуются у Аристотеля достаточно позитивно, а те отклонения в сторону платонизма, которые только с лупой в руках можно находить у Аристотеля, совершенно прошли мимо внимания Плотина. Можно сказать (ИАЭ IV, с. 218-220), что Аристотель почти исключительно оперирует только именованными числами, так как для него важны вовсе не отвлеченные понятия или числа, а только вещи, но это является полной противоположностью того, что мы имеем у Плотина. Поэтому не удивительно, что вместо издевательств Аристотеля над пифагорейцами (Arist. Met. XIV 6, 1093 а 1-13) Плотин буквально преклоняется перед числами, считает их богами и посвящает им целые трактаты. Для Плотина это только естественно, и тут Аристотелем и не пахнет. Критике пифагорейского учения о числах вместе с платоническим учением об идеях Аристотель посвящает почти целиком XIII и XIV книги своей "Метафизики" (критика пифагорейского учения о числах особенно в XIII 6-9 и XIV 3-6). Кроме того, мы все-таки должны, сказать исключительно ради историко-философской точности, что и Аристотелю совсем не чуждо учение о числовой структуре художественной предметности (ИАЭ IV с. 702-704). Прочитаем такой текст из Аристотеля (Met. XIII 3, 1078 а 31 – b 6):
"Так как затем благое и прекрасное это – не то же самое (первое всегда выражено в действиях, между тем прекрасное бывает и в вещах неподвижных), поэтому те, по словам которых математические науки ничего не говорят о прекрасном или благом, находятся в заблуждении. На самом деле они говорят о нем и указывают как нельзя более: если они не называют его по имени, но выявляют его результаты и (логические) формулировки, – это не значит, что они не говорят о нем. А самые главные формы прекрасного это – порядок [в пространстве], соразмерность и определенность – математические науки больше всего и показывают именно их. И так как эти стороны, очевидно, играют роль причины во многих случаях (я разумею, скажем, порядок и момент определенности в вещах), отсюда ясно, что указанные науки могут в известном смысле говорить и о причине такого рода – причине в смысле прекрасного. А более явственно мы скажем относительно этого в другом месте".
Из этого можно видеть, что, несмотря на свои позитивистские тенденции, Аристотель даже и в учении о числах играл для Плотина отнюдь не последнюю роль.
3. Ум
Совершенно иначе дело обстоит с учением Аристотеля об Уме.
Удивительным образом Аристотель, этот позитивно настроенный идеалист, а иной раз даже и прямо материалист, создал такое глубокое и проникновенное учение об Уме, что можно прямо говорить о зависимости Плотина в этой области именно от Аристотеля. Ведь нужно иметь в виду, что в некоторых местах Аристотель прямо отрицает существование идей и чисел и уж тем более не представляет себе Ума составленным из идей и чисел. Об этом – яркие страницы в Met. XIII 5-7, как и вообще в кн. XIII-XIV "Метафизики". Конечно, у Аристотеля здесь беспримерная путаница: идеи вещей не существуют вне самих вещей, но зато, говорит Аристотель, они существуют в самих вещах; и двигателей существует столько же, сколько мировых сфер (Met. XII 5-6), а, с другой стороны, у всего бытия должно быть только одно общее начало, вечное и неподвижное (XII 5, 1071 а 29-1071 b 2). Тут у Плотина совершенно нет никакого соприкосновения с Аристотелем. Находя в Уме совпадение мыслящего и мыслимого или владение мыслящего мыслимым, Аристотель выводит из этого единое, вечное и блаженное существование божественного Ума. Аристотель пишет: "Ибо разум имеет способность принимать в себя предмет своей мысли и сущность, а действует он, обладая ими, так что то, что в нем, как кажется, есть божественного, это скорее самое обладание, нежели одна способность к нему, и умозаключение есть то, что приятнее всего и всего лучше. Если поэтому так хорошо, как нам – иногда, богу – всегда, то это – изумительно; если же – лучше, то еще изумительнее. А с ним именно так и есть, И жизнь без сомнения присуща ему: ибо деятельность разума есть жизнь, а он есть именно деятельность: и деятельность его, как она есть сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь. Мы утверждаем поэтому, что, бог есть живое существо, вечное, наилучшее, так что жизнь и существование непрерывное и вечное есть достояние его; ибо вот что такое есть бог" (XII 7, 1072 b 13-30). Если заранее не знать автора этих слов, то совершенно нельзя будет решить, принадлежат ли эти слова Плотину или Аристотелю.
Напомним, однако, что у Аристотеля дело вовсе не обстоит так просто, чтобы давалась теория Ума, чтобы этот Ум двигал миром, и больше ничего. Можно спросить, что же это за Ум, в котором нет никаких идей, и что же он мыслит, и как он мыслит, если идей вообще не существует? И почему он объявлен у Аристотеля умопостигаемым, а не чувственным, и как он может двигать миром, если в нем ровно ничего нет? Да и еще, видите ли, мы должны такой божественный ум считать блаженным. Тут у Плотина нет ровно никакого соприкосновения с Аристотелем, потому что плотиновский Ум состоит из идей, или эйдосов, и он представляет собою такую полноту жизни, которая действительно может быть основанием для блаженства. Вероятно, здесь у Аристотеля действовал только его чрезмерный антагонизм с Платоном, потому что сам же Аристотель считает Ум "местом эйдосов" (De an. III 4, 429 а 27-29) и даже "эйдосом эйдосов" (De an. III 8, 432 а 2). Тут у Аристотеля просто самая элементарная путаница, и связывать учение Плотина об Уме с таким же учением Аристотеля, не производя при этом никакого историко-философского анализа, просто невозможно.
Вместе с тем, однако, мы должны сказать, что филологическое отчетливое изучение текстов об Уме у Плотина свидетельствует о необычайной пестроте взглядов философа на этот предмет. В конце концов, все определяется той понятийно-диффузной характеристикой философии и эстетики Плотина, которую мы дали выше. Тем не менее разнобой многочисленных высказываний Плотина об Уме все же требует своей точной формулировки, и эту формулировку мы предпочитаем сделать по тому самому А.Армстронгу, которого мы уже использовали выше по другому поводу.
По мнению Армстронга{104}, Ум Плотина – вещь гораздо более сложная и важная, чем "второй ум" или "второй бог" Нумения (frg. 11, 13-14; 15, 1-10; 16, 14-17 Des Plasec) и Альбина (introdustio). Армстронг выделяет шесть основных аспектов, охватываемых понятием ума у Плотина: 1) Ум – это радиация, или поток, исходящий от единого, подобный свету, исходящему от солнца; 2) Ум – это развертываемая потенция Единого, это семя, содержащее потенциально все вещи; 3) Ум – это высшая степень проявления ума как такового, и человеческого и космического, который, прямо созерцая Единое, воспринимает его во множественности; 4) Ум происходит от Единого как потенция, которая актуализуется, возвращаясь к Единому путем созерцания его; 5) Ум – Умный Космос, "Организм вселенной", содержащий прообразы (архетипы) вещей чувственного мира; 6) Ум – это космос взаимопроникающих духовных сущностей, каждая из которых содержит все остальные в органическом единстве созерцания.
В свою очередь эти шесть аспектов сводятся к трем главным сферам, из которых состоит платоновский ум, – это эманация из Единого, Ум в собственном смысле и ум как космос.
Несомненно, подобного рода оттенки учения Плотина об Уме выражены у Плотина достаточно ясно. Но, как нам кажется, в филологическом смысле это различение умственных оттенков можно было бы представить гораздо более подробно и доказательно, чем это делает А.Армстронг. Но, конечно, это наше замечание имеет второстепенное значение. Тут важно только то, на что А.Армстронг, между прочим, не обращает никакого внимания, а именно, что если всерьез поверить Аристотелю о несуществовании общих идей, то ни о каком Уме, собственно говоря, не может быть и речи. Этот Ум был бы не каким-то блаженным божеством, но абсолютно пустым местом, которому нечего и не о чем мыслить и который, если и признать его перводвигателем, совершал бы только механические толчки в направлении космоса, сам не понимая, что это за толчки, и не давая понять этого никому и ничему другому. И что это был бы за бог, и почему он был бы мыслящим, и что именно он мыслил бы, и почему он испытывал бы к тому же еще и какое-то небывалое блаженство? Тут у Плотина совершенно нет никаких точек соприкосновения с учением Аристотеля об Уме, несмотря на явное совпадение обоих мыслителей в этой проблеме, если всерьез отнестись к приведенной у нас выше цитате из Аристотеля о живом и блаженном самомышлении надкосмического и перводвижущего Ума.
Далее, если сравнивать Плотина с Аристотелем, то за проблемой "Ума" тут необходимо рассматривать и проблему эманации. На этот раз необходимо сказать, что и у Плотина эта эманация тоже рассматривается не вполне единообразно. Рассмотрим этот вопрос несколько шире.
Сначала скажем об отношении Плотина к гностикам по вопросу об эманации, чтобы тем самым сделать более ясным и отношение Плотина и Аристотеля. Также необходимо для полной ясности вопроса сопоставить проблему эманации у Плотина и со стоиками, которые впервые в античной философии и заговорили об эманации в собственном смысле слова, а также и с герметической традицией в этом вопросе.
Выясняя, есть ли связь плотиновского учения об эманации с эманацией у гностиков, Армстронг критически относится к сближению Плотина и гностиков, считая, прежде всего, что Плотину чужда плотско-сексуальная тенденция в учении об эманации гностиков. Несмотря на многочисленные метафорические основы (I 6, 1, 13-28; V 3, 12, 39-44; V 5, 8, 5-7; V 6, 4, 14-22; VI 8, 18, 20; VI 9, 9, 6-7 и т.п.), Плотин в своем учении об эманации часто критикует именно метафорический способ изложения (VI 5, 5, 1-10). Но и метафоры (например, солнца и его лучей), и критику этих метафор Армстронг считает той "платой", которую потребовало от Плотина сохранение традиционной органичности и единства античного космоса. Поэтому, исследуя учение об эманации Плотина, необходимо обратиться к истории вопроса об эманации в предшествующей греческой философии,
Первое упоминание об эманации находим у Посидония{105}, но у него, как и вообще у стоиков (см. SVF I frg. 120), взгляд на эманацию всецело материалистический, в то время как у Плотина эманация – свет занимает пограничную позицию между двумя мирами. Поэтому если Посидоний и был одним из источников Плотина, то источником не непосредственным, но переработанным в духе платоновской иерархии мира идей и чувственного мира (II 1, 7, 20-48; IV 5, 6, 7; I 6, 3, 17-19).
Далее, находя внешнюю близость учения Плотина к современной ему герметической традиции (ср. Herrn. XVI Scott.), Армстронг считает, что нет оснований говорить о прямом воздействии герметики на Плотина, вообще постоянно оттесняющего в себе всякое влияние (даже Платона и Аристотеля) из-за сильного напора развития собственного учения. Именно поэтому мы находим у самого Плотина весьма важную, с точки зрения Армстронга, критику своего собственного учения об эманации, хотя критика эта не всегда явная.
Во-первых, когда в трактатах VI 4 и VI 5 Плотин говорит об Уме и об Едином, он практически элиминирует всякую эманацию тем, что Ум у него всецело сливается здесь с Единым (VI 4, 14, 1-14; VI 5, 7, 7-8; VI 5, 12, 7-11).
Во-вторых же, по мнению Армстронга, важным практическим выступлением Плотина против его собственной теории эманации являются те, например, места (VI 4, 3, 1-14; VI 4, 8-9), где говорится о свете, лишенном источника и разрозненном, и о силе, отделенной от своего источника и тем не менее вполне присутствующей в своем раздроблении. Такой возможностью, по мнению исследователя, подрывается самая основа концепции эманации.
Считая своеобразной побочной формой теории эманации взгляд на Единое как на корень или семя (III 3, 7, 14; IV 8, 6, 9; V 9, 6, 10-13), Армстронг тонко чувствует намеченный здесь конфликт плотиновских источников, и именно инверсию аристотелевско-платоновской идеи, согласно которой актуальное предшествует потенциальному (Met. XII 7 1072 b) в эволюционистскую систему типа раннего стоицизма (SVF II 596, 6181, 1027). В IV 8, 5, 1-3 эта инверсия вполне очевидна. Здесь речь идет о способностях (потенциях) души, которые могут проявиться лишь в материальном мире, а до тех пор останутся втуне. Человеческая душа, будучи низкой ступенью бытия, существенно отличается от души космической. Совершенство космической Души заключается в ее максимальном приближении к Уму. Что же касается человеческой души, то ее совершенство достижимо лишь путем материального воплощения, то есть при ее формальном снижении в сравнении с мировой Душой, то есть в ее, наоборот, сближении с материей.
В IV 8, 6 (вся глава) Плотин идет еще дальше, и в том же смысле совершенства и величия материальных воплощений он высказывается в трактате "Против гностиков" (II 9, 3 вся глава).
Поэтому, заключает Армстронг, нельзя сказать, что Плотин говорит об Едином только как о сфере потенциального, а о материальном мире, о мире чувственном – как о сфере актуального. Исследователь хорошо показывает именно то, как живо сотрудничают у Плотина чистый платонизм и чистый стоицизм, измененные лишь в отношении их общей ориентации, то есть взаимосоотнесенные в рамках одного учения.
Мы прибавили бы к этому, что плотиновское Единое одновременно является и энергией и потенцией всего существующего. Это в достаточной мере отличает Плотина и от Платона и от Аристотеля.
У Аристотеля (Met. XII 7, 1072 b 31-35) мы читаем:
"Если кто, напротив, полагает, как это делают пифагорейцы и Спевсипп, что самое прекрасное и лучшее находится не в начале, так как исходные начала растений и животных – это хоть и причины, но красота и законченность – лишь в том, что получается из них, – мнение таких людей нельзя считать правильным. Ведь семя получается от других более ранних существ, обладающих законченностью, и первым является не семя, но законченное существо; так, например, можно было бы сказать, что человек раньше семени – не тот, который возник из данного семени, но другой, от которого – это семя".
Таким образом, ясно, что у Аристотеля именно энергия предшествует потенции, но никак не наоборот.
Совсем другой взгляд на всю эту проблему мы находим у стоиков, которые, исходя из своей теории эволюции, ставят в начале всего именно потенцию, а не энергию, энергия же у них развивается из потенции только впоследствии, в порядке эволюции. Так, мы читаем (SVF III frg. 203 = 49, 11-18), что "потенция есть творческое начало (hё epoisticё) большинства явлений". "В материи существует формообразующая (morphoysa) потенция" (II frg. 308). "Судьба есть движущая (cineticё) потенция материи" (I frg. 44-45). Даже больше того, в одном стоическом фрагменте читаем, что "потенция материи – это бог" (II frg. 308). Таким образом, примат потенции над энергией у стоиков тоже ясен.
Что же делается у Плотина? Можно сказать, что первым началом у него является потенция. Но это такая потенция, которая содержит в себе мощь всего существующего. А раз это так, то первое начало Плотин вполне вправе назвать и энергией. Отсюда и становится ясным все отличие в плотиновском учении о потенции и энергии и от Аристотеля и от стоиков.
Для полной ясности в этой области необходимо штудировать краткий, но весьма ясный и яркий трактат Плотина II 5, который так и называется "О потенции и энергии"{106}. Поскольку для Плотина основным является разделение идеального и материального, постольку и оба эти понятия тоже можно понимать и идеально и материально.
В материальной области сама материя не есть что-нибудь, но может быть чем-нибудь; и поэтому она здесь не потенция в собственном смысле слова, но потенциально данное (to dynamei). Потенцией же в собственном смысле слова материя становится только тогда, когда в ней воплотился какой-нибудь эйдос. В этом смысле, например, медь, взятая сама по себе, не есть ни потенция, ни энергия; но, взятая как материал для статуи, она есть потенциально данная статуя. Для того же, чтобы заговорить о потенции в материальной области, необходимо иметь в виду не материю, но эйдос, который действительно может быть смыслом чего-нибудь и может быть идеей вообще. Поскольку он идея вообще, он тоже не есть ни потенция, ни энергия, или такая потенция, которая существует уже только в умопостигаемости мира, то есть неотделимо от энергии. Что же касается энергии, то ее вовсе не может быть в материальном мире, а в умном мире она является индивидуализированной энергией. В материальном же мире в собственном смысле она вовсе не существует, а существует только постольку, поскольку в материальном мире существует эйдос, погружаясь в нее и получая те или другие уже внеумственные качества и свойства. Таким образом, по Плотину, раньше всего – умопостигаемая энергия, которая неотделимо существует так же и от индивидуального эйдоса. Но эта энергия и этот эйдос могут воплощаться в материи. Тогда они становятся движущим началом, и тогда в них можно различать активность и пассивность: активность – это они сами, а пассивность – это те материальные признаки и свойства, которые они получают при своем воплощении в материи. Другими словами, для Плотина важна не разница между потенцией и энергией, но разница между идеальным и материальным, потому что как потенция, так и энергия могут пониматься как идеальное, и тогда они обе суть действующее начало, так и материально, – тогда к ним примешиваются разные свойства и качества, которые уже не суть ни энергия, ни потенция, но только энергийно данное и потенциально данное.
Взятый в аспекте его умно-космического содержания, Нус Плотина вполне традиционен. Это не что иное, как вторая ипостась Среднего платонизма, для адекватного понимания которой Армстронг считает необходимым исследовать роль "духовной материи" (или умной материи), или неопределенной двоицы Платона в плотиновской системе (см. Plat. Phileb. 23c; Arist. Met. I 6, 987b 20 слл.). По мнению Армстронга, доктрина "умной материи" складывается у Плотина из сочетания неопределенной двоицы с учением Аристотеля о материи как о чистой потенции. Как видно из II 4, 1-5, умная материя формируется вместе и эйдосами и Единым. Таким образом, содержанием Ума является, по Плотину, не Единое, но множественное единство умных сущностей (noeta). Этот существеннейший разрыв преодолевается у Плотина любовью (VI 7, 35, 25-26) Ума к Единому (ср. также VI 7, 11; VI 7, 15). Что же касается отношения Единого к Уму, то, оказывается, Единое и побуждает ум к множительной активности (VI 7, 15, 18-20). Ум в собственном смысле является, по мнению Армстронга, промежуточным звеном между Единым и умными сущностями в узком смысле (см. V 8, 12, 3-9, где говорится о том, что Ум порождает эйдосы).
Это соотношение noys – noёta восходит, по мнению Армстронга, к Аристотелю (см. De an. III 4 429 b – 430 а), но описание умного космоса в целом дается Плотином совершенно в русле платоновского "Тимея" (см. VI 7, 1-13; а также V 1, 4, 7-19).
Наконец, мы должны еще раз подчеркнуть то, что было слишком кратко сказано раньше, а именно о наличии особого рода материи в самом Уме. У Плотина этой умной материи посвящены весьма выразительные главы II 4, 2-5{107}. Не входя в подробности возможного здесь и достаточно трудного анализа, мы формулируем только главную мысль. А именно – Ум Плотина, не будучи понятийной абстракцией, но интуитивной картиной всякого предельно мыслимого предмета, по теории самого Плотина, состоит из "умных изваяний", которые он в другом месте называет просто богами. Но в каждом изваянии, конечно, можно различать материал, из которого оно возникло, и окончательную форму, которую этот материал принял. В чистом уме это различение, конечно, является чисто теоретическим, вполне условным и имеющим разве только какое-нибудь разъяснительное или воспитательное значение, в то время как в чувственном мире деревянные балки и доски, из которых сделан дом, вовсе не есть сам дом, а они могут быть, например, мостом через реку или статуей. Ради этой чисто интуитивной нераздельности материи и формы Плотин и говорит об особой умной материи, которая так резко отличается у него от материи чувственной, так как эта последняя никогда не есть сам материальный предмет, а только отдельно существующий материал предмета. Но тут-то мы и должны сказать, что учение об умной материи перешло к Плотину не откуда-нибудь, а именно от Аристотеля. Излагать этого вопроса здесь мы не станем{108}. Скажем только, что без умной материи невозможна ни метафизика Аристотеля, ни диалектика Плотина. И, между прочим, это учение отсутствует у Платона.
4. Душа
Теперь перейдем к рассмотрению Плотина и Аристотеля в области учения о третьей ипостаси, именно о Душе. По мнению Армстронга, сложность проблемы Души у Плотина в том, что перед философом с самого начала стояла задача совместить как-то вполне восторженное отношение к миру с полным осознанием того принижения, какое по необходимости претерпела Душа, творя этот мир. Плотина, конечно, не удовлетворяла гностическая концепция "падшей души", порождающей чувственный мир, однако, по мнению Армстронга, в "Эннеадах" заметно "напряжение между приятием и неприятием мира".
Анализируя трактат "О промысле" (III 2-3), где говорится о том, что Душа образует мир и правит им, Армстронг выделяет одно очень важное обстоятельство. Материальный, чувственный мир, по Плотину, являясь реализацией потенций Души (II 9, 3, 1-5; IV 8, 6, 1-16; V 9, 6, 11-19), целиком содержится в этой Душе, которая дает ему все – вдохновляет и украшает его (см. V 1, 2, 11-23; IV 3, 9, 20-26; II 1, 3, 18-20). Однако, по мнению Армстронга, чувственный мир у Плотина вовсе не является простым смешением Души и материи. В трактате "О промысле" Плотин говорит о логосе, испускаемом Душой. Вот этот-то логос и входит в связь с материей, и оформляет ее и творит чувственный мир. "Трансцендентная Душа вселенной не воздействует на материю прямо", – пишет Армстронг.
Мировая Душа, по Плотину, так же как и душа каждого человека, двойственна. Направленная на Ум в созерцании, она стремится во всем уподобиться ему, направленная же на себя самое, она создает свой собственный образ (indalma), который и воплощается в материальном мире (см. V 2, 1, 18-19; II 1, 5, 6-8; II 3, 9, 19-25). Душа, таким образом, состоит из двух ипостасей, так что продукт эманации космической Души оказывается уже не третьей, но четвертой ипостасью (см. V 2, 1). Такой взгляд, по мнению Армстронга, подтверждается плотиновским разделением Души на бога (theos) и демона (daimon), говорящим именно об ипостасном характере низшей Души, а не просто об ее "силовом" происхождении от Души высшей (II 9, 2, 10-18). Низшая Душа, по мнению Армстронга, столь же отлична от высшей Души, как эта последняя – от Ума, и относится к ней так же, как она сама – к Уму.
Для понимания сущности этой четвертой ипостаси, считает Армстронг, необходимо разобраться в той двойственности, какая характерна для взгляда Плотина на материю в чувственном мире. Эта материя, с одной стороны (негативно), – абсолютная потенция, а с другой стороны (позитивно) – зло, начало, сопротивляющееся всякой формообразующей деятельности. Оба эти взгляда нередко находятся у Плотина в тесном переплетении, как, например, в трактате II 4. Второй взгляд наиболее отчетливо выражен в трактате I 8. Армстронг считает, что такая напряженная двойственность подхода к проблеме материи у Плотина восходит к "старой борьбе идей", намеченной уже у Платона – с одной стороны, в "Федоне", а с другой – в "Тимее".
Взгляд на материю как на чистую потенцию тесно связан, по мысли Армстронга, с суждением о том, что материальный мир является великолепной частью вселенной, а это суждение Армстронг считает одним из центральных в философии Плотина. Это говорит прежде всего о том, что материя не может нести ответственность за чувственный мир, или, вернее, за действительность этого мира. В мире должен быть имманентный духовный принцип. И тут Армстронг делает ряд весьма тонких наблюдений, великолепно вскрывающих причину того, почему, собственно, этим принципом не может быть вселенская Душа, которая, как известно, объемлет весь мир как бы извне.
Причина, по которой Плотин не мог принять имманентистский взгляд на вселенскую Душу, заключается в том, что в философии Плотина прихотливо соединились концепция Ума, "унаследованная от Аристотеля через посредство Среднего платонизма и неопифагореизма", и учение о душе Платона. Ум Плотина вовсе не является Демиургом. Душа – это вполне бессознательный продукт самососредоточенного созерцания Ума, имеющего гораздо большее отношение к самомыслящему богу-уму Аристотеля, превращенного в "высший Ум" Альбина и "первого бога" Нумения, чем к чему-нибудь из платоновского "Тимея".
Таким образом, по мнению Армстронга, место трансцендентного устроителя и правителя космоса по необходимости занимается у Плотина мировой Душой. А место мировой Души "Тимея" и ее функции переходят у Плотина к низшей Душе (см. IV 3, 2, 41-58). Стремясь возможно доскональнее проследить нюансы платоновского и аристотелевского начал в "Эннеадах", Армстронг старается подчеркнуть, во-первых, необходимость именно взаимного влияния, а во-вторых становящуюся вполне очевидной органичность платоно-аристотелевского синтеза у Плотина.








