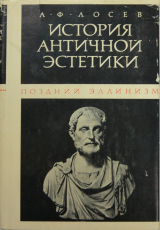
Текст книги "Поздний эллинизм"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 76 страниц)
У таких мыслителей, как Плотин и Бергсон, образы употребляются не спорадически и не являются случайными кусками, это "не находки, сделанные в момент вдохновения"{35}. Они должны иметь внутреннее единство с тем, чью личность они выражают. Образы, близкие Плотину и Бергсону, редко бывают зрительными. Они большей частью связаны с действиями, процессами, движениями, усилиями, то есть это динамические образы. У Плотина возвращение к себе бытия, чтобы предаться источнику света; у Бергсона ум тоже возвращается к самому себе, сворачивает на самого себя (Evolution creatrice, p. 175). Душа у Плотина, как Нарцисс, очарованный своим отражением и погружающийся в материю (I 6, 8, 8-16), находит свою параллель в бергсоновской душе, очарованной созерцанием неподвижной материи (р. 175). У Плотина природа производит линии тел, как геометр свои рисунки, созерцая их; наброски рисунка – это изнанка созерцания (VI 8, 4). У Бергсона материальность – остановка творящего потока; линии, набросанные великим художником, – это фиксация и замораживание движения (р. 260). Образ животной жизни – тюрьма, от которой освобождается человек благодаря усилиям сознания, цепь, которую можно разбить (р. 286), – является отголоском плотиновского образа тела, как тюрьмы. К каждому существенному метафизическому моменту можно найти аналогию в динамических образах, что и заметил однажды Бергсон в одном из примечаний своей книги (Evol. cr. p. 227). Здесь он сближает собственный образ материи (стихи, распадающиеся на бессвязные слова, как только наше внимание ослабевает к их смыслу) с плотиновской материей, понятой как беседа, движение которой рассыпается в образных представлениях (IV 6, 17, эти цифры у Брейе неточные).
Однако нельзя забывать и особенность образов Плотина и Бергсона, проистекающую из их жизненного и теоретического опыта. Так, развертывание действительности у Плотина (V 5, 3, 8-24) напоминает, по мнению Брейе, священное шествие по улицам Александрии. Бергсон тоже видит процесс как движение, но совершенно особенно, когда говорит: "Все живое пытается держаться, но все уступает перед одним и тем же страшным напором. Мир животных находит свою точку опоры в растениях, человек оседлал животных, а все человечество целиком в пространстве – необъятная армия, проносящаяся галопом рядом с каждым из нас, с увлекающим ее грузом, способная преодолеть любые препятствия, даже, может быть, смерть"{36}. В образах плотиновской торжественной процессии и бергсоновского "порыва" – больше, чем просто разница между александрийцем и парижанином, влюбленным в вагнеровский "Полет валькирий". Здесь, где речь идет о спасении от смерти, разница в темпе временных отношений. Плотин уверен в том, что это спасение вечно реализуется и нам надо только обратить на него внимание. У Бергсона спасение не совпадает с сущностью вещей, а зависит от нашей инициативы, нашего свободного усилия.
Отсюда – разница в динамизме образов Плотина и Бергсона. У Плотина он благополучен и идет на пользу. Вот почему у него рука, несущая ношу, обладает неисчерпаемой силой (VI 4, 7, 9-10). У Бергсона же – рука, покинутая на самое себя, падает и существует в ожидании какого-то желания, которое ее воодушевит (с. 269). Бергсоновские образы "связаны с трудом и усилием, присущим индустриальному обществу, неведомому античности"{37}, поэтому они выражены как напряжение силы (с. 218) или упругость, течение (с. 218), струя пара, оседающая каплями (с. 262), как миры, вырывающиеся наподобие ракет необъятного фейерверка (с. 271), а сознание в животном сдавлено тисками (с. 194). Образы Бергсона "полны энергии и насилия, и в этом они чужды Плотину"{38}. Но у обоих философов они имеют явный отпечаток их личности.
Однако и те и другие образы "не призваны раскрыть себя, а предназначены сообщить ту философскую интуицию, которая не поддается формулировке в понятиях"{39}. Образ помогает нам "вернуться к интуиции", и "каждый из них недостаточен и ограничен другими, вступает с ними в конфликт, заставляя разум идти за их пределы"{40}. Образы Бергсона заменяют мысль, а не иллюстрируют ее, и это как раз хорошо. Плотиновские образы именно таковы, и процесс их создания у него длителен. У него "образ намеревается раскрыть реальность, но как только он достигает этой попытки, сразу становится бессильным, и эта неудача приносит положительный результат, так как ориентировка на познание действительности дает себя знать через то сопротивление, которое препятствует нам принять образ за точное выражение этой действительности"{41}. Таков пример с рукой, держащей тяжесть (VI 4, 7, 9-10), которая может распространяться равномерно, а может и перевесить силу руки.
Образ, данный Плотином, не демонстрирует, а внушает нашему уму то или иное направление в поисках правильного смысла. Таковы интуиции Плотина о мире умном и чувственном (V 8, 9, вся глава). Один из самых знаменитых образов Плотина связан с его идеей эманации и соотношения с "жизненным порывом" Бергсона. Это образ потока, не имеющего начала, дающего воду всем рекам, но не исчерпывающегося, всегда спокойного и на одном уровне. Из него истекают реки, смешивающие свои воды до того, как каждая потечет отдельно, зная, куда влечет ее течение (III 8, 10, 5-10). Плотин каждым последующим образом уточняет предыдущий: поток не имеет начала и неиссякаем; это один и тот же поток воды, но в нем уже вырисовывается множественность. Здесь каждый последующий образ не только уточняет предыдущий, но как бы его снимает. Точно так же по этому принципу развивается у Бергсона образ его "жизненного порыва" (с. 279) или "принципа материальности", которому надо сначала расслабиться, чтобы потом прийти в состояние напряжения (с. 258).
Метафизическая образность Плотина и Бергсона противоположны примитивному образному мышлению, которое, по выражению Леви-Брюля, дублирует действительность, подменяет ее. Метафизическая образность, наоборот, заключает в себе сопротивление мысли образу и через него создает единение образа и мысли. Образ является фикцией, если ему предаться, но, если ему сопротивляться, он становится незаменимым средством для достижения реальности. Поэтому и Плотин и Бергсон не скрывают зло, причиняемое образностью, и заблуждения, которые она рождает. Так, Бергсон критикует небытие, а Плотин – мнимый источник Первопринципа. Плотин пишет (VI 8, 11, 13-22), что трудность заключается в том, что мы представляем себе сначала пространство на манер хаоса, как его изображают поэты; потом вводим в это пространство Первоначало, рожденное в нашем воображении; а затем исследуем, как оно появилось и как попало сюда. Бергсон говорит, что принято думать о существовании, которое появляется на манер завоевания небытия. Небытие будто бы было вначале, а сверх того появилось бытие; поэтому, если какая-либо вещь существует, небытие всегда служит "ей субстратом, вместилищем, предшествует ей (с. 299). Бергсон критикует этот образ небытия, видя в нем, в конечном итоге, ложный образ (с. 302). Плотин также хочет удалить даже самую критику вопроса о первичности пространства, понимая место или пространство как последующие в отношении духовной реальности.
И Плотин, и Бергсон, таким образом, опасаются и избегают образов, которые претендуют на воспроизведение действительности. Такие образы по преимуществу лживы. Они, по словам Э.Брейе, "создают некий антропоцентризм, истолковывая всю действительность, следуя близкой и знакомой для человека деятельности; и это, так сказать, застойные образы, которые замыкают нас в сфере обычных для всех представлений. Образ же полезен, если он избавляется от отяжеляющих его элементов, ему сопутствующих, если он очищается и снимается как неудачный с помощью другого образа, освобождая от себя душу, которая и направит нас к интуиции"{42}. Употребление именно таких образов важно для учений, основанных на интуиции, возвышающей человека над его обыденным состоянием. Вот почему, заключает Э.Брейе, "метафизика обходится без символов, но не без образов"{43}, так как, добавим от себя, символ претендует на пояснение действительности и на замену ее самим собою, а образы помогают интуитивно понять ту действительность, которая выше всяких образов.
б) Для ясного понимания указанных мыслей Бергсона и Брейе и для целесообразного применения их в анализе эстетики Плотина необходимо сделать одно терминологическое разъяснение, без которого не будет понятно самое главное.
Дело в том, что под термином "символ" Э.Брейе и Бергсон понимают весьма бедное и убогое указание на реальную действительность, которая в своем существе не имеет ничего общего с такого рода абстрактными знаками. Поэтому с точки зрения такой абстрактной символики она, конечно, дает для познания очень мало или совсем ничего не дает.
Другое дело то, что в предложенном рассуждении именуется как "образ". Этот образ полноценно воспроизводит действительность, и в этом смысле, хотя он является только отражением действительности, он содержит в себе всю полноту действительности и содержит исключительно интуитивно. Тогда можно сказать, что, оперируя такими образами, да и то не в их стабильности, но в их постоянной текучести, мы можем рассчитывать на понимание действительности уже без всякого рассудка и разумной системы, без всяких знаков и символов. Читатель сам вполне может констатировать, что такого рода терминология не имеет никакого отношения ни к Плотину, ни к его эстетике. То, что в этом рассуждении названо образом, по-видимому, есть не что иное, как плотиновский эйдос. Этот эйдос у Плотина действительно есть полноценное воспроизведение действительности, вовсе не является абстрактным понятием и не имеет ничего общего с формалистически понимаемым знаком. Он вполне интуитивен, и всю действительность только и можно понять при помощи такого рода эйдосов. Но тут необходимо учитывать ту коренную особенность бергсонианства, которая сводится к учению только о чистейшей интуиции, без малейших элементов рассудка или разума, то есть основанной на голом жизненном инстинкте. Такого рода эстетика не имеет ничего общего с Плотином. Эйдос у него действительно интуитивен. Но он в то же самое время и вполне разумен и вполне осмыслен. Он выражается в бесчисленных истекающих из него смысловых потоках, но сам он есть нечто устойчивое и непоколебимое. Потому и необходимо называть его также и символом, и притом не в смысле абстрактного знака, но в смысле интуитивно даваемой картины мира.
Другими словами, Бергсон совершенно правильно уловил интуитивную жизненность эйдоса и его полноценно-эстетическую символику. Но, будучи односторонним спиритуалистом и проповедником голых жизненных инстинктов, Бергсон (по крайней мере в предложенном комментарии Э.Брейе) не понял разумно устойчивых моментов в плотиновском эйдосе и свел его только на свои интуитивные образы, лишенные и всякой разумности и всякой символики.
Однако этим мы вовсе не хотим сказать, что Бергсон вполне далек от эстетики Плотина. Наоборот, глубоко жизненное и текуче-сущностное понимание плотиновского эйдоса делают его одним из очень тонких ценителей Плотина, особенно если иметь в виду разного рода традиционные академические предрассудки в области исследования философии Плотина.
4. Переход к диалектике символа
После того как мы обозрели главное содержание эстетики Плотина, сам собой возникает вопрос об ее окончательной формуле. Если мы вспомним, изучение пред-эстетических текстов Плотина привело нас к очень твердому выводу о том, что все эти материалы, вообще говоря, тяготеют к учению о символе. Такие категории, как вечность и время, самость, эманация, логос и эйдос, софия и миф, как мы твердо установили, все возникают на почве определенного совмещения у Плотина идеального и реального, когда идеальное есть прообраз и первопринцип реального, а реальное есть результат закономерного функционирования идеальности и, следовательно, его символ. Когда мы анализировали собственно эстетические тексты Плотина, мы тоже пришли к убеждению, что эстетика Плотина представляет собою не что иное, как мифологию или, вернее, диалектику мифологии. Наконец, к тому же самому выводу привело нас также и изучение языка и стиля Плотина. Следовательно, если брать эстетику Плотина в ее предельном завершении, то нам никак нельзя будет обойтись без учения о мифе, без диалектической теории и без изображения того, что такое диалектика мифа, другими словами, нам нельзя будет обойтись без понятия символа. Исходя из этого эмпирического изучения текстов Плотина, мы теперь и попробуем проанализировать специально диалектику символа у Плотина. И только после этого можно будет решиться формулировать эстетику Плотина вообще.
VДИАЛЕКТИКА СИМВОЛА У ПЛОТИНА
1. Общие вопросы
Весь приведенный материал по эстетике Плотина пропадет даром для того, кто не решит для себя вопроса о том, что такое символизм Плотина. Повторяем, Плотин вместе со всей античностью дает не теорию символа, а самые символы, причем Плотин специально занят именно диалектикой мифа. Символическая мифология как раз и является тем, что необходимо назвать эстетикой Плотина. Это есть, во всяком случае, предметное раскрытие мифа, хотя, правда, все еще не общая теория мифологии, независимая от ее содержания. Поэтому невозможно привести из Плотина такие суждения, которые бы удовлетворили теоретическую потребность типа Шеллинга или Гегеля. Но мы-то сами, независимо от теорий самого Плотина, несомненно, обязаны войти во все тайны его философско-эстетической лаборатории, то есть мы обязаны строить теорию мифологии, как она – пусть бессознательно – у него проводилась, чтобы быть в состоянии достаточно ясно для самих себя локализировать ее в системе истории эстетики вообще.
Первый вопрос: почему для определенных мифологических фигур избраны те, а не другие диалектические категории? Почему Кронос – Ум, Афродита – Душа и т.д.? Есть ли в этом какая-нибудь логическая необходимость, или это – область чистейшего произвола?
Второй вопрос: если даже имеются какие-нибудь основания толковать Кроноса как Ум и Афродиту как Душу, то для каких целей производится это толкование? Не является ли это толкование излишним как для мифологии, так и для диалектики? Ведь мифология имеет свои специфические задачи; она отвечает определенной потребности народа и личности, в особенности же на некоторых отдельных стадиях развития. И потребность эта, связанная с фантазией и чувством, не имеет ничего общего с той строгой и ученой логикой, которую преследует диалектика. С другой стороны, дает ли мифология для диалектики что-нибудь существенное? Если достроена диалектика, если, например, установлено, что ум и жизнь есть такие категории, которые в синтезе дают нечто третье и новое (как бы его ни называть), то что тут прибавит сообщение о том, что ум это не ум, а, собственно говоря, Зевс, и что душа это не душа, а, собственно говоря, Афродита? Не есть ли эта мифология только излишний и ничего не говорящий балласт для эстетики? И можно ли вообще что-нибудь прибавить к философии и эстетике, если она произвела нужное исследование и окончательно разработала систему своих понятий в данной проблеме?
Третий вопрос. Допустим, что вышеуказанные сопоставления диалектики и мифологии правильны. Допустим также, что это сопоставление существенно обогащает и диалектику и мифологию. Спрашивается: как же нужно понимать взаимоотношение диалектики и мифологии не просто по их содержанию, но по самому их методу, по их структуре, по их, так сказать, собственному бытию? Содержание их, допустим, взаимно соответствует и даже, допустим, совпадает. Но ведь это, вообще говоря, еще не значит, что перед нами тут одна и единственная сфера мысли и бытия. Картина, музыкальное произведение и стихотворение могут иметь совершенно одно и то же внутреннее содержание; но это не значит, что художественные методы и самая сущность искусств живописи, музыки и поэзии суть нечто одно и то же. Как же нам рассуждать теперь в отношении диалектики и мифологии? Теряет ли каждая из них свое лицо при взаимосоответствии их содержания, или это лицо остается самостоятельным и оригинальным? И если – это последнее, то в чем же взаимосвязанность, как они, будучи различными, объединяются в своей методологии? Кроме же того, поскольку мифология, по Плотину, есть материал для понимания, а диалектика – путь понимания, а символ как раз и есть непонимаемое, становящееся понимаемым, то наш вопрос получает гораздо большую остроту, чем это могло казаться вначале. Тут, оказывается, идет речь о том, как возможен самый символ, или точнее, как возможна диалектическая мифология, ибо символ, как понимаемая жизнь, и есть не что иное, как диалектический миф. Ясно, что без этого вопроса невозможно понимание ни Плотина, ни вообще неоплатонизма.
Наконец, возникает и четвертый вопрос. Спрашивается: что получает от этого специально эстетика? Как можно было бы формулировать весь этот результат в терминах уже немифологических? Как формулировать символизм Плотина, сложившийся из взаимоосвещения диалектики и мифологии, в таком виде, чтобы он был сравним с новоевропейской наукой, чтобы он был переведен на современный философско-эстетический язык?
Отвечая на все эти четыре вопроса в настоящем пункте нашего исследования, мы можем чувствовать себя гораздо более уверенно, чем в начале нашего анализа Плотина. Там на основании общих подходов мы тоже говорили о нехарактерности для Плотина только одной системы понятийных категорий. Уже там, на основании самых общих впечатлений от эстетики Плотина, мы выставили как одну из ее безусловных особенностей вот это самое пронизывание одной категории другой и при всей любви Плотина к размышлениям категориального порядка установили то, что мы там называли понятийно-диффузным или категориально-диффузным стилем Плотина. Однако вначале это было только наше общее впечатление и стремление вообще ввести читателя во всю эту своеобразную область эстетики Плотина. Сейчас же, после рассмотрения десятков и сотен относящихся к эстетике Плотина текстов, мы имеем возможность гораздо более обоснованно и гораздо более уверенно рассматривать эстетику Плотина именно как диалектику мифа и делать отсюда все соответствующие выводы.
2. Взаимосоответствие мифологии и диалектики
Первый вопрос, поставленный нами выше, есть и вопрос о принципиальной возможности взаимоосвещения диалектики и мифологии и также вопрос о фактическом его проведении.
а) Как возможно принципиально взаимоосвещение диалектики и мифологии? О диалектике никто не сомневается, что это есть выведение и система всех основных категорий мысли и бытия. Диалектика трактует о том, о чем трактует и всякая "первая философия", о последних основах сущего и о том, без чего не может быть ни мысли, ни бытия. Единство, множество, тождество, различие, покой, движение и пр. – все это основные принципы, без которых невозможно ни то, ни другое. Но что такое мифология? Нам представляется, что точно так же невозможно сомневаться в том, что она тоже трактует самые последние основы бытия. Когда греки говорили о происхождении мира из Хаоса, о браке Урана и Геи, о поколениях богов, то ими тоже руководило желание формулировать то первое и основное, без чего невозможно было в свое время ни бытие, ни мысль, ни жизнь. Следовательно, уже по одному этому предмет у диалектики и мифологии с точки зрения неоплатонизма совершенно один и тот же; и речь может идти только о различии методов конструирования этого предмета.
Несколько иначе эту мысль можно выразить так. Мифологические образы тем отличаются в первую очередь от образов просто чувственных, что им принадлежит та или иная, часто огромная обобщительная сила. С именем Зевса связывается представление о существе, которое имеет какое-то чрезвычайно общее значение. Зевсу подчинен весь мир. Уже это одно наделяет его широким, отнюдь не чувственным значением, хотя бы в нем самом и не было ничего нечувственного. Такие понятия, как "бог", "гений", "герой", даже просто "человек", имеют в мифологии значение общих категорий; и этой общностью они резко отличаются от всякого другого образа. Следовательно, всякая мифология в самом существе своем в античные времена символична. По самому основному значению своему она сливает чувственное событие и образ с тем или другим общим понятием, сливает частное и общее. А это – тоже такое обстоятельство, которое предметно сближает диалектику (логику общих категорий) с мифологией. Если бы не было никакой диалектики и даже никакой философии и никаких обобщений, мифология все равно таила бы в себе самые разнообразные степени обобщенного значения. Да и она по преимуществу и существует как раз в тех областях и в те моменты истории, где невозможно или неуместно рациональное обобщение и где общего человек достигает другими, вненаучными и внефилософскими средствами.
Итак, с точки зрения античного неоплатонизма в принципиальной сравнимости и взаимоосвещаемости диалектики и мифологии не может быть никаких сомнений. Вопрос можно ставить только о закономерности тех или иных конкретных взаимоосвещений.
б) Но прежде чем коснуться этих конкретных взаимосопоставлений, обратим внимание на их общие установки. Ведь в мифологии кроме общих образов есть еще и общие их категории. Мы не будем изучать их все. Но уже сейчас необходимо указать на три такие категории – "боги", "гении" и "герои". Что такое боги в мифологии, мы знаем. Но что могло бы быть богами в античной диалектике? Поскольку в античном сознании весь мир и все бытие божественно, каждая отдельная вещь, каждая отдельная сила в какой-то мере имеет на себе долю божественности. Что же это за божественное? Божественное и неизменно-вечно, оно существенно для вещи и ее жизни; это – то, без чего она не могла бы существовать. Что же есть в вещи такое, без чего она не может существовать? Вещь не может существовать без тела. Однако тело, если даже оно и вечно (что по меньшей мере сомнительно), во всяком случае изменчиво. Что же еще остается в вещах такого, без чего они не могут существовать? Вещь не может существовать без смысла, без идеи. Удалить из вещи ее идею, это значит превратить ее в бесформенную груду. Итак, остается только чистый смысл, к которому к тому же не применимы и категории времени, пространства и вещественности, который неизменяем и вечен. Отсюда получается огромной важности вывод: идея вещи, взятая сама по себе в чистом виде, и есть если не сам бог, то божественное. Отрицающие богов, в этом смысле, как считают неоплатоники, отрицают просто идеи вещей, то есть отрицают, что вещи есть именно вещи. Но смысл вещи дан не только для иного. Уже одно то, что он мыслим, то есть дан для иного, предполагает, что он дан и сам для себя, то есть мыслим сам для себя, то есть является некоторым самосознанием. Но если взять все вещи мира, то есть весь мир целиком, то его самосознание будет то, что в платонизме называется Умом. Отсюда последний вывод: платонический Ум, Нус, и есть по преимуществу сфера божественности, богов.
Разумеется, Единое, которое выше самого Ума, есть сфера еще более божественная. Но античный платонизм живет чистыми формами, фигурными идеями. Поэтому Единое, как непознаваемое и превысшее всякой формы, не есть та область, в отношении к которой о богах говорилось бы по преимуществу. Ум или мир чистых идей, вот где для античного человека живут блаженные боги. Идея – это и есть бог. С другой стороны, идея, как гласит основное онтологическое учение, не остается замкнутой в себе; она переходит еще в становление, правда, сначала еще не переходящее в рассеяние, только равномерно и тождественно облекающее всю целость самого ума. Это – платоническая душа. Тут тоже сфера богов, но уже другого ряда богов. Те умные, интеллигибельные боги покоятся сами в себе, в своем блаженном и вечном самонаслаждении, они пируют и хохочут. Эти же, душевные боги, управляют космосом и дают силу всякой вещи, которая в него входит. Но Мировая Душа, как мы знаем, дробится на отдельные души, из которых каждая тоже заведует своим собственным участком космоса. Каждой такой душе имманентен свой ум, то есть свой момент из того общего интеллигибельного Ума, и свои становящиеся, творческие функции, то есть свой момент из той общей космической Души. Интеллигибельная основа частной души есть гений, а ее творчески-становящиеся функции есть герой.
Вот в каком направлении движется мысль Плотина и вот куда придет в дальнейшем и мысль Ямвлиха и Прокла. Можно ли что-нибудь возразить здесь неоплатонизму, если, конечно, оставаться при его собственных исходных точках зрения? Разумеется, если отрицать существование идей, ума, души, если не "верить" в богов, если не понимать, что такое мифология и недоумевать при слове "диалектика", тогда нечего и копья ломать. Но если выяснять специфику неоплатонизма (а только так оно и может быть в нашей работе, если мы хотим анализировать именно античный неоплатонизм, а не что-нибудь другое), то спрашивается: можно ли что-нибудь возразить против предложенного сопоставления мифологических установок и категорий диалектики? Мы думаем, что с этой точки зрения возразить неоплатонизму совершенно нечего. Только так и может быть. Если для него миф есть реальность, то место богам только в области основной диалектической триады, и преимущественно во второй ипостаси, а затем и в третьей, и место гениев только в области эманации космической Души.
в) По сравнению со всем вышеозначенным уже второстепенное значение имеет вопрос об отдельных мифологических образах. Можно ли Кроноса считать чистым умом, Зевса – умом души, Афродиту – душой и устанавливать столько Афродит, сколько возможно видов душ в диалектической системе? Тут, конечно, возможны споры, но споры эти едва ли могут иметь принципиальное значение. Ведь диалектика дает твердую систему категорий, которая претендует на то, чтобы осмысливать собою и упорядочивать всякую действительность. Что же касается мифологии, то ведь она развивалась в течение многих столетий. Образы Кроноса, Зевса, Афродиты и пр. менялись, смешивались, вновь разъединялись и т.д. и т.д. Возможно, что диалектическая категория, наложенная на данный мифологический образ, и не охватывает всех реальных черт его длинной и запутанной истории. Однако это нисколько не должно смущать философию мифологии. Наоборот, такое положение дела и является аргументом, доказывающим необходимость ее существования. Диалектика впервые дает возможность осмысленно разобраться в хаосе многовекового мифологического сознания. Имея эту теоретическую сетку, мы можем относить данный мифологический образ туда или сюда; и только так и можно сказать, какую же, собственно говоря, эволюцию проделал, скажем, образ Зевса. Иначе – общим во всем этом трудно обозримом историко-мифологическом материале о Зевсе будут только пустые звуки "Зевс"" и другой раз, может быть, под именем Зевса кроется то, что никакого отношения к Зевсу не имеет, и, наоборот, Зевс оказывается тем, что в силу тех или иных причин получило совсем иное наименование. Мы не будем приводить примеров. Но желающих вникнуть в этот предмет мы бы отослали, например, хотя бы к книге Вяч. Иванова{44} "Дионис и прадионисийство", где показано, как Дионис крылся под самыми разнообразными именами и в самых недионисийских сюжетах и как в мифах чисто дионисийских необходимо находить многое такое, что пришло сюда совсем со стороны.
Так или иначе, но колебания в установлении тех или других диалектико-мифологических конструкций не только возможны, но и вполне законны; и даже больше того, самые эти колебания и доказывают необходимость диалектики мифа и взаимосоотнесения мифа и логической категории.
г) Только после всего этого может быть реально поставлен вопрос: есть ли Уран – Единое, Кронос – Ум, Афродита – жизнь ума, Эрос – соединение ума и жизни, Зевс – Мировая Душа в аспекте ума, которой соответствует своя Афродита и свой Эрос, и, наконец, есть ли Эрос также гений, происходящий как эманация космической души?
Что касается Единого, то скорее всего можно было бы его отождествить с неразличимым первобытным Хаосом, из которого, по старым космогониям, происходили и сами боги и весь мир. Однако в таком виде было бы трудно оперировать конкретными мифологическими образами. Уран и Гея, образовавшиеся из Хаоса, в этом смысле обладали бы, пожалуй, гораздо более конкретным содержанием. Это были бы, так сказать, первые носители Единого. Но старые космогонии знают еще ряд существ, появившихся из Хаоса и предшествующих богам и космосу, это – Эреб, Ночь, День, Эфир, Эрос. Конечно, если бы мы стали строить диалектику мифа систематически, мы разгадали бы диалектический смысл и этих всех образов. Но этого делать здесь мы не можем, и потому для нас достаточно одного: Уран, первый правитель вселенной из всех этих первобытных мифических чудовищ, приблизительно выражает природу Единого; это, во всяком случае, один из его аспектов.
Есть ли Кронос – Ум? Кронос – один из "титанов", детей Урана и Геи. Когда Уран из ненависти бросил своих детей (сторуких и циклопов) в Тартар, то, по наущению Геи, титаны низвергли Урана и вернули власть Кроносу, а этот Кронос отрезал детородный член у Урана и бросил его в море, откуда появилась Афродита. Кронос воцаряется над миром. Уже эпизод о происхождении Афродиты указывает на то, что Уран хотя и был отстранен, но нечто существенное от него перешло в бесформенное инобытие ("море") и дало новый результат. Ум – это Единое, перешедшее в свое инобытие и ставшее формой. Сама собой напрашивается мысль, что Кронос и есть этот самый ум. С нашей теперешней и чисто научной точки зрения нет никакой необходимости абсолютно заверять, что это именно так. Тут опять вполне достаточно приблизительного утверждения; и мы будем вполне удовлетворены, если скажем, что Кронос – что-то очень близкое к тому, чтобы соответствовать платоническому интеллигибельному миру. Тут же – опять в виде очень убедительного намека – появляется и образ Афродиты. Она, во всяком случае, по этой версии Гесиода, появляется параллельно Кроносу и – тоже в результате перехода Урана в инобытие.
Есть ли Эрос сын Кроноса и Афродиты и есть ли он их становящееся тождество? Из мифологической традиции мы знаем в качестве отцов Эроса Зевса, Гермеса, Зефира, но чаще всего и обыкновенно – Ареса. Однако, поскольку Афродита отнесена к интеллигибельному миру, ничто не мешает конструировать и синтез ее с Кроносом. Получится ли здесь Эрос, это вопрос только терминологии. Что диалектически должно получиться становление и что в существе Эроса лежит именно становление, это несомненно. Что Эрос возможен на такой высокой диалектической ступени, это доказывается положением Эроса в гесиодовской космологии. Там он еще раньше Кроноса и даже Урана; он тут – среди первых порождений Хаоса. Значит, античное чувство Эроса было не только космологическим, но даже больше, чем космологическим: по этому чувству Эрос раньше и космоса и самих богов. Следовательно, Плотин имел бы право поместить его еще выше, чем он поместил его фактически. Но все-таки расхождение с мифологической традицией налицо: Эрос у Плотина – в сфере ума, но не выше. Это, конечно, тоже не важно. Если бы Плотин дал диалектику мифа в системе, то он, вероятно, поместил бы Эроса также и среди мифологических существ, представительствующих Единое, подобно тому как есть у него Эросы ума, души, космоса и отдельных индивидуальных душ.








