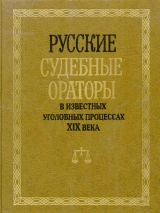
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 90 страниц)
Насколько Качка обладала сознанием в момент убийства и чутко относилась даже к мелочным событиям, видно из двух доказанных следствием явлений, из которых одно предшествовало убийству, а другое за ним следовало: за 2 часа до выстрела Качка вручает свидетелю Малышеву прочитанную на суде записку свою о брате и домашних своих распоряжениях, а тотчас после убийства по поводу чьего-то смеха иронически замечает, что она доставила своим поступком кому-то удовольствие.
Мысль об убийстве зрела и развивалась в долгом, хотя и мучительном, процессе нравственного страдания обвиняемой; она зародилась в измене Байрашевского, а не в каких-нибудь «ложных убеждениях», и разрешилась 15 марта, когда приехала его новая невеста Пресецкая и когда Качка, в последний раз перед разлукой навеки, видела своего жениха; в этих последних обстоятельствах, пожалуй, можно допустить внешний толчок, ускоривший развязку, но разве это может лишить факт его осмысленной причины, сознательного стимула, логически подготовленного рядом событий мира действительного, помимо всякой деятельности воображения, миража «ложных убеждений», аффекта и т. п. Где же тут «raptus melancholicus»?
Что касается указаний Державина на пьянство отца Качки, о чем говорит и ее мать в своем показании, то и отсюда невозможно вывести какого-либо заключения о нравственной болезни дочери их, Прасковьи Качки, так как у тех родителей, кроме нее, были дети: Александр, Владимир, Анна и Елизавета; все они умственно совершенно здоровы; отчего же пьянство отца отразилось бы только на Прасковье Качке?
На предложенный мной по этому поводу вопрос эксперт Державин мог возразить только то, что в семействе Качки запой отца отразился, кроме Прасковьи Качки, и на сестре ее Анне физическим уродством; но вы помните, господа присяжные заседатели, что об этом уродстве показывала мать ее, госпожа Битмид, и причину его объяснила случайным обстоятельством – падением или ушибом.
Врач Левенштейн вовсе не наблюдал Качку, и поэтому его заключение уже чисто теоретического свойства. Чтобы доказать вам всю его несостоятельность в этом отношении, а также чтобы помочь вам в уяснении психической стороны дела и того значения, какое может иметь для суда врачебная экспертиза вообще, мне необходимо привести хотя в выдержках мнения нескольких научных авторитетов в занимающем нас вопросе:
«Ни в одном из случаев, требующих вмешательства судебного врача,– говорит Шайнштейн,– для него не бывает так близка возможность переступить за черту своей компетентности, как при исследовании умственного состояния с целью определить, находится ли данное лицо в здравом уме или нет; ибо, высказывая свое мнение, он тем самым высказывает и свое личное суждение о том, можно ли этому лицу вменить данное действие его как свободное и сознательное. А между тем решение этого последнего вопроса, как по здравой логике, так и по точному смыслу большей части законодательств, принадлежит не врачу, а судье. Ни в одном отделе судебной медицины не было поэтому более бесплодных теоретических рассуждений и ни к чему не ведущей полемики, как в судебной психиатрии. Задача врача душевных болезней ограничена представлением судье возможно полной картины физического и нравственного состояния обвиняемого и объяснением, какое влияние то или другое могло иметь на его образ действий вообще. Дальнейшую же оценку этих фактов врач представляет судье; притом к сфере компетентности врача относится только часть тех душевных состояний, которыми исключается вменяемость,– именно одни душевные болезни; все же другие условия, как-то: недостаточное воспитание, заблуждение, страсти и нравственные потрясения, в качестве общепонятных психологических моментов, подлежат оценке судьи».
«Решение вопроса о вменяемости,– говорит Миттермайер,– принадлежит исключительно судье или присяжным, а врачи должны доставить им только сведения, дающие возможность решить этот вопрос или облегчающие это решение».
«Не всякое видоизменение умственной деятельности, происшедшее вследствие болезненного состояния, возможно бывает признать душевной болезнью; болезненное расстройство умственной деятельности в конкретном случае еще не безусловно влечет за собой признание того, что действия больного находились под влиянием такого расстройства, исключающего свободное определение воли, и несомненно, что не все действия душевнобольных носят отпечаток душевных их страданий». (Д-р Скржечка, профес.,– «Душевные болезни по отношению к учению о вменении»).
«Нет ни одного симптома расстройства умственной деятельности, который бы исключительно был свойством душевной болезни и не встречался бы в нормальном состоянии. Отдельные лица в умственном отношении бесконечно разнообразны, и нет типа, который мог бы служить нормой умственно душевного здоровья. Судебная антропология вращается исключительно на почве врачебного опыта и наблюдения и не должна ни разрешать вопроса о способности ко вменению, как понятии чисто юридическом, ни теряться в метафизически-спекулятивном исследовании абстрактной свободы воли. Абсолютной свободы воли, в смысле философов, вероятно, не было и не будет; требования же, предъявляемые государством к индивидуальной воле, всегда ограничиваются относительной ее свободой; государство требует от частного лица лишь способности производить сравнительную оценку представлений и до известной, установленной обществом нормы поступаться чувственными эгоистическими побуждениями в пользу разумных представлений, соответствующих требованиям нравственности и государственным законам. Относительно вопроса о том, насколько для судьи обязательно заключение врача, можно положительно сказать, что судье принадлежит право оценки заключения, и он может отвергнуть его. Ввиду столь многих плохих заключений, предъявляемых по настоящее время в судах, было бы весьма неудобно не признавать этого права за судом, но оно должно распространяться лишь на формальную правильность, точность и тщательность его, а никак не на научную компетентность выводов, сделанных врачом». (Крафт-Эбинг, доктор,– «Начала уголовной психологии»).
Все только что приведенные мной отзывы известнейших представителей науки сводятся к такому общему выводу, имеющему прямое отношение к рассматриваемому сегодня делу: судебная психиатрия изобилует бесплодными теоретическими рассуждениями; неосновательные заключения врачей очень часто предъявляются в судах; врачебная экспертиза поэтому служит для суда только пособием, пользоваться которым можно лишь с величайшей осторожностью; решение вопроса о вменении и оценка фактов, послуживших поводом к экспертизе, всецело принадлежат суду, ибо это вопросы исключительно юридического свойства. Условия воспитания, страсти и нравственные потрясения (т. е. единственные двигатели в убийстве Байрашевского) отнюдь нельзя смешивать с душевными болезнями. Бывают случаи, когда и одержимые такими болезнями могут обладать свободной волей, и потому тогда и они даже подлежат вменению за совершенные ими деяния. Вообще, для вменения достаточно и относительной свободы воли, так как безусловной не существует. Применяя эти общие выводы к нашему делу, мы получаем конечный и до очевидности простой итог: там, где мнения врачей расходятся, надо отдать предпочтение тому, которое более согласуется с выводами из фактов.
Правда, некоторые психиатры допускают возможность болезни и в человеке, действующем, по-видимому, целесообразно и разумно, т. е. с мотивом, предумышленном, даже скрытностью и т. п., но для этого необходимо, чтобы на такую болезнь имелись какие-нибудь указания в жизни и поведении субъекта вне совершенного им преступного деяния сомнительной вменяемости; таких указаний в биографии Качки, очень подробно и именно с этой целью обследованной, мы не находим. С другой стороны, в этом отношении следует иметь в виду, что все иностранные кодексы, на которые обыкновенно такие врачи ссылаются, допускают «неполную вменяемость», а некоторые врачи и юристы просто указывают на сомнительные психические страдания как на обстоятельства, смягчающие вину, и в таком случае роль подобных внутренних влияний делается совершенно тождественной с тем значением, какое имеют иногда внешние обстоятельства, например, повод к раздражению, вовлечение другим, несовершеннолетие, вынужденность и т. п. обстоятельства, при наличности которых смягчается наказание.
Наконец, существуют мнения, доводящие подобный взгляд до крайних пределов: по мнению некоторых врачей, сумасшедший человек может действовать совершенно так же, как и умственно здоровый; существует так называемая «больная логика», «судорожное сознание» – границ нет, по крайней мере, для современной психиатрии они неуловимы. Что же это значит? Это значит, что и экспериментальное знание имеет свои границы, за которыми вся сумма его сводится к нулю. Но, господа присяжные заседатели, человек обладает свойством более высшего источника, свойством, ему прирожденным,– разумом, здравым смыслом. Область его начинается как раз там, где экспериментальный вывод дает в результате такой ноль.
Итак, обратимся к этой нашей способности и последуем ее указаниям, тем более, что такое право в данном случае признают за нами, юристами, и приведенные мной медицинские авторитеты. Мы видели, что преступление было сознательное, больше – оно совершено лицом, способным, как оказалось по показаниям и переписке его, к тонкому и глубокому анализу личных ощущений и к чуткой восприимчивости явлений внешнего мира; мотив, бесспорно доказанный,– ревность; цель узкая, себялюбивая, выраженная формулой: «Если не мне, так никому!»; раскаяние, угрызения совести, ясные следы которых мы видели в последующем поведении подсудимой: она мучается, просит себе кары, покушается отравиться; наконец, колебания (записка в жандармское управление) и т. п.– вот те несомненные очертания, в каких предстает нашему умственному взору страшная, как и всегда, картина убийства, совершенного Качкой. Очертания эти стройны и гармоничны, они останутся теми же, откуда бы ни вздумалось освещать их, и только близорукому наблюдателю может в них мерещиться нечто иное, чем то, что они изображают в действительности. Преступление в данном случае не представляется явлением, стоящим особняком, явлением, как бы выхваченном из окружающей его сферы предшествовавших и следующих за ним событий, чем-то совершенно им чуждым, как это бывает у сумасшедших. Напротив того, убийство здесь тесно, органически связано со всем тем, что ему предшествовало и что за ним следовало. Оно – необходимое звено в этой прочно составленной цепи. Разорвать такую живую цепь не в силах никакая экспертиза; прежде чем уверовать в противное, надо отречься от своего собственного разума или умышленно закрыть глаза перед очевидными каждому, победоносно убедительными фактами.
Таким образом, по вопросу о вменении, главнейшему в рассматриваемом процессе, судебное и предварительное следствия дают нам такие общие итоги; с одной стороны, предположение о душевной болезни обвиняемой, возникшее по ошибочному заявлению брата Качки и затем поддержанное врачом Державиным с не менее очевидными для каждого ошибками, разрушается теоретически коллективным заключением врачей-экспертов; с другой стороны, фактические обстоятельства, доказанные следствием,– обманутая любовь, ревность, разрыв и т. п.– складываются в таком бессомненном для вывода сочетании, что совокупностью своей образуют вполне естественный, для каждого понятный мотив преступления. Оба эти различными, совершенно самостоятельными путями достигнутые итоги ведут к третьему убеждению – в полном умственном здравии подсудимой, а следовательно, и в полной способности ее к вменению. Так высказалось большинство экспертов, так говорят все до единого обстоятельства дела, наконец, так говорит и сама подсудимая; так, следовательно, должны сказать и вы, господа присяжные, в своих ответах по этому вопросу.
Покончив с психической стороной процесса, перехожу к рассмотрению другого, особо от этой стороны стоящего взгляда, который я рискую встретить в возражениях защиты или в некоторых впечатлениях, вынесенных лицами, призванными участвовать в разрешении дела; взгляд этот, возводимый иногда в теорию, уже не раз проявлялся в известных судебных процессах, и потому мне нельзя оставить его без внимания.
Качка вызывает к себе сострадание. Это далеко не заурядная подсудимая, для многих она окружена ореолом романтического трагизма; убийство совершено под гнетом тяжелым, осложняющимся страстной натурой обвиняемой, едва не обезумевшей от любви и ревности. Байрашевский вырвал из ее рук счастье, которое она, доверчивая и влюбленная, купила дорогой ценой,– ценой своей девственности! Она получила право на месть!
Все это с известной точки зрения так, все это еще подробнее скажет вам защита... Но вдали от всего этого, в грозном безмолвии смерти одиноко стоит перед вами образ убитого юноши... Родственники Качки пришли сюда, чтобы вместе с моим талантливым противником своими речами и показаниями облегчить участь подсудимой; за Байрашевского никто не явился: его нечего спасать, его никто не подымет из гроба! Мы не видим здесь безутешного горя его родителей, на старости лет потерявших единственного сына; мы не слышим здесь отчаянного плача его невесты, у которой убили жениха чуть не накануне свадьбы!.. Я один здесь, который говорю от его имени, на мне одном лежит обязанность защищать перед вами его святое право на осуждение убийцы... Он умер с детски-беззаботной улыбкой на устах, застывший отблеск которой сохранился на предъявленной вам фотографии с трупа. Вряд ли у человека с черным прошлым можно подметить в момент смерти такую улыбку.
Не спорю, Байрашевский виноват перед Качкой. Я первый принял это во внимание при определении степени уголовной ответственности в своем обвинительном акте; но разве за такую вину казнят смертью? Если государство в таких случаях не считает себя вправе на такую казнь, то может ли защищаться таким правом частное лицо? За что в самом деле погиб Байрашевский? Он изменил своей возлюбленной, в этом виновато его молодое сердце; корыстного мотива измены, мотива, который сделал бы ее отвратительной, здесь не было; было просто сердечное увлечение, с которым 20-летний юноша, быть может, был не в силах и бороться. И вот за это смертная казнь, казнь беспощадная, исполненная публично, как бы в назидание окружающим! Вот что сказал бы нам убитый Байрашевский, если бы мог находиться здесь.
К этому я должен прибавить еще следующее: уголовное правосудие преследует двойственную задачу. Кроме наказания преступнику, всякий приговор по каждому делу вообще, а по такому, как сегодняшнее, в особенности, имеет воспитательное значение. Есть люди, которые прислушиваются к решениям гласного суда, сообразуют с ними поведение в тех или иных случаях, и если суд представителей общественной совести торжественно и всенародно объявляет, что частное лицо может безнаказанно мстить за обиду даже лишением жизни, то вслед за оправданным преступником всегда готова двинуться целая вереница последователей, рассчитывающих на безнаказанность. И тогда где и в чем найдется гарантия личной свободы и безопасности? Чем оградится естественное право каждого живущего на продолжение своей жизни? Все это вопросы высшего порядка, вопросы, перед которыми должна в вашем приговоре склониться и личность подсудимой, сколько бы ни вызывала она к себе превратной симпатии и малодушного в этом случае сострадания.
Полагая поэтому, что Качка не будет оправдана ни ради ошибочно подозреваемого в ней душевного расстройства, ни ради только что рассмотренных мной столь же ошибочных и еще более опасных социологических соображений, я могу заняться теперь определением тех границ, в которых считаю справедливым предъявить вам свое обвинение. В этом отношении я обязан особенной осмотрительностью ввиду тех последних слов, которые записала Качка в протоколе предъявленного ей следственного производства: «Преступно мое прошлое, бесполезно настоящее – судите беспощадно!» Я ищу только справедливости и только с этой целью ставлю себе вопрос.
К какому именно из предусматриваемых нашим уложением видов убийства следует отнести совершенное Качкой преступление? С первого взгляда, казалось бы, что оно является плодом «заранее обдуманного намерения», т. е. при обстоятельстве, особенно отягчающем вину. Действительно, мысль об убийстве рождается и зреет в голове подсудимой. Задолго до его совершения она покупает револьвер, заряжает его, держит его при себе в вечер убийства. Но при внимательном сопоставлении и тщательной оценке всех фактов, рисующих нам внутренний мир подсудимой незадолго до убийства и в самый момент его совершения нельзя сказать с полной уверенностью, чтобы тут действовало заранее обдуманное намерение в том смысле, как это понимает наш уголовный закон. Револьвер Качка покупает, чтобы застрелить себя. Это объяснение ее не опровергается по следствию, и потому мы не имеем основания заподозрить его искренность. Затем, Качка в момент преступления настолько еще, по собственному ее показанию, любила и вместе с тем ненавидела своего бывшего жениха, настолько еще страдала недавней изменой, что намерение убить его могло скорее явиться внезапно под влиянием особо угнетающих или особо раздражающих нервную восприимчивость условий. Такими условиями в данном случае были: во-первых, известие, полученное за 2 часа до убийства, о приезде из Петербурга невесты Байрашевского и о предстоящем отъезде ее со своим женихом. Качка поэтому знала, что видит Байрашевского свободным уже в последний раз; он уезжает, чтобы соединиться с другой навсегда; теперь, в этот ужасный вечер, рушится ее последняя надежда, и затем – разлука навеки! Во-вторых, пение. Песни Качки, по словам собеседников, отличались на этот раз особенно мрачным и вместе с тем особенно чарующим характером; они были так близки по содержанию к ее собственному тогдашнему душевному настроению, были так обаятельны даже для посторонних слушателей. Очевидно, сама Качка, любящая музыку и глубоко ее чувствующая, не могла не проникнуться такими песнями: «Голос ее дрожал и обрывался, в нем слышались рыдания»,– говорят свидетели; явилось нервное возбуждение... револьвер был в руках; Байрашевский сидел почти рядом, мечтая о своей новой невесте; Качка пела про несчастную любовь и в то же время на лице его мучительно наблюдала ту улыбку чужого нарождающегося счастья, какую он унес с собой и в могилу... И Качка не устояла: раздался выстрел и разбил это ненавистное счастье!..
Не приезжай в этот день Пресецкая, не будь этого раздражающего пения, может быть, решимость Качки, с которой она боролась (это доказано письмом ее в жандармское управление), не достигла бы своего ужасного осуществления. Да и самая эта решимость, как выразилась Качка в одном из своих показаний, «как-то не оформливалась»: мысли – то об убийстве Байрашевского, то о самоубийстве, то об исполнении того и другого зараз,– очевидно, возникали в уме и проносились мимо. Так по ясному когда-то небу проносятся перед грозой облака, но кто угадает, из которого впервые сверкнет молния и загремит гром?.. То было представление, искушение, идея, отчаяние, все, что хотите, но только не «намерение» и притом «заранее обдуманное».
Вот, почему, господа присяжные заседатели, я не решаюсь возвышать свое обвинение, настаивая на этом признаке, хотя в некоторых взятых в отдельности фактах и можно было бы подыскать для того известное основание.
Я предпочитаю приурочить деяние Качки к той статье, которая выставлена в утвержденном судебной палатой обвинительном акте и которая говорит об убийстве без заранее обдуманного намерения, в запальчивости или раздражении, но не случайном, а умышленном, т. е. сознательном. Если не было «запальчивости», то могло быть «раздражение», вызванное, с одной стороны, суммой всех тех психических, но совершенно нормальных явлений, о которых так много было говорено вчера, и с другой – той обстановкой самого преступления, о которой я только что упомянул.
В конце концов от вас, господа присяжные заседатели, будет зависеть признать в деянии Качки наличность «раздражения» или отвергнуть этот признак; все, сказанное мной в этом отношении, внушено лишь целью представить вам свои соображения и тем облегчить разрешение этого частного, второстепенного в обвинении вопроса. Что же касается остальных признаков преследуемого преступления – неслучайности и сознания,– то в том, что эти признаки были налицо, ни в ком не может возникнуть и сомнения: стреляя из ею же самою заряженного револьвера в лоб, чуть не в упор, Качка не могла не сознавать, что посягает на жизнь другого, и потому действовала умышленно, а поступая так, не могла, конечно, застрелить Байрашевского «случайно».
Приговор ваш в тех скромных пределах обвинения, какие я установил в своей речи, будет справедлив. Вы можете признать смягчающие обстоятельства, но не оставите подсудимую без наказания, которого одинаково требуют как ее собственная возмущенная совесть, так и совесть общественная, представителями которой являетесь вы на суде.
Речь присяжного поверенного Ф. Н. Плевако в защиту Прасковьи Качки
Господа присяжные! Накануне, при допросе экспертов, председатель обратился к одному из них с вопросом: «По-вашему, выходит, что вся душевная жизнь обусловливается состоянием мозга?» Вопросом этим брошено было подозрение, что психиатрия в ее последних словах есть наука материалистическая и что, склонившись к выводам психиатров, мы дадим на суде место «материалистическому» мирообъяснению. Нельзя не признать уместность вопроса, ибо правосудие не имело бы места там, где царило бы подобное учение, но вместе с тем, надеюсь, что вы не разделите того обвинения против науки, какое сделано во вчерашнем вопросе господина председателя. В области мысли действительно существуют, то последовательно, то рядом два диаметральных объяснения человеческой жизни – материалистическое и спиритуалистическое. Первое хочет всю нашу духовную жизнь свести к животному, плотскому процессу. По нему, наши пороки и добродетели – результат умственного здоровья или расстройства органов. По второму воззрению – душа, воплощаясь в тело, могуча и независима от состояния своего носителя.
Ссылаясь на примеры мучеников, героев и т. п., защитники этой последней теории совершенно разрывают связь души и тела. Но если против первой теории возмущается совесть и ее отвергнет ваше нравственное чувство, то и второе не устоит перед голосом вашего опытом богатого здравого смысла. Допуская взаимодействие двух начал, но не уничтожая одно в другом, вы не впадете в противоречие с самым высшим из нравственных учений, христианским. Это возвысившее дух человеческий на подобающую высоту учение само дает основания для третьего, среднего между крайностями воззрения. Психиатрия, заподозренная в материалистическом методе, главным образом стояла за наследственность душевных болезней и за слабость душевных сил при расстройстве организма прирожденными и приобретенными болезнями.
В библейских примерах (Ханаан, Вавилон и т. п.) защита доказывала, что наследственность признавалась уже тогда широким учением о милосердии, о филантропии путем материальной помощи, проповедуемой Евангелием. Защита утверждала то положение, что заботой о материальном довольстве страждущих и неимущих признается, что лишения и недостатки мешают росту человеческого духа: ведь это учение с последовательностью, достойной всеведения Учителя, всю жизнь человеческую регулировало с точки зрения единственно ценной цели, цели духа и вечности.
Те же воззрения о наследственности сил души и ее достатков и недостатков признавались и историческим опытом народа. Защитник припомнил наше древнерусское предубеждение к Ольговичам и расположение к Мономаховичам, оправдывавшееся фактом: рачитель и сберегатель мира Мономах воскрешался в род его потомков, а беспокойные Ольговичи отражали хищнический инстинкт своего прародича. Защитник опытами жизни доказывал, что вся наша практическая мудрость, наши вероятные предположения созданы под влиянием двух аксиом житейской философии: влияния наследственности и материальных плотских условий в значительной дозе на физиономию и характер души и ее деятельности.
Установив точку зрения на вопрос, защитник прочел присяжным страницы из Каспара, Шюлэ, Гольцендорфа и др., доказывающих то же положение, которое утверждалось и вызванными психиатрами. Особенное впечатление производили страницы из книги доктора Шюлэ, из Илленау «Курс психиатрии» о детях-наследственниках. Казалось, что это не из книги автора, ничего не знающего про Прасковью Качку, а лист, вырванный из истории ее детства. Затем началось изложение фактов судебного следствия, доказывающих, что Прасковья Качка именно такова, какой ее представляли эксперты в период от зачатия до оставления ею домашнего очага.
Само возникновение ее на свет было омерзительно. Это не благословенная чета предавалась естественным наслаждениям супругов. В период запоя, в чаду вина и вызванной им плотской сладострастной похоти, ей дана жизнь. Ее носила мать, постоянно волнуемая сценами домашнего буйства и страхом за своего грубо-разгульного мужа. Вместо колыбельных песен до ее младенческого слуха долетали лишь крики ужаса и брани да сцены кутежа и попоек. Она потеряла отца будучи 6 лет. Но жизнь от того не исправилась. Мать ее, может быть, надломленная прежней жизнью, захотела пожить, подышать на воле, но она очень скоро вся отдалась погоне за своим личным счастьем, а детей бросила на произвол судьбы. Ее замужество за бывшего гувернера ее детей, ныне высланного из России, Битмида, который моложе ее чуть не на 10 лет; ее дальнейшее поглощение своими новыми чувствами и предоставление детей воле судеб; заброшенное, неряшливое воспитание; полный разрыв чувственной женщины и иностранца-мужа с русской жизнью, с русской верой, с различными поверьями, дающими столько светлых, чарующих детство радостей; словом, семя жизни Прасковьи Качки было брошено не в плодоносный тук, а в гнилую почву. Каким-то чудом оно дало – и зачем дало?– росток, но к этому ростку не было приложено заботы и любви: его вскормили и взлелеяли ветры буйные, суровые вьюги и беспорядочные смены стихий. В этом семействе, которое, собственно говоря, не было семейством, а механическим соединением нескольких отдельных лиц, полагали, что сходить в церковь, заставить пропеть над собой брачные молитвы значит совершить брак. Нет, от первого поцелуя супругов до той минуты, когда наши дети, окрепшие духом и телом, нас оставляют для новых, самостоятельных союзов, брак не перестает быть священной тайной, высокой обязанностью мужа и жены, отца и матери, нравственно ответственных за рост души и тела, за направление и чистоту ума и воли тех, кого вызвала к жизни супружеская любовь.
Воспитание было, действительно, странное. Фундамента не было, а между тем, в присутствии детей, и особенно в присутствии Паши, любимицы отчима, не стесняясь, говорили о вещах выше ее понимания, осмеивали и осуждали существующие явления, а взамен ничего не давали. Таким образом, воспитание доразрушило то, чего не могло разрушить физическое нездоровье. О влиянии воспитания нечего и говорить. Не все ли мы теперь плачемся, видя, как много бед у нас от нерадения семейств к этой величайшей обязанности отцов? В дальнейшем ходе речи были изложены, по фактам следствия, события от 13 до 16 лет жизни Качки. Стареющая мать, чувствуя охлаждение мужа, вступила в борьбу с этим обстоятельством. При постоянных переездах с места на место, из деревни то в Петербург, то в Москву, то в Тулу, ребенок нигде не может остаться, освоиться, а супруги между тем поминутно в перебранках из-за чувства. Сцены ревности начинают наполнять жизнь Битмидов. Мать доходит до подозрений к дочери и, бросив мужа, а с ним и всех детей первого брака, сама уезжает в Варшаву. Проходят дни и годы, а она даже и не подумает о судьбе детей, не поинтересуется ими.
В одиночестве, около выросшей в девушку Паши, Битмид-отчим, действительно, стал мечтать о других отношениях. Но когда он стал высказывать их, в девушке заговорил нравственный инстинкт. Ей страшно стало от предложения и невозможно долее оставаться у отчима. Ласки, которые она считала за отцовские, оказались ласками мужчины-искателя; дом, который она принимала за родной, стал чужим. Нить порвалась. Мать далеко... Бездомная сирота ушла из дому. Но куда, к кому?.. Вот вопрос.
В Москве была подруга по школе. Она – к ней. Там ее приютили и ввели в кружок, доселе ею неведанный. Целая кучка молодежи живут, не ссорясь, читают, учатся. Ни сцен ее бывшего очага, ни плотоядных инстинктов она не видит. Ее потянуло сюда. Здесь на нее ласково взглянул Байрашевский, выдававшийся над прочими знанием, обстоятельностью. Бездомное существо, зверек, у которого нет пристанища, дорого ценит привет. Она привязалась к нему со всем жаром первого увлечения. Но он выше ее: другие его понимают, а она нет. Начинается догонка, бег; как и всякий бег – скачками. На фундаменте недоделанного и превратного воспитания увлекающаяся юность, увидевшая в ней умную и развитую девушку, начинает строить беспорядочное здание: плохо владеющая, может быть, первыми началами арифметики садится за сложные формулы новейших социологов; девушка, не работавшая ни разу в жизни за вознаграждение, обсуждает по Марксу отношения труда и капитала; не умеющая перечислить городов родного края, не знающая порядком беглого очерка судеб прошлого человечества, читает мыслителей, мечтающих о новых межах для будущего. Понятно, что звуки доносились до уха, но мысль убегала. Да и читалось это не для цели знания: читать то, что он читает, понимать то, что его интересует, жить им – стало девизом девушки. Он едет в Питер. Она – туда. Здесь роман пошел к развязке. Юноша приласкал девушку, может быть, сам увлекаясь, сам себе веря, что она ему по душе пришлась. Началось счастье. Но оно было кратковременно. Легко загоревшаяся страсть легко и потухла у Байрашевского. Другая женщина приглянулась, другую стало жаль, другое состояние он смешал с любовью, и легко и без борьбы он пошел на новое наслаждение.
Она почувствовала горе. Она узнала его. В словах, которые воспроизвести мы теперь не можем, было изложено, каким ударом было для покинутой ее горе. Кратковременное счастье только больнее, жгучее сделало для нее ее пустую, бесприютную, одинокую долю. Будущее с того шага, как захлопнется навсегда дверь в покой ее друга, представлялось темным, далеким, не озаренным ни на одну минуту, неизвестным. И она услыхала первые приступы мысли об уничтожении. Кого? Себя или его – она сама не знала. Жить и не видеть его, знать, что он есть и не мочь подойти к нему – это какой-то неестественный факт, невозможность. И вот, любя его и ненавидя, она борется с этими чувствами и не может дать преобладание одному над другим.








