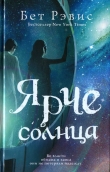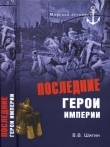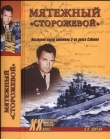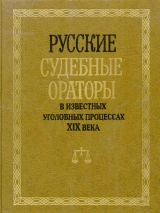
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 90 страниц)
Вслед за этим господин обвинитель перешел ко второй группе, которую он назвал «Пеговскою», и начал с подложных векселей, выданных Пеговым, предварительно охарактеризовав личность подсудимого Пегова.
Людей, окружавших Пегова, господин обвинитель разделил на две категории: «С одной стороны, жадные ростовщики, ищущие удобного случая поживиться на счет ближнего вообще, а от молодых людей в особенности таковы; подсудимые богатый купец Фирсов и бывший черниговский городничий, горбатовский окружной начальник и отставной штаб-ротмистр Жердецкий. Другая категория – это молодые люди, нуждающиеся в деньгах и не всегда разборчивые в способах для их добывания». Затем господин обвинитель сделал несколько общих замечаний, касающихся всех подсудимых по этому делу, а именно: он остановился на разрешении общего вопроса о том факте, что подсудимые, принимая и пуская в обращение векселя Пегова, знали об их подложности. По мнению обвинителя, не было возможности не знать этого, и вот по каким причинам: Пегов в то время, как выдавал векселя, был несовершеннолетним и очень моложав на вид; изгнание его из родительского дома ясно доказывало разрыв между Пеговым и его отцом; кроме того, известно было, что Пегов-отец не только не выдавал никому доверенности на право кредитоваться его именем, но даже и сам никогда векселей не выдавал».
Изложив улики против Жардецкого, Фирсова и Массари (Пегов сознался в их подлоге), г. обвинитель коснулся в нескольких словах и положения Поливанова в настоящем деле.
«Поливанов, сын достаточных и пользующихся общим уважением родителей, в настоящее время занимает совершенно не соответствующее ему место. Привлечение его по настоящему делу есть результат не совсем осторожного знакомства с людьми, подобному Пегову, о каковом знакомстве, вероятно, немало сожалел в последние годы и сам Поливанов». Отметив сдержанность и скромное поведение Поливанова на суде, а также и простоту, с которою он поддерживал на суде свои объяснения, данные на предварительном следствии, г. обвинитель тем не менее полагал, что сообщество с дурными людьми бросает на Поливанова некоторую тень, и поддерживал против него обвинение в том, что он принял и учел за 25 руб. вексель Пегова в 4 тысячи рублей, подписанный им, Пеговым, по доверенности отца, зная, что тот не писал такой доверенности. Ссылаясь на показание Жардецких и Абрамова, г. товарищ прокурора считал доказанным это заявление, не утверждая, однако, чтобы Поливанов имел какую-нибудь выгоду при учете векселя за 25 рублей.
Рассмотрев затем обвинение против Пегова в ограблении повара Васильева и похищении сумки с 50 тысячами рублей, обвинитель пришел к заключению, что Пегов последним делом завершил свое нравственное падение. «Молод он,– сказал обвинитель,– но старо в нем преступное направление, стара в нем опытность, перед ним теперь только одна дорога!» В обстоятельствах дела обвинитель не усмотрел ни одного мотива не только для оправдания подсудимого, но и для оказания ему снисхождения. «Только ваш строгий приговор,– заключил он,– может что-нибудь сделать для Пегова».
После Пеговских дел обвинение перешло к делам «арестантской группы». «Дела эти,– заметил г. обвинитель,– возникли и развивались в стенах Московского тюремного замка и являются типическим продуктом «старой русской тюрьмы», давно уже осужденной в законодательных сферах и ждущей со дня на день реформы. Я как представитель обвинительной власти в интересах истины должен заявить, что за высокими стенами тюремного замка совершается много такого, чего нельзя было бы ожидать. Какие можно придумать преграды, которые бы не пали под давлением сильной воли и неудержимых страстей! В тюрьме существует совершенно особый, своеобразный мир, вполне отделенный от мира общественного. В этом мире, отделенном высокою оградой от всего остального мира, весьма легко и удобно составляются преступные сообщества, о которых так много и так красноречиво рассказывал Щукин». Излагая первое дело из арестантской группы – дело о векселях Пятово – и поддерживая обвинение против Верещагина, Плеханова, Голумбиевского и Змиевой, г. обвинитель между прочим остановился на оговоре первыми двумя в написании текста векселя сосланного в Сибирь Лонцкого; этот оговор он объяснил желанием подсудимых набросить тень на беспристрастие судебного следователя и прокурорского надзора.
Затем господин прокурор приступил к обвинению по так называемому «банковскому» делу. Прежде всего он остановился на «роковой борьбе», происходившей на суде между Неофитовым и Щукиным. Не беря на себя разрешение этого спора, г. обвинитель предоставил его всецело судейскому разумению присяжных заседателей, ограничившись представлением некоторых доводов. Объяснения Неофитова он находил безусловно несправедливыми; что же касается рассказа Щукина, то в нем, по мнению обвинителя, было больше искренности, чем во всех подсудимых, вместе взятых. Не будь показания Муравлева и некоторых других данных, г. товарищ прокурора отказался бы вовсе от обвинения Щукина. Судьбу Щукиной обвинитель также всецело предоставил усмотрению присяжных. Против всех других подсудимых: Неофитова, Огонь-Догановского и Верещагина, г. прокурор поддерживал энергично обвинение в сбыте банковых билетов. Относительно Верещагина он, между прочим, заметил, что если признать справедливыми его объяснения на суде, то все же виновность его представляется доказанною: он сбывал билеты судебному следователю для облегчения своей участи, то есть ради личного интереса, и потому один подлежит ответственности.
После краткого обвинения по делу о краже у Яфа, направленного против Голумбиевского-Бобка и Чистякова, обвиняемого в укрывательстве этой кражи, г. обвинитель перешел к обвинению Огонь-Догановского и Долгорукова в мошенническом обмане 20 лиц, нанятых с залогами. Признавая участие Долгорукова второстепенным, г. обвинитель с особенною силой остановился на обвинении Огонь-Догановского, находя в его действиях признаки высшей преступности и испорченности.
Наконец, господин обвинитель изложил обвинение по Артемьевскому делу (кража и обман) против Николая Калустова, Дмитриева-Мамонова, Соколовой и Засецкого. Обвинитель в особенности отметил бьющее в глаза ухарство, с которым Калустов давал свои объяснения на суде. Сопоставив простые, чистосердечные показания Артемьева с объяснениями подсудимых, обвинитель указал на полную несостоятельность последних. Назвав поступки обвиняемых одним из возмутительных разоблачений человеческой природы, свое обвинение их г. обвинитель заключил так: «Засыпкин в своем объяснении сказал, что знал Дмитриева-Мамонова, когда тот служил в гусарах, именно в то время, когда он имел доступ в лучшее общество. Мамонов, по словам Засыпкина, воспитанный в привычках прежней барской жизни, подобно большинству нашей молодежи, неспособен был к труду и жил свыше своих средств. Этот отзыв бросает некоторый свет на настоящее дело... Но пало крепостное право, так пусть падут также и порожденные им исчадия!»
Речь господина обвинителя дошла до разбора преступлений, учиненных в 1874 году. Но прежде чем перейти к этим делам, г. обвинитель уделил по нескольку слов на обвинение Протопопова и Массари в подделке векселей от имени Ивашкиной и на дело о растрате Дмитриевым-Мамоновым 125 рублей, принадлежавших Калустову. Относительно первого дела обвинитель обратил особенное внимание присяжных на то, что Ивашкина, от имени которой были подделаны векселя, попечительница детей Протопопова и единственная их опора и защита. Что же касается второго дела, то оно, по словам обвинителя, в настоящем процессе играет роль небольшого вставного эпизода, весьма характерного для личности Дмитриева-Мамонова. Он на суде несколько раз выражал недоумение, что против него возбуждено обвинение в растрате денег Калустова, который не заявляет никакой претензии относительно этих денег и не считает себя потерпевшим лицом. Но напрасно Дмитриев-Мамонов так настойчиво выставляет эту сторону дела: дела о растрате рассматриваются и преследуются помимо частной жалобы. Характерно же то, что деньги эти Калустов дал Мамонову для вознаграждения Артемьева, которого они вместе за несколько времени до того обокрали; казалось бы, что эти 125 рублей должны были жечь руки Мамонову, но на деле ничего подобного не заметно: он, напротив, спешит истратить их на свои собственные развлечения.
Выдающимся из деяний, совершенных в 1874 году, должно считать обман Логинова. Обман этот получил свое осуществление под гостеприимною сенью гостиницы «Россия», что на Маросейке. Обвинитель заявил, что он не может обвинение по этому делу поддерживать в той форме, в какой оно занесено в обвинительный акт. «Как известно, лица, причастные этому обману, по обвинительному акту обвиняются в совершении его составленною для того шайкой. Но на судебном следствии предположение о шайке не подтвердилось, и потому в этом виде обвинение падает. От этого, конечно, не изменяется существо обмана, жертвой коего стал Логинов. Из данных судебного следствия вытекает лишь тот вывод, что окружавшая Дмитриева-Мамонова обстановка и приближенные к нему лица составляли, так сказать, летучую мошенническую компанию. Декорации, которыми располагал номер Дмитриева-Мамонова, не были постоянными украшениями, а пускались в дело в случае надобности, какая почувствовалась, например, для заключения договора с Логиновым о доставке несметного количества винных этикеток для произведений несуществующего винокуренного завода мнимого графа Дмитриева-Мамонова. Дмитриев-Мамонов отрицает, чтоб он принимал активное участие в этой сделке. С ним можно в этом согласиться; он действительно составлял лишь принадлежность мошеннической конторы, но это нимало не избавляет его от ответственности: он знал, для чего его сподвижники употребляли его имя, и принимал в их проделках в таком виде вполне сознательное участие. Неопровержимым доказательством последнего служит представленное в суде Барбеем письмо к нему Дмитриева-Мамонова, в котором говорится тоном богатого и сановного человека о имеющих последовать от него заказах сельскохозяйственных машин. Участие Смирнова в настоящем деле выясняется показанием пострадавшего Логинова: в богатстве и аккуратности Дмитриева-Мамонова уверял его не кто иной, как сам Смирнов».
Затем господин товарищ прокурора перешел к делу Каулина. «Ввиду сознания подсудимых на предварительном следствии об этом деле нечего было бы много говорить, если бы на суде Верещагин и Плеханов не пытались вынести всю тяжесть этого обвинение на своих многострадальных плечах. Обвиняемый Протопопов и тут не преминул указать на отсутствие потерпевших от преступления лиц, как будто от преступлений должен страдать только карман частных лиц, а интересы общества, нравственности, закона не должны иметь при этом никакого значения. В настоящем деле в числе привлеченных к ответственности фигурирует Андреев, который, по-видимому, чувствует себя гораздо более оскорбленным тем, что в обвинительном акте он назван странствующим антрепренером Аверино, нежели всеми позорными преступлениями, в которых он обвиняется. Дело Каулина дает основание думать, что высказанные Андреевым в найденном у него прошении на имя петербургского прокурора признания в том, что он поставил себе целью испытать неоткрытые полицией и прокурорским надзором лазеи нового порядка судопроизводства, и в том, что он на этом таинственном пути в течение двух лет совершил около 85 преступлений,– что эти признания заключают в себе долю правды. Восьмидесяти пяти преступлений он, вероятно, не совершил, некоторая доля этого количества лежит на его совести».
Сказав несколько слов по делу об отправлении через транспортные конторы пустых сундуков, обвинитель перешел к подложным векселям от имени князя Голицына. «При определении степени виновности многих лиц, привлеченных по этому делу, нельзя не остановиться на том оправдании, которое приводит в свою пользу подсудимый Протопопов. Он говорит, что сама следственная власть заставила его добывать себе незаконными путями средства к жизни. Выпущенный из-под ареста, он должен был проживать по реверсу, выданному ему следователем; а с этим видом на жительство он будто бы нигде не мог найти себе приюта; при этом Протопопов выражал удивление, почему следователь нашел нужным применить к нему самую строгую меру пресечения способа уклоняться от следствия, и почему он не мог довольствоваться для этого полицейским надзором. По этому поводу следует категорически сказать, что полицейский надзор в подобных случаях не имеет никакого значения и фактически сводится к нулю. Что же касается путей и средств, которые оставались еще Протопопову для честной жизни, то лучше было идти на поденную работу, бить камни или чинить мостовую, нежели доставать при помощи подложных векселей 9 тысяч рублей, из коих 900 рублей тут же были употреблены на покупку мягкой мебели». Поддерживая далее обвинение против Дружинина и Никитина, г. товарищ прокурора почти отказался поддерживать обвинение против г-жи Шпейер. «Виновность ее в настоящем деле, по его словам, чисто формальная, но нравственная сторона говорит вполне в ее пользу; она действительно стала жертвой несчастного стечения обстоятельств; на эту сторону, конечно, будет в свое время указано присяжным защитой».
Рассказав в кратких словах остальные обвинения, г. товарищ прокурора повторил высказанный им еще на судебном следствии отказ от обвинения Долгорукова в обмане Гарниш.
После этого оставалось еще разобрать обвинение в кощунстве. «На суде это дело,– как выразился обвинитель,– появилось в довольно бледном цвете вследствие отсутствия души этого дела – Шпейера. Кощунское подражание скорбному таинству смерти тем не менее вполне доказано. Если подсудимые хотят выдавать это за шалость, то это само указывает на кощунский характер их поступка. Совершили они его из молодечества, чтобы показать, что нам, мол, все нипочем, все сойдет безнаказанно. Но это поведение должны заклеймить своим обвинительным приговором присяжные, дабы и другим неповадно было так делать. При этом присяжным нечего стесняться тем, что это деяние совершено подсудимыми в состоянии опьянения: закон наш предусматривает такие случаи, и под эту статью и подведено в обвинительном акте настоящее преступление».
За рассмотрением всех отдельных обвинений господин обвинитель приступил к обвинению в составлении некоторыми из подсудимых в разное время трех злонамеренных шаек. «Против этого обвинения уже на судебном следствии раздавались со стороны подсудимых и их защитников неоднократные протесты. В этих протестах кроется простое недоразумение. Недоразумение это происходит вследствие смешения понятия о шайке нашего уголовного закона с фантастическим представлением о каком-то «клубе червонных валетов», но, как было уже сказано, это романическое название не имеет ничего общего с простым понятием о русской шайке. По понятию нашего законодательства, шайкой называется такое злонамеренное сообщество, состоящее из нескольких лиц, не менее трех, которые уговаривались между собою на совершение преступлений. При этом надо различать два вида шайки. Первый, когда лица условливаются на совершение одного только преступления, но условливаются об этом таким образом, что роль каждого из участников определяется наперед; тут существует также соразмерное распределение добычи. Другой вид шайки, предусматриваемый нашим Уложением, тот, где лица условливаются не на совершение какого-либо определенного преступления, а просто на совершение преступлений; здесь достаточно, чтоб эти условленные преступления были определены только в роде, например, против собственности, и не требуется никакой определенной заранее организации. В составлении последнего рода шаек обвиняются некоторые из подсудимых за различные периоды времени. Что эти лица твердо решили между собою опустошать чужие карманы, в этом не может быть никакого сомнения. Что эти преступления совершались по общему и предварительному соглашению, в этом можно убедиться, по отношению к первой шайке, например, по письму Протопопова к Шпейеру, где говорится о Калустове. О нем говорится, что хотя он человек и неумный, но работник хороший; если он не особенно проницателен, то зато человек исполнительный. Смысл этих слов только один, и именно тот, который видит в них обвинение. Не может также подлежать сомнению, что лица, обвиняемые по делам о векселях Ивашкиной, Каулина и Голицына, об отправлении пустых сундуков через транспортную контору, по делам об обмане Наджарова и Логинова, уговорились между собою жить подлогами и мошенничеством. Что же касается третьей шайки, составившейся в 1874 году в тюрьме с целью подделывать банковые билеты, то о ней перед присяжными с неподдельным красноречием распространялся на суде подсудимый Щукин».
Затем обвинитель заключил так: «Немного остается говорить обвинению. Смею думать, что насколько хватило сил и было возможно – задача его исполнена. Доказано совершение всех преступлений, составляющих предмет дела, доказана виновность тех, которые их совершили, доказана и настоятельная, неопровержимая необходимость того, чтобы виновные, все без изъятия, каждый по мере содеянного, были осуждены возмущенной общественной совестью. Моя задача исполнена – скоро наступит время исполнения вашей, скоро, как только смолкнет сейчас имеющий раздаться гул красноречивых речей моих уважаемых противников. И вот когда в вашей совещательной комнате пробьет час подсудимых и будет решаться их участь вместе с участью всех тех великих истин, которые ими попраны, оскорблены и нарушены, в последнюю решительную минуту, когда ваши совещания будут приближаться к концу, вспомните мою последнюю просьбу, обращенную к вам. Перед тем, как рука вашего старшины станет писать на вопросном листе роковые ответы, окиньте еще раз мысленным взором картину всего того, что в этой зале прошло перед вами, того, что вы узнали о преступлениях подсудимых, отданных вам на суд. Непривлекательною, мрачною и возмутительною предстанет перед вами нравственная ее сторона. Чего не увидите вы в ней! Забвение всех правил совести и чести, безмерная потеря способности краснеть перед тем, что дурно и постыдно, сознательная и спокойная бесчестность везде и во всем, торг всем, чем можно торговать с какою-либо выгодой, холодный и презрительный цинизм в самых безнравственных поступках, расчетливая, твердая решимость идти по всяким темным путям, ко всякой темной цели, готовности при всяком удобном случае отнять у ближнего что можно, а бедняка хоть пустить по миру. Тонкий ум, изобретательность неисчерпаемая, ловкость на все преступное, или же бессилие и безучастность на все хорошее, извращение всех нормальных человеческих стремлений и глубоко испорченное воображение в довольстве жизни самого дикого разгула и самой грубой чувственности, мелкое тщеславие и безумная, не знающая пределов дерзость перед тем, что скрыто в беде и скудности, малодушное предательство товарищей и трусость – и под страшной цепью этих страшных свойств, поставляющих владычество одной могучей, всеобъемлющей корысти, жажды денег и наслаждений низкого разбора.
Горько и безотрадно это зрелище поклонения золотому тельцу, вид людей, всю жизнь свою распростертых во прахе пред ним, все для него оставивших, все отвергнувших и забывших. Негде в этой картине остановиться мысли, тщетно ловящей хоть проблеск света, не на чем отдохнуть возмущенному и негодующему чувству,– все безутешно и сухо, и для добра все глухо и мертво. Но не останавливайтесь, милостивые государи, исключительно на этой ужасающей в своей наготе и ясности нравственной стороне дела, не сосредоточивайте только на ней ваших суждений, не кладите ее одну в основание вашего приговора,– не делайте этого, потому что тогда в вашем суждении чувство возьмет перевес над рассудком, человек заслонит собою судью – и вы не будете уже в ограниченной области судебной истины. Пусть перед вами с решающей и первенствующей силой предстанет другая главная сторона выслушанного вами дела,– сторона фактическая, законная сторона, где господствует мрачная истина и простой здравый смысл, где выводы так ясны и просты, как вывод о том, что дважды два составляет четыре. Неутешительна для подсудимых и эта сторона, немного надежды дает она им. Они легко укладываются в числовые, почти статистические данные, в цифры, слагающиеся из фактов, неутешных в своей страшной наглядности. Их нельзя ни закрыть, ни сдвинуть с места, ни смягчить их жестокой души. Обвиняя всех подсудимых, кроме особо уваженных и исключенных, признавая их всех неразрывно и тесно связанными между собою, я считаю не лишним заключить свое изложение небольшою молчаливою аргументациею цифр, маленькою картиною чисел, тщательно и осторожно извлеченных мною из дела. Мне кажется, что гармония, которую они представляют, не будет лишена поучительности. Я тем более имею право привести эти данные, что сами подсудимые в течение всего судебного следствия усердно действовали на таком же пути. Они забросали нас числами, цифрами, суммами, они вводили нас в целый лес своих бесконечных взаимных долгов и расчетов, они приглашали нас погрузиться в самую глубину того, кто кому должен, и сколько должен, и почему задолжал, и у кого какие с кем были темные денежные дела, и кому сколько, с кого и за что приходится получить, кто с кого и за что именно требовал, и дал ли тот или не дал, зачел или вычел, на что именно нужны были деньги, и куда они употреблены, и что осталось еще неоплаченным, и какие из этого возникли взаимные отношения: дружба и преданность, раздоры, ненависть или вражда. Вы внимательно слушали эту огромную массу денежных и личных счетов, которыми были исполнены объяснения подсудимых в свое оправдание,– выслушайте теперь снисходительно и небольшой, хоть, может быть, и выразительный, последний расчет и обвинения. Если к колоссальному делу, нами исследованному, мы применим бесхитростное арифметическое счисление и при этом счислении условимся, как это требует и уголовный закон, каждый подложно составленный документ, каждый обман, совершенный над одним лицом, считать за отдельный подлог, отдельное мошенничество и условимся, кроме того, к потерпевшим причислять всех тех, доброе имя которых было затронуто подлогами от их имени, а обобранными будем считать только тех, которые действительно тяжко пострадали в материальном отношении, мы увидим, что на последней, конечной странице общественного поприща соединенных вместе подсудимых написано: подложных векселей – 23, переделанных банковых билетов – 4, разных подложных казенных нотариальных бумаг – 4, итого всего подлогов– 31. Обманов, мошенничеств на сумму более 300 рублей – 15, мошенничеств на сумму менее 300 рублей – 14, вовлечений посредством обмана в невыгодные сделки – 13, итого всех мошенничеств – 42, из них обманов с особыми приготовлениями, т. е. со сложной мошеннической обстановкой – 22. Краж – 4, из них с подобранными ключами – 1, на сумму 50 тысяч рублей, 1 – с наведением похитителей на дом своего хозяина, растрата – 1, грабеж – 1, кощунство —1, шаек, составленных для краж, подлогов и обманов – 4 и в заключение одно убийство. Преступления направлены против собственности – все, кроме трех – оскорбления должностного лица, кощунства и убийства.
Всех потерпевших, не считая в этом числе нескольких подсудимых,– 59. Из них обобранных, частью в своем избытке и частью в своем последнем достоянии,– 49 человек. Таков короткий и простой расчет, который обвинение составило и представляет вам на основании 9-летней деятельности подсудимых. По этому исследованному расчету, именем закона и правосудия, я приглашаю их к расплате пред вашим справедливым судом».
Поверенный торгового дома «Г. Волкова сыновья» Невядомский, обратив внимание присяжных заседателей на дело о составлении подложного векселя с бланком князя Голицына, учтенного в конторе торгового дома Волковых, и указав на признание всеми подсудимыми факта подлога, на бесспорность его, доказывал, что в подлоге этого векселя принимали участие, кроме Протопопова, Верещагина, Плеханова и Понасевича, сознавшихся в этом, также Дружинин и Мейерович, хотя они и отвергали на судебном следствии какое-либо участие свое в этом деле. Протопопов, получив от торгового дома деньги и употребив их на отделку своей квартиры и на разные, как он называл, «коммерческие» предприятия, не забыл поделиться ими со своим главным помощником Дружининым, который и купил после того себе Смоленское имение. Совокупными стараниями этих шестерых лиц был совершен подлог, причинивший Волковым значительные убытки.
Защитник Давыдовского присяжный поверенный Томашевский начал так: Господа присяжные заседатели! Задолго до рассмотрения настоящего дела, когда предварительное следствие находилось в таком положении, что никто из принимавших участие в производстве оного не мог предсказать, до каких размеров оно разрастется, кто из обвиняемых будет привлечен к суду и по каким именно преступлениям, в нашей прессе появились статьи об открытии общества, преступная деятельность которого, выражаясь словами обвинительного акта, направлялась преимущественно против чужой собственности, но подчас не щадила и жизни частных лиц. От времени до времени знакомя нас с успехами следствия, пресса упоминает о Шпейере как о кассире общества; самое же общество именует «клубом червонных валетов». Преступное проявление человеческой воли нас не поражает. И в шестидесятых годах мы также были свидетелями громких процессов. В деле студента Данилова, Матовском, Кошкинском преступная воля проявлялась не менее, чем в деле игуменьи Митрофании и многих других, перечислять которые считаю излишним. Но дело «клуба червонных валетов» приковало наше внимание как своей организацией, так и названием, исходившим, по словам свидетеля Дмитрия Мамонова, от судебного следователя по особо важным делам.
Но сколько истина не затемнялась, она рано или поздно должна была всплыть наружу, и действительно всплывает на судебном следствии. Не проходит и недели со дня открытия заседания, как «клуб червонных валетов» оказывается фантазией, а гениальные преступники – обыкновенными людьми, рыщущими по Москве с целью отыскания средств к существованию, и при этом настолько слабыми, что из эгоистических целей не щадят своих братьев по несчастью, являясь их главными обличителями. Итак, клуб валетов исчезает, а с ним вместе и интерес самого процесса; не умаляется лишь поучительность. Она слагается из тех особенностей, на которые обращено внимание ваше прокурорскою властью, но которые на мой взгляд представляются в ином виде. Первая из особенностей – это совместное рассмотрение дел. По мнению прокурора, совместным рассмотрением ускорилось окончание их, но я держусь безусловно противоположного мнения; я полагаю, что большинство дел, рассмотренных порознь и своевременно, давно сданы были бы в архив, и вы, представители общественной совести, могли бы воспользоваться большим материалом при раскрытии истины, чем пользуетесь в данную минуту. Постараюсь высказаться. Вы выслушали свидетельские показания, но еще более приходилось вам слушать чтение документов, протоколов, справок, в числе которых – показания не явившихся свидетелей занимали не последнее место. К какому заключению привело вас чтение показаний не явившихся свидетелей? Способствовало ли оно к разъяснению истины? Нисколько. Достоинства этих показаний оценить вы не в силах. Вспомните показания свидетеля Попова. Какими вескими представляются они по протоколам предварительного следствия и как мало веры дает им даже прокурорская власть после допроса этого свидетеля. Но отчего же происходит перемена? Что случилось особенного с Поповым? Перемены в нем нет никакой; он остается тем же эксплуататором Поповым, каким является и на предварительном следствии; но разница лишь в том, что под перекрестным допросом он вынужден был сознаться в своем увлечении и поселить к себе недоверие присяжных. Прокурор, возлагавший на него свои надежды, вынужден был причислить его к разряду свидетелей сомнительных, и для защиты он уже не опасен. Но то ли было бы, если бы за дальней его отлучкой пришлось вам познакомиться с его показаниями по прочтенному протоколу предварительного следствия? Его обличения имели бы цену, и вы были бы введены в заблуждение. Напомню кстати вам и о том свидетеле, который сознался на суде, что ничего не знает и давал показания у следователя после двухдневного ареста. Разница, как видите, очевидная. Видя пред собой свидетеля, вы воочию можете проверить достоинство его показаний, а слушая чтение, вы принимаете их на веру. Итак, если бы дела рассматривались несколько лет тому назад, то свидетели умершие, безвестно отсутствующие, а равно находящиеся в дальней отлучке, явились бы лично и могли бы дать дополнительные ответы, а теперь мы вынуждены в ущерб истине ограничиваться чтением показаний, мало разъясняющих дело. Ввиду этой особенности я считаю необходимым обратиться к вам с просьбой: если при разрешении вопроса о виновности или невиновности подсудимых вы встретите обстоятельство неразъясненное, не ставьте это в вину подсудимых, они в этом неповинны. И закон, и справедливость предписывают всякое сомнение объяснять в пользу подсудимых.
«Все соучастники судятся вместе»,– говорит прокурор и этим соображением думает оправдать также совместное рассмотрение дел. Но разрешение Московской судебной палаты выделить дело по обвинению Султан Шаха служит доказательством противного, тем более, что это разрешение последовало по открытии заседания по настоящему делу. Обращаясь затем ко второй особенности настоящего процесса – к подсудимым сыщикам, являющимся по настоящему делу свидетелями, я не могу не сказать о них несколько слов. Прокурорская власть причисляет их к разряду свидетелей, более чем сомнительных, и просить вас не придавать им большого значения. Расходясь с прокурором во взгляде по этому вопросу, я прошу обратить ваше внимание на подкрепление этими лицами своих показаний. Вспомните Протопопова, чистосердечно сознавшегося, что оговор Башкировой Давыдовского в подстрекательстве к убийству Славышенского совершился при его участии, согласно инструкциям г. Симонова. Он указывает на свободу, которой его соблазняли, и на судебном следствии выяснилось, что вслед за подписанием Протопоповым протокола допроса, коим уличался Давыдовский в подстрекательстве, он, Протопопов, тотчас же освобождается из-под стражи. А Верещагин и Голумбиевский? Эти свидетели откровенно сознались, что из-за дорогой всем свободы согласились разыскивать небывалых военного и штатского и по необходимости указали на первого встречного – Барановского. Привлечение этого лица к делу признано обвинителем, и тем самым их показания подкрепляются фактами. Я верю этим людям безусловно, несмотря на их небезупречное прошлое, и вас прошу удержать их показания в вашей памяти. Само собой разумеется, что к их помощи прибегали по необходимости. Судебный следователь, не видя подмоги от лиц, обязанных помогать ему при раскрытии следов преступления и личностей обвиняемых, по необходимости прибегает к средствам побочным, коих оправдать нет возможности, но участие этих лиц при производстве следствия в качестве сыщиков и свидетелей не подлежит сомнению. Укажу вам еще на одну особенность настоящего процесса – на отношение подсудимых к властям. На судебном следствии обвиняемыми и свидетелями было заявлено, что Дарья Никифорова получала от судебного следователя Глобо-Михаленко вспомоществование. Никифорова этого факта не отрицает, объясняя, что она находилась в такой крайности, что не только судебный следователь, но даже и товарищ прокурора ей помогал. Итак, не подлежит сомнению, что Никифорова, обвиняемая в качестве пособницы по делу об убийстве Славышенского, пользовалась денежным пособием от лиц, производивших следствие и наблюдавших за производством оного. Я нисколько не сомневаюсь в добросовестности этих лиц, я убежден, что лишь чувство сострадания руководило ими при оказании помощи Никифоровой, но... вот это-то я объясняю вам примером. Не так давно вся Россия была одушевлена сбором в пользу Славян. Собирали пожертвования ветераны-генералы, собирали дамы высшего круга. Это воодушевление охватило и провинции, и вот некий исправник или становой, хорошо не запомню, собрав с крестьян 600 рублей, препроводил в Славянский Комитет. Казалось бы, что в этом нет ничего предосудительного. Становой мог искренно сочувствовать славянскому движению, но... общественное мнение посмотрело на этот факт иными глазами и пресса со своей стороны не осталась безмолвной. «При виде станового, писалось в журналах, каждый крестьянин невольно, из угождения к власти, жертвовал более, чем уделил бы при сборе лицом, ему посторонним, и таким образом добровольное приношение обращалось в вынужденное». «Каждый, гласили журналы, мог явиться сборщиком, но только не становой». Каждый, скажу я в свою очередь, мог помогать Никифоровой, но только не судебный следователь и не товарищ прокурора. Особенные отношения должны бы этому воспрепятствовать! Хорошо, если Никифорова ограничилась бы принятием вспоможения, а что, если под влиянием необходимости она пожелала бы оказать следователю услугу и тем самым снова добиться вспомоществования? Как отразилась бы эта услуга на участи многих из обвиняемых? Можем ли мы поручиться, что Никифорова не уподобилась бы Протопопову и не оговорила бы неповинных?