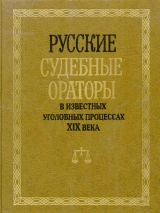
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 70 (всего у книги 90 страниц)
Летом на даче Борис делает Дорвойдту такое предложение: «После отца,– говорит он,– остались небольшие средства, которые должны достаться ему; эти деньги – собственное сбережение отца, которые удалось припрятать от властей; ввиду предстоящей продажи имения и ликвидации дел отца по семейному уговору и согласию деньги в количестве более пяти тысяч приходятся на долю его, Бориса». «Жить на эти деньги нельзя,– продолжает Борис,– дела я никакого не знаю, вот если бы вы, Дорвойдт, завели свое дело, я был бы у вас на службе, приучился бы к бухгалтерии; возьмите у меня эти деньги, будет и вам и мне кусок хлеба». Дорвойдт сначала отказывается рисковать последними, по его мнению, средствами Бориса, но сдается на его доводы, принимает от Бориса 5 тысяч 800 рублей, не сразу, а по частям передаваемые Борисом, и не сторублевыми, а процентными бумагами и мелкими кредитками. Что Дорвойдт, принимая первые деньги, не знал о их происхождении, об этом свидетельствует и Борис, и к свидетельству его надо относиться с доверием, если вспомним отзыв о Борисе судебного следователя Сахарова. Борис, по его словам, был так откровенен, что как из рога изобилия сыпались от него правдивые показания; ведь не пощадил же он «ни сестер, ни дяди, ни тетки, ни любимой девушки-невесты»; для чего же щадить Дорвойдта и скрывать что-либо, если бы дело было не так. Во-вторых, Борис и Дорвойдт были арестованы одновременно, разобщены и были допрошены порознь; между тем, ни в одной точке показания их не противоречат друг другу, следовательно, они правдивы. Об обстоятельствах вручения первых денег Дорвойдту говорил и присяжный свидетель Милюков. Если вспомним, что Мельницких считали гораздо богаче, чем они были на самом деле, то что удивительного, что несколько легкомысленный и доверчивый Дорвойдт, приняв от Бориса небольшую сравнительно сумму, не подозревал об источнике их происхождения?
Дорвойдт не знал, что это не деньги, а горячие уголья, от прикосновения к которым сгорит все его счастье, рушится покой, улетит, как дым, его доброе имя и покроется оно пеплом бесчестья и позора.
Торговля вещь шаткая; предприятие, заведенное Дорвойдтом, вследствие падения цены на керосин в октябре 1882 года грозило лопнуть. Дорвойдт, более всего боясь погубить последние, по его мнению, деньги Бориса, мечется как угорелый и ищет, где бы занять денег, чтобы поддержать дело. В одно прекрасное утро приходит Борис, передает Дорвойдту пачку денег, говоря: «Этого довольно, здесь пять тысяч». «Здесь только я понял,– говорит на суде Дорвойдт,– что служило для меня источником средств этих и предыдущих. Я ничего не спросил у Бориса; его и мое смущение дали понять, что разговоры неуместны, дело было сделано, возврата не было. Идти и донести на Бориса и на себя я не мог», и не объясняет ни одним словом, почему он не мог, да и может ли Дорвойдт передать весь сложный психический процесс, который пережил он в это время. Какие мысли носились, как рой, в его голове, мысли, которые возникали, сталкивались, разбивались друг о друга, снова всплывали, нахлынув новой волной, и исчезали; какие чувства давили его грудь, этого не знает хорошо теперь и Дорвойдт, не можем вполне понять и мы. В нем говорили укоренившиеся симпатии к Борису, инстинктивное отвращение к роли доносчика; открывались и подтверждались догадки об участии в деле молодой девушки, сестры жены, Елены Блезе, мерещился суд над ней, над ним самим; понять всего происходившего в душе Дорвойдта мы не можем, а если бы могли, то поняли также, что винить за недонесение Дорвойдта так же нельзя, как винить разбитого параличом за то, что он не может встать с постели. Но если Дорвойдт не донес, то зачем ему было пользоваться этими вторыми деньгами? Дорвойдт рассуждал так, как рассуждали бы многие на его месте: ведь первые деньги истрачены, и их не воротишь, ликвидируя сейчас дело; быть может, говорил он, если я поправлю этими деньгами падающее дело и ликвидирую дело впоследствии, я возвращу Борису первые и вторые деньги, как это несомненно и хотел сделать Дорвойдт впоследствии.
Случилось здесь еще одно обстоятельство: вскоре после передачи денег Борис заболел тифом и денег принять от Дорвойдта не мог; Дорвойдт думает, а время уходит, и стрелка часов не поворотится назад. Да, человек с твердой волей решительно разорвал бы все отношения с Борисом и с деньгами; но верно сбылось над Дорвойдтом пророчество, которое он писал сам о себе, что в нем есть пружина, которая делает из него в важных случаях жизни положительно тряпку. А разве, с другой стороны, обрадовался он деньгам, спросил у Бориса об остальных, вытянул их у него, когда так легко мог это сделать, зная тайну его? Дорвойдт не проронил с этого момента ни одного слова с Борисом о деньгах; мысль о них сковывала ему язык. Как же можно ждать было от него решительного поступка?!
Дорвойдт уже преступник; в эти лихорадочные моменты Елена Блезе приносит ему в два приема два свертка со словами «спрячьте, ищут». Как же Дорвойдту было отвечать Елене Блезе – «не приму, ведаетесь, как хотите»; было бы довольно подло сказать это слабой девушке, когда Дорвойдт сознавал себя столь же преступным, как и она. Он прячет в тумбу 110 тысяч рублей, и этот факт выставляют как свидетельствующий об особой злонамеренности и обдуманности Дорвойдта. Я думаю наоборот: этот факт говорит о непонятной раздвоенности и расшатанности мысли его: он прячет очень искусно в тумбу 110 тысяч рублей, а другие 100 тысяч рублей с лишним оставляет в это-то время в полной небрежности в комоде, ключи от которого были даже в руках прислуги. Отчего было Дорвойдту не спрятать и этих других денег во вторую тумбу, если бы Дорвойдт действовал зрело, обдуманно. Нет, одной ногой он делал шаг, а другой судорожно останавливался. Не напоминает ли он наоборот пьяного всадника, который твердо держится ногами в стременах и опускает узду, пока не полетит вниз и не сломит головы? О ненормальности и расшатанности мыслей Дорвойдта говорят многие и другие обстоятельства: когда за ним уже следят, и об этом знают даже дворники, он один этого не зная, вместо того, чтобы увезти деньги куда-нибудь и спрятать так, что их не отыскать бы ни днем с огнем, ни ночью со свечой, он хранит их у себя дома, где должен отыскать их самый элементарный сыщик. Вместо того, чтобы отклонить от себя подозрение и прекратить хотя по виду отношения к Мельницким, он до самого дня обыска держит у себя в доме и магазине Варвару и Бориса.
Дорвойдт в это время думал совсем о другом: он думал, как бы уйти от денег и от дела, которые сделались ненавистны и невыносимы ему. Он заявляет категорически через Елену Борису взять у него деньги, которых не может далее держать; ему обещают, но обыск предупреждает обещание. Почувствовав отвращение к делу, узнав о средствах, на которые оно ведется, когда, по показанию Россыпного, у него опустились к нему руки, он занят одной мыслью: уйти во что бы то ни стало от этого дела. В декабре он сходится с Губониным; решено у них, что Дорвойдт вступает к нему на службу в начале января, и Россыпной свидетельствует о его искреннем намерении ликвидировать дело и уйти от него на службу к Губонину. В это время стучатся в дверь... обыск, выемка, арест. Обрадованные власти уходят, деньги найдены. Дорвойдт арестован. «Позвольте,– говорит он властям,– дело не все еще сделано»; никем не принуждаемый, нравственно не насилуемый, Дорвойдт добровольно ведет власти и открывает им в тумбе 110 тысяч, которых без него, по признанию самого протокола обыска, нельзя было бы открыть. Эти последние деньги Дорвойдт открыл сам. Прежде чем перейдем к вопросу, кто был истинной причиной открытия первых ста с лишним тысяч, посмотрим, насколько бесцеремонно или щепетильно относился Дорвойдт к этим средствам, особенно когда узнал об источнике их происхождения. Из прочитанных документов видно, что Дорвойдт, кроме трат по магазину, ни одной копейки не истратил на себя лично, не взял ни одной копейки себе в дом; семья содержалась доходами из школы его жены, так гнушался он этими деньгами. Документами, книгами, описью имущества доказано, что Дорвойдт ничего более 10 тысяч 800 рублей не затратил и в торговое дело, хотя мог затратить гораздо более. Нам говорят о недостающих деньгах; прежде чем говорить о недостаче денег, следовало бы точно установить, сколько их найдено. Во время следствия я подчеркнул одно обстоятельство, что выемка производилась не судебным следователем, а чиновниками сыскной полиции, и притом, вопреки закону, без понятых. Мне приписали выводы, которых я не делал; я только указал на факт, не высказывая никаких подозрений о действиях сыскной полиции; если указанный мною факт заслуживает внимания, сделайте сами вытекающие из него выводы.
Я сказал, что 110 тысяч открыл Дорвойдт сознательно и добровольно, но кто же открыл первые деньги? Уж конечно, не действия сыскной полиции, которая не заметила даже стоящих перед ее носом чучел с деньгами. Их тоже открыл сам Дорвойдт, и не удивляйтесь моему парадоксу: их открыло все поведение Дорвойдта, обусловленное инстинктивно бессознательными началами его души; все поведение его вело к тому, чтобы деньги были открыты. Из житейского опыта я убежден, что если вложены в человека добрые инстинктивные начала, то как бы ложная сознательная мысль не сводила его в сторону, в кривые дорожки, натура возьмет свое и выведет человека на прямую дорогу. Наоборот, вложены в человека злые инстинкты, не нужно много ума, чтобы обделать самое гнусное дело и спрятать концы в воду. Подвернись в это дело истинно подлый человек, он скрыл бы деньги так, что никогда не видать бы нам их; подвернись в дело распутный негодяй, и масса денег была бы растрачена. Не видя в явлениях жизни ничего мистического, но только выражаясь обыкновенным языком, я говорю: Провидению угодно было исправить вред, нанесенный обществу стариком Мельницким; оно подвернуло в дело не подлого, а слабого и по натуре доброго Дорвойдта, благодаря поведению которого деньги открыты. Судите его, как хотите; примите во внимание, что он не донес, что он воспользовался деньгами; но примите также и то, что он не воспользовался так, как мог бы воспользоваться настоящий злой человек, что он мог бы скрыть их, но натура ему претила. Примите во внимание также и то, что Дорвойдт до суда, до обвинения, до признания его гражданской ответственности отдал на удовлетворение Воспитательного дома все, что имел: магазин, личное имущество до последнего старого пальто и остался гол как сокол. Таков стоит перед вами человек в то время, когда кругом курятся фимиамы и справляются вакханальные пляски пред алтарями золотого тельца, когда каждый чуть ли не с детства усваивает правило житейского катехизиса, что «счастье только в деньгах». Перед вами не гений-герой, который смелой рукой разобьет эти нечестивые алтари и сожжет эти проклятые катехизисы растлевающего житейского опыта, но перед вами человек, который все-таки не пал ниц перед золотым идолом и не отрекся от культа совести. Здесь стоит поверенный гражданских истцов, чего им нужно? Ведь сами знают, что Дорвойдт отдал все, до последней копейки. Нужна им сума нищего? Но и ее нет! Нужна шкура живого человека! Обращаюсь теперь к поверенному гражданских истцов: идите и скажите пославшим вас сюда, что слава Богу, что такая масса денег найдена, что истинная причина всей этой грустной драмы – это то халатное и бесцеремонное отношение к казенным деньгам, благодаря которому на руках Федора Мельницкого оказалась такая сумма; что довольно уже истязать и без того униженных и оскорбленных, которые седьмой день сидят перед вами, политые дождем печали, посрамленья... Не пора ли подумать о чем-либо другом?
Защитник Елены Блезе и Варвары Мельницкой доказывал, что первой преступление не должно быть вменено в вину, потому что нравственный закон не позволял ей донести на жениха; вторая же не донесла на отца. Общество несомненно должно простить этих девочек.
Защитник Веры Мельницкой настаивал перед присяжными заседателями на том, что его клиентка только по несчастно сложившимся для нее обстоятельствам взяла у племянника деньги. Это была слабость, объясняемая трудностью ее положения, когда пасынки потребовали раздела.
Защитник Валентины Гетманчук доказывал, что в возникновении настоящего дела много виноваты те, кто, имея возможность и обязанность найти похищенные деньги, плохо их искали. Что же касается Валентины Гетманчук, то она виновата в том, что не донесла на отца, а затем, не зная, что делать с деньгами, которые жгли ей руки, стала тратить их с каким-то остервенением.
Защитник Льва Мельницкого доказывал полную его невинность, причем говорил, что если на него, главным образом, и сыплются стрелы гражданского истца, то это потому что у него есть некоторый достаток.
На разрешение присяжных заседателей было поставлено 23 вопроса. На вопрос, доказано ли, что Борис Мельницкий по предварительному соглашению с отцом был пособником ему при хищении 307 тысяч рублей, причем действовал с корыстной целью, а по получении этих денег от отца у Варварских ворот самовольно расходовал их и укрывал, присяжные ответили: да, доказано, но без корыстной цели; на вопрос о виновности ответ был отрицательный; факт укрывательства со стороны Дорвойдта, Валентины Гетманчук и Веры Мельницкой признан доказанным, но виновность отвергнута; относительно же остальных подсудимых отвергнуты как самый факт, так и виновность.
Гражданский иск предоставлено было предъявить в гражданском суде. [2]2
Этим решением суда дело Мельницких не закончилось. О дальнейшем его ходе я сделал в эл. копии вставку из книги «Суд присяжных в России», ЛЕНИЗДАТ, 1991. В этой вставке №№ страниц (340—360) взяты из этого издания.– Ю. Ш.
[Закрыть]
Оправдание Мельницких, и особенно Бориса, фактического соучастника преступления, вызвало бурю негодования прежде всего в среде противников суда присяжных. Успешная защита не принесла большой радости и адвокатам. Появилось мнение, что защита ослабляет степень тяжести преступления. На приговор суда и вердикт присяжных были принесены протест прокурора Московского окружного суда и кассационные жалобы гражданского истца и Л. И. Мельницкого. Разбор дела происходил в Уголовном кассационном департаменте Сената 13 марта 1884 года. На скамье защиты появился патриарх русской адвокатуры В. Д. Спасович. На него была возложена задача отстоять достоинство суда присяжных и свободы слова адвоката.
Речь присяжного поверенного В. Д. Спасовича
Настоящее заседание отметится в летописях нашей кассационной практики как одно из самых важных по тем неисчислимым последствиям, какие оно будет иметь и которыми определится на будущее время образ действия и функционирование суда присяжных. С 1878 года не было еще столь важного, столь решающего момента. До 1878 года институт присяжных действовал ко всеобщему никем не оспариваемому удовольствию. В 1878 году он пошатнулся. Закон 8 мая 1879 года, изъявший часть дел из ведения суда присяжных, правда только временно, а именно все дела о посягательстве на власть, о сопротивлении ее органам, об оскорблении этих органов, выразил, что судом присяжных недостаточно ограждено в этих делах государство, что присяжные недостаточно отстаивают в этих делах государственный интерес. Теперь набежала другая волна. Теперь ставится вопрос, что присяжными недостаточно охраняется казенная собственность, мирские деньги, вообще общественная собственность от всякого рода хищений, что они склонны вообще извинять казнокрадство. Может быть, набежит со временем и третья волна, может быть, станут находить, что и для разбирательства простой кражи, простого убийства или нанесения ран присяжные судьи слишком слабые, мягкосердные, что в судьи и по этим делам они не годятся. Отголоски этих ходячих толков раздаются везде. Они возмущают теперь непривычные к ним своды зала заседаний кассационного департамента. Ими только я объясняю ту страстность, которой дышат кассационные протест и жалобы на решение Московского окружного суда по делу Мельницких. В протесте прокурора Войтенкова прямо выражено, что приговор этот не удовлетворяет требованиям правосудия, не удовлетворяет по содержанию, явно не удовлетворяет по существу, что судьи, значит, судили неправедно. Я не смею даже и воспроизвести то многое и несомненно лишнее, что содержится в жалобе поверенного воспитательного дома, г. Шмакова. Страстность эту можно не одобрять, но понять ее легко. Я сам не в состоянии говорить совершенно хладнокровно. По настоящему делу судятся не лица, не Мельницкие, Дорвойдт, Гетманчук, которых я вовсе и не знаю, которые представляются для меня как условные имена, как условные знаки, а обвиняется и судится сам институт присяжных, обличаемый в дурном и неправильном действовании. Этот институт вырос на наших глазах, взлелеян нашими руками, на него мы молились, его мы нежили и чествовали, а теперь, может быть, будем собственными руками разрушать. Не правда ли, впечатление похоже на то, какое бывает у пациента перед ампутацией, когда собираются ему отрезать кусок его же тела. Я не вправе вносить в дело личную страсть, но да будет мне разрешено ввиду того, что разбирается живой и наболевший вопрос, говорить не стесняясь и называя вещи их надлежащими именами вполне и совершенно откровенно, выразить без иносказаний, какими они мне представляются. Здесь предлагаемы были крупные меры для обуздания речей защиты. Эти меры еще не приняты, слово защиты еще свободно; да будет и мне позволено, может быть в последний раз, воспользоваться им во всем объеме этой свободы.
Вопрос, на мой взгляд, ставится такой: действительно ли есть основание думать, что дело, подобное настоящему, не единичный факт, не единичный того рода приговор, что им обнаруживается общий порок, общий недостаток в образе действования суда присяжных, уклоняющемся от своего назначения? Если это верно, то какими средствами надлежало бы злу противодействовать, какими его врачевать? Какие из этих мер и способов зависят специально от кассационной практики правительствующего Сената вообще и какие вызываются в особенности явлениями, обнаруженными и раскрытыми по делу Мельницких, явлениями, на которые указывают как на явные признаки довольно далеко подвинувшейся болезни, которой одержим институт? Прежде всего ставится ребром вопрос, действительно ли существует та болезнь, следствием которой бывают, по словам протеста, не удовлетворяющие требованиям правосудия приговоры? Собственно говоря, ни один такой случай не может быть точно и юридически доказан. Причина тому простая. Присяжные решают дело окончательно и, по существу, на основании таких фактических данных, которых никто потом, не исключая и кассационной инстанции, не будет иметь в своем распоряжении. Следовательно, как только не усмотрено в их деятельности отступления не от живой действительности, а только от предписаний закона, от законных форм и обрядов или не оказывается поводов к пересмотру их решения, то их решение делается законом... Тем не менее этот вопрос о правоте по содержанию каждого приговора суда присяжных – для общества самый существенный, которым оно постоянно озабочено и ради которого само судоговорение устроено публичное и обставлено условиями устности и гласности. Общество, как известно, держится законом, иначе оно тотчас же распалось бы на свои составные атомы. Закон – его цемент, его живая связь, он походит на свод в здании, он ограждает свободу каждого лица в его правовой области. Всякий раз, когда он не исполняется, его надо восстановлять. Работа постоянного ремонтирования возложена на суд. Раз суд не будет исполнять своей задачи, стены здания будут трескаться, общество начнет разлагаться. Для общества важно, конечно, в высокой степени, чтобы суд правильно действовал, но еще, может быть, важнее и существеннее, чтобы все были убеждены, что он только удовлетворительно и только правильно действует. Когда все убеждены в том, что суд работает как следует, тот или другой его промах, тот или другой случай уклонения суда от своего назначения проскальзывают незаметно, не возбуждая нареканий, и общество чувствует себя здоровым.
И прежде бывали оправдываемые судом случаи казнокрадства или растраты общественных сумм. Но эти случаи не обращали на себя внимания. Теперь каждое лыко идет в строку, каждый факт отмечается и зачисляется. Действительно, отмечаемые факты некрасивы. Если признается, что содеянное доказано, а содеяно оно лицами взрослыми, действовавшими в состоянии вменяемости, сознательно и свободно, 'которые, однако, после того провозглашены невиновными, то какой же из этого возможен вывод? Только тот, что закон не исполняется, что он не господствует, что на место его становится милосердие господ присяжных заседателей, что если в статье закона написано: тот, кто совершит такое-то действие, подвергается такому-то наказанию, то надлежит читать: кто совершил такое-то действие и господам присяжным заседателям угодно было признать его виновным, тот за сие подвергается такому-то наказанию. Таким образом дела долго идти не могут. Присяжные не располагают правом помилования, они призваны не на то, чтобы проявлять высокие чувства сострадания и милосердия, а чтобы восстановлять нарушаемый закон. Если они не будут исполнять своего назначения, то сам институт будет по необходимости заменен чем-нибудь другим. Без него существовало государство многие века, оно найдет, чем его заместить. С этой точки зрения смотря на дело, я готов допустить, что институт болен, серьезно болен, что худшую услугу оказывают ему его льстецы и хвалители, распинающиеся за его непогрешимость, что лечить его надо энергично и немедленно, так как болезнь давно уже существует и запущена, а дальнейшее ее запущение может довести до необходимости ампутации.
Итак, лечение необходимо, и подлежит лечению не институт присяжных вообще, по своей идее, а только институт присяжных в России, как общий продукт всех условий, содействовавших в течение 18 лет его существованию, его развитию, как институт, воспитанный всеми теми деятелями, которые с ним соприкасались, за ним ухаживали, ему прислуживали, его баловали, его систематически искажали и портили. Все факторы, содействовавшие его развитию и порче, должны теперь соединиться и, действуя дружно, помочь уврачеванию больного учреждения. Прежде всего существование института зависит от самого закона, от власти законодательной. От законодателя зависит прежде всего дать суду в руки порядочный уголовный кодекс, более удовлетворительный, нежели тот, которым мы орудуем с 1845 года и при котором можно еще удивляться, что не бывает больше оправдательных приговоров. Затем от законодателя зависит установить известные личные условия, требуемые от присяжных, повысить образовательный ценз. Невысоки были бы наши требования знания, но я полагаю, что подсудимые могли бы претендовать на то, чтобы их судили люди, обладающие знанием азбуки. Законодатель мог бы исключить из закона и тот отвод присяжных без показания причин, который много возбуждает нареканий, а пользы не приносит никакой. Не все условия существования института, дарованные ему законодателем, осуществлены в жизни, некоторые задержаны администрацией, властями, которым поручено ведение списков присяжных. Исполняется ли, например, пункт 5 ст. 84 учреждения, по которому повинность присяжных заседателей должны нести в столицах получающие дохода 500 рублей, а в провинции 200 рублей от своего капитала, занятия, ремесла или промысла? Я утверждаю, что не исполняется, что в заседатели попадают главным образом помещик, который тяготится этим занятием, чиновник, крестьянин. Кроме законодательной власти и администрации на развитие института влияли все составные части персонала судебного ведомства, подчиненного уголовному кассационному департаменту: магистратура, прокуратура, адвокатура. Кто без греха? На вопрос, исполнили ли эти органы все свои обязанности по отношению к институту как следует, едва ли не придется дать ответ отрицательный. Наши судьи коронные так были сердечно рады, в такое пришли умиление, когда им пришлось водворять учреждение, обновляющее весь порядок производства, что с ними произошло нечто подобное тому, что описано в Евангелии как поклонение волхвов младенцу Иисусу. Все торопились ударить челом, поклониться Мессии, передать дары и власть, втолковать ему, какой великий и почти таинственный смысл заключается в великом слове, которое им придется произносить: «виновен», объяснять присяжным, что их спрашивают не о голых добрых фактах внешних, а по внутреннему убеждению совести о цельной вине. Что касается прокуратуры и адвокатуры, то от них и требуется меньше и нельзя с них многого взыскивать за результаты деятельности присяжных. Ведь это только состязающиеся стороны, скорее стихийные силы, чем руководители. Их слово никогда не принимается на веру без критической оценки. Кроме того, их работа – искусство, художество. Как обвинение, так и защита имеют реальную подкладку, но всякий знает, что по своему назначению они обязаны укладывать, подстраивать, прихорашивать реальные факты, чтобы произвести известное одностороннее впечатление. Наконец, институт присяжных зависит еще от одной власти – от кассационной инстанции. Если можно сказать, что законодатель есть как бы отец учреждения, если адвокатура, прокуратура и даже магистратура представляются как бы служителями и охранителями института присяжных, то несомненно, что правительствующему Сенату с его кассационной практикой подобает звание и наименование пестуна, воспитателя суда присяжных, роль опытного педагога.
Спрашивается, каким образом Сенат справился с этой возложенной на него многотрудной задачей. Я думаю, что могу определить эту деятельность двумя главными чертами. Во-первых, вопроса о праве присяжных не только судить, но и миловать Сенат никогда еще не разбирал. О том, что оно передавалось присяжным с самого появления их, он как будто бы не знал до дела Мельницких. С другой стороны. Сенат на институт смотрел как на вещь ломкую, нежную, хрупкую, точно хрустальную, которую следует постоянно держать, так сказать, под стеклянным колпаком, чтобы она не разбилась; вещь, которую надобно ограждать от всяких дурных влияний до такой степени, по взглядам Сената, что прочтение малейшей, не поименованной в уставе судопроизводства бумаги, выслушивание всякого лишнего, не относящегося к делу свидетеля уже может испортить весь результат их деятельности. Коснувшись этого неправильного, по моему мнению, взгляда на присяжных, я, так сказать, въехал в самую середку кассационных протеста и жалобы, потому что обе эти бумаги сводятся к двум пунктам: к указанию на неправильную постановку вопросов и к указаниям на то, что по делу Мельницких присяжные заседатели не были достаточно изолированы, что председательствующий не держал их все время под стеклянными колпаками, что были какие-то веяния извне, которые до них доносились или могли доноситься и содействовать образованию их убеждения по делу независимо от слышанного на суде. К числу таких упущений относится и нарушение якобы судом ст. 616 разрешения присяжным расходиться ночевать домой. Попавший в состав присяжных делается в некотором отношении узником, арестантом. Если бы не знающий наших порядков иностранец зашел в заседание и, видя с двух сторон наполненные скамьи, задался вопросом, где подсудимые, то он легко мог бы ошибиться и принять за подсудимых тех 12 человек, которые, превратившись в решителей судеб, являются окруженными жандармами с саблями наголо и шагу не делающими без сторожей и судебных приставов. Заседания длятся иногда много дней. Как быть с ночлегами? Сам закон допустил возможность доставления присяжным в большинстве случаев некоторого в этом отношении удобства, разрешил отпускать их по домам. Статья 616 гласит, что только по делам особой важности председатель может преградить всякие сношения присяжных с внешним миром, может заставить их ночевать в суде. Признак особой важности дела есть обстоятельство, до того с существом дела связанное, что оно и выделено быть не может из этого существа, которое кассационной инстанции не подлежит и ей безусловно недоступно. Смысл закона, значит, таков, что председателю предоставляется дискреционная, неограниченная и бесконтрольная власть обсудить, можно ли отпустить присяжных домой или нет. Тем не менее, правительствующий Сенат озаботился этот предмет нормировать вопреки закону и своими решениями, и циркуляром он это право председателя значительно ограничил: он установил, что нельзя отпускать присяжных домой, когда судятся дела о преступлениях, влекущих за собой наказания уголовные: каторгу или поселение. Сенат требует, чтобы в протоколе об отпуске по домам были объяснены причины, почему присяжные отпущены, и указаны меры, предупреждающие влияния на них извне. Я полагаю, что таким образом ст. 616 сужена и стеснена посредством разных кассационных надстроек. Оставалась маленькая продушина, но и ее хотят теперь законопатить. Лучше, конечно, закрыть совсем это отверстие вопреки прямому закону, чем возиться с вопросом, умаляя отверстие так, что через него никогда не пройдешь. Лучше прямо запретить всякий роспуск присяжных по домам. Как может убедиться Сенат, что дело это особенно важное? По своему назначению никаким критерием Сенат не обладает для разрешения этого вопроса. Я могу в данном случае перед окружным судом доказывать, что дело важное, но как констатировать в протоколе, что оно не важное? Как устанавливать факт отрицательный? Какие особые меры могут быть приняты для ограждения от сношений ночующих на дому присяжных с внешним миром? Нельзя же давать каждому присяжному в качестве ангела-хранителя, обязанного ночевать в той же комнате, судебного пристава, жандарма или даже сторожа. Не было ли бы правильнее, если бы правительствующий Сенат отступился от своего циркуляра и разобрал собственную надстройку над законом, которая этот закон совсем видоизменила. Не лучше ли попробовать постепенно снимать те стеклянные колпаки, под которые поставлено учреждение.
Перехожу к вопросу об указываемых в протесте и жалобе некоторых излишествах, заключающихся в прочтении ненужных документов, лишних бумаг. Толкования ст. 625, 629 и 687 выросли в кассационной практике наподобие ветвистого, густой листвой покрытого дерева, под которым тень такова, что не пропускает ни одного луча света. Вся эта на буквоедстве основанная казуистика лишена всякой идеи, всякого принципа и столь запутана, что кассационный Сенат поминутно себе противоречил: то признавал, что можно все читать, лишь бы с согласия сторон, то не разрешал читать, хотя бы стороны на это согласились, то запрещал читать показания подсудимого, даже если подсудимый сам того просил, то разрешал, то считал известный документ вещественным доказательством, то не считал. При таких противоречиях следовало бы прямо заключить, что надлежало бы от всей этой казуистики отказаться, выбросить ее за борт и согласовать судебное исследование истины с коренными правилами и началами всякого исследования истины, будь оно судебное или научное. Главный, коренной принцип всякого научного исследования тот, что исследователь должен воспользоваться всеми доступными ему источниками познания, разобрать их от первого до последнего. Правда, в судебном исследовании дело поставлено несколько иначе: исследованию должен быть положен предел во времени, и во избежание всяких затяжек надлежит, собрав возможно больше данных, сказать: довольно, больше не собирать, больше свидетелей не вызывать, не допускать. Правда еще и то, что при научном исследовании можно и не прийти ни к какому решающему спор результату, ограничиться осторожным: не знаю, не решил; а в судебном исследовании обязателен прямой ответ: да или нет. Но во всем остальном приемы обоих исследований совпадают, и нельзя даже и придумать, почему нельзя было бы прочесть какую-либо из бумаг, вошедших в следственное производство. Этого запрещения не содержит ни ст. 625, устанавливающая, что производство должно быть устное при судебном следствии, но с изъятиями, ни ст. 629, разрешающая защите читать всякие бумаги, имеющиеся у нее в руках, ни ст. 687, разрешающая читать известные протоколы и не намекающая даже на то, чего читать не дозволено. Запреты создал не закон, а казуистика; не закон, а она пришла к тому выводу, что следует давать сосать присяжным только отдельные, судом выбираемые и, может быть, не самые сочные кусочки делового артишока, а не предлагать им весь этот артишок. Я полагаю, что на все дело следует смотреть как на источник, доступный исследованию, из которого каждая сторона может заимствовать свои доводы и доказательства, что все дело есть не что иное, как совокупность вещественных доказательств.








