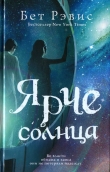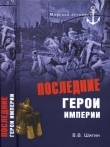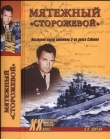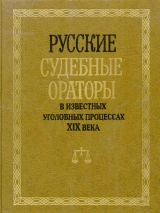
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 90 страниц)
Из отчета Гартунга видно, что все его поверенные, не считая содержания Мышакова и 500 рублей, уплаченных им Озембловскому, стоили наследникам 2 тысячи 721 рубль с копейками, из числа каковой суммы Алферову досталось 1 тысяча 595 рублей. На бланке Алферова за № 533 исходящих бумаг его адвокатской канцелярии значится, что он получил вместе с духовным завещанием и доверенностью «на судебные издержки и пошлины» 300 рублей и затем еще 70 рублей. А между тем, господа присяжные, все расходы по представлению духовного завещания к утверждению не могли превышать полутора—двух рублей, судебных же пошлин никаких и никогда при представлении духовного завещания к утверждению не требуется. Затем Алферов получает еще тысячу рублей, из числа которых 750 рублей дается ему по условию за утверждение бесспорного нотариального духовного завещания к исполнению. Как ни значительна была указанная цифра вознаграждения, но, не довольствуясь ею, Алферов представляет Гартунгу вымышленный, ложный отчет в тех издержках, которые им понесены по делу: в этом отчете показано «330 рублей за лист гербовой бумаги, на котором должно быть написано духовное завещание». Но если Алферов, не заплатив ничего за лист гербовой бумаги, не затруднился показать за него уплаченными 330 рублей, то весьма странным представляется, каким образом Гартунг мог принять в счет подобную уплату? Если даже допустить, что Гартунг был настолько не сведущ в юридических делах, что обязался Алферову по условию уплатить за утверждение нотариального духовного завещания 750 рублей, что мог даже предполагать проигрыш подобного дела, как то, которое поручалось им Алферову, то в этом случае нужно было только уметь читать по писанному, чтобы увидеть, что в определении суда об утверждении духовного завещания прямо сказано, что за лист гербовой бумаги ничего не следует. То же самое видно и из надписи, сделанной судом на подлинном духовном завещании, бывшем в руках Гартунга. Какие были потом еще расходы по утверждению завещания, на которые в отчете Гартунга значатся выданными «Алферову без расписки 225 рублей», это знают генерал Гартунг да коллежский советник Алферов, а я объяснить эти расходы отказываюсь. И несмотря на полученную им сумму, Алферов в письме к Ланскому просит ему дать еще полторы тысячи рублей! Алферов не остался также без подарка по настоящему делу; он хотел воспользоваться векселем в 1 тысячу 500 рублей на Николая Занфтлебена и получить по нему себе деньги через адвоката Грузова. В подтверждение передачи ему в собственность этого векселя покойным Занфтлебеном он неудачно сослался на его вдову и затем, будучи уличен свидетельскими показаниями, представил этот вексель при следствии к делу, сделав относительно его на отчете ту надпись, которая, конечно, удержалась, господа присяжные, в вашей памяти. Я не стану далее останавливаться на этом обстоятельстве. Вы видите только, что здесь было систематическое, самое бесцеремонное расхищение имущества умершего Василия Карловича Занфтлебена: тащили векселя, выданные другими, и уничтожали выданные от себя, прятали документы в белье, в старом хламе, в дорожной сумке, представляли ложные счета, брали, не стесняясь, вознаграждение за труды и заслуги, и все это прикрывалось исполнением священной воли умершего со стороны душеприказчиков и благою целью охранения имущества несчастного отца от расхищения этого имущества его блудными сыновьями!
Последним деятелем на этом поприще был подсудимый Егор Мышаков. Это мелкая сошка среди знатного дворянства, полубарин, полулакей, фактотум Гартунга и всей компании, подающий в известном смысле большие надежды в будущем, ловкий комиссионер в кругу того знатного барства, фамилии которого мы встречаем в списке должников Василия Карловича Занфтлебена, и у многих из которых имена настолько же громки, насколько пусты их карманы. О нем чаще говорит граф Ланской в своих письмах к Гартунгу и не скупится на весьма нелестные прилагательные к его имени. При всей своей видимой маловажности, Егор Мышаков был необходимым участником преступления: он присутствовал 11 июня при увозе Гартунгом документов умершего Занфтлебена и сопровождал его в качестве охранителя от предполагаемого нападения злоумышленников по дороге из Леонова в Москву; он находился в квартире Гартунга с 12 июня, когда приезжали к Гартунгу Колпаков и Николай Занфтлебен, которому он наивно вручил вместо вексельной книги свою черновую записную книжку; он ездил в Петербург получать деньги по векселю Базилевского и т. д. По произведенному обыску у Егора Мышакова было найдено, кроме счетов на заложенные вещи, золотых часов и наличных денег 395 рублей, шесть векселей на сумму 1 тысячу 650 рублей, из которых два – Панфилова и Бажанова, по 100 рублей каждый,– написаны на имя Василия Карловича Занфтлебена, и один даже без его бланковой надписи. В свое оправдание он относительно векселя его родственника, Панфилова, сочиняет рассказ о том, что, хотя вексель этот и был написан на имя Василия Карловича Занфтлебена, но деньги Панфилову даны им, Мышаковым, а так как о другом векселе без бланка Василия Карловича Занфтлебена нельзя было сказать того же, то оказывается, что вексель этот был получен им по примеру прочих в подарок от Василия Карловича Занфтлебена.
Как вы видите, господа присяжные, вся имущественная сторона этого дела заключается в подарках, сделанных при жизни Василием Карловичем Занфтлебеном; а если верить защите подсудимых, высказавшей предположение, что уничтожение вексельной книги принесло прямую выгоду его наследникам, то надо думать, что подсудимые, не желая остаться в долгу перед Василием Карловичем Занфтлебеном, подобным способом отблагодарили после его смерти в свою очередь подарком его наследников! Егор Мышаков, так же как и Алферов, был самым законным образом награжден генералом Гартунгом за участие в деле из денег, принадлежавших наследникам: за то, что он съездил в Петербург получить деньги по векселю Базилевского, ему дано Гартунгом 10 процентов с полученной суммы, то есть, кроме путевых расходов, еще 700 рублей серебром, так что за поездку, на которую он употребил несколько дней, он получил с лишком вдвое больше всего своего годового жалованья. При этом нельзя не остановиться на соображении следующего рода: если Мышаков служил у Гартунга на жалованьи в качестве приказчика по делам наследников, то, конечно, Гартунг не имел права платить ему сверх того за данное поручение столь крупное вознаграждение, так как исполнение этого поручения входило в круг обязанностей Мышакова, а если Мышаков получал за каждое порученное ему по имуществу Занфтлебена дело особую плату, то, очевидно, Гартунг не имел никакого основания платить ему жалованье и давать содержание из денег наследников. Но, господа присяжные, щедрость Гартунга в этом случае понятна, смысл данного им Мышакову вознаграждения весьма ясен. И Гартунгу, и Ольге Петровне Занфтлебен необходимо было привлечь и удержать Мышакова на своей стороне. Если Гартунг постарался взять к себе в услужение ничтожного сравнительно, бывшего лакея Занфтлебена, Ивана Зюзина, то тем более ему важно было иметь своим союзником Егора Мышакова, сообщничество которого было крайне необходимо, потому что Егор Мышаков скорее всех мог уличить его в преступлении; Гартунгу необходимо нужно было укрепить за собою Егора Мышакова, купить его молчание, и Егор Мышаков, видя, где он может поживиться, продал интересы своего умершего хозяина, не забывшего его в своем духовном завещании, и явился деятельным помощником Гартунга и Ольги Петровны Занфтлебен по настоящему делу.
Я старался, господа присяжные, определить степень участия каждого из подсудимых в преступлении и характер деятельности каждого из них отдельно. Я считаю себя вправе просить вас уделить мне несколько минут внимания для того, чтобы указать вам в кратких чертах на взаимные отношения по делу подсудимых друг к другу. Когда было возбуждено предварительное следствие по настоящему делу, то подсудимые сначала действовали довольно систематично, единодушно, поддерживая один другого и ссылаясь на свое право делать то, что они делали. Но в скором времени им было убедительно, фактически доказано, что то, что они называют своим правом, служило для них только покровом бесправия. Уголовным следствием был добыт против них ряд уличающих данных, раскрыты были преступные факты, остававшиеся прежде тайными, были произведены внезапные обыски, давшие обильный материал для обвинения, и в стройном до того времени хоре подсудимых послышался страшный диссонанс.. Видя неизбежную беду, они избрали себе девизом «спасайся, кто может», они не познали друг друга, и каждый стал стремиться к тому, чтобы выгородить, во что бы то ни стало, только самого себя. В массе данных ими в это время показаний они до того перепутались, что, если вы припомните содержание этих показаний, внесенных в обвинительный акт, и отчасти выслушанных вами на суде, то редко можете встретить уголовное дело, в котором бы было столько разноголосицы и противоречий в определениях и объяснениях подсудимых, как в настоящем деле. Возьмем, например, показания подсудимых по поводу похищенных векселей: лично у каждого из них, по отношению к самому к себе эти векселя являются подарками покойного, но по отношению к другому каждый из них не верит возможности такого счастья и удивляется. Так что если в способе оправдания подсудимых в личном смысле, для самого себя действовала система подарков, то относительно других была пущена в ход система полнейшего удивления и недоверия. Генерал Гартунг утверждает факт уничтожения своих векселей и переписки их на имя Ольги Петровны Занфтлебен при жизни Василия Карловича Занфтлебена, но ему кажется странным, что у Ольги Петровны Занфтлебен вдруг является пачка векселей на 81 тысячу рублей, подаренных ей, по ее словам, покойным мужем; Ольга Петровна Занфтлебен, в свою очередь, удивляется и не верит возможности передачи Алферову в его собственность векселя в 1 тысячу 500 рублей от Николая Занфтлебена; Алферов в то же время удивляется сокрытию векселя Базилевского и исчезновению векселей Гартунга и высказывает свое убеждение, что векселя эти были переписаны уже по смерти Василия Карловича Занфтлебена.
Не менее интересно проследить отношения подсудимых друг к другу также по письмам, найденным у них при обысках, и в этом смысле письма графа Ланского к Гартунгу представляют особенно драгоценный материал. Письма эти заключают в себе ряд данных, настолько компрометирующих подсудимых, и особенно генерала Гартунга, что с первого взгляда даже представляется странным, как эти письма остались у него неуничтоженными, но, вдумавшись в дело, это становится понятным. Не говоря уже о том, что, по пословице, «на всякого мудреца довольно простоты», а дело идет далеко не о мудрецах, генерал Гартунг, очевидно, никак не ожидал, чтобы по его положению и званию у него могли произвести обыск, и сам защитник его указывал на это обстоятельство, обращая внимание ваше на то, что обыск для Гартунга был совершенно внезапным. Но, кроме того, я полагаю, что хранение этих писем могло иметь и другой смысл. В преступных деяниях, где участвуют несколько сообщников, весьма нередко находят у них неуничтоженными документы, их уличающие, но которые берегутся на всякий случай, как лучшее средство заставить молчать и не выдавать друг друга. Гартунг и граф Ланской – друзья, но мало ли примеров, когда друзья становятся врагами; уже здесь по некоторым письмам видно, что у них начиналась ссора, а письма Ланского представляли для Гартунга возможность и верное средство всегда сдерживать его. Это было оружие, которое он хранил про запас, на всякий случай, для устрашения другого, и которое так неожиданно и метко обратилось против него самого. Переписка, найденная у подсудимых, наглядно рисует нам их отношения между собою в настоящем свете. Генералу Гартунгу Ольга Петровна Занфтлебен, кажется, настолько доверяется, что отдает ему без расписки на 81 тысячу рублей принадлежащих ей векселей, а Марья Петровна Онуфриева, друг и сестра Ольги Петровны Занфтлебен, с которой они вместе живут и занимаются делами, пишет в то же время тому же Гартунгу, чтобы он «хотя один раз сдержал данное им слово», так мало доверия в нравственном смысле он внушает ей. Алферов состоит поверенным всех дел душеприказчиков Гартунга и Ланского, а за ним тайно следят другие лица, которых Ланской в своих письмах зовет общим именем «шпионов Гартунга»; Алферов, по-видимому, доверенное лицо; с ним советуются и ему поручают ведение дела, а по откровенному мнению Ланского, он не более как «сущая дрянь». Я не буду снова повторять того, как думает и отзывается Ланской о Егоре Мышакове. Уже глядя на одно это, что при таких условиях сходятся между собою, притом довольно близко, люди, не имеющие ни взаимного уважения, ни нравственного доверия друг к другу, можно заключить, что не на добро сошлись они, и вы, действительно, могли убедиться сами в том, что соединились между собою эти люди в одну странную группу ради одних и тех же беззаконных целей и интересов, что единственною связью между ними служит одно общее преступление.
Господа присяжные! Не весела была жизнь старика Занфтлебена в ее последние минуты. Как бы предчувствуя приближение смерти, он искал примирения с своими детьми, но несмотря на его желание, примирение это, как известно, не состоялось по причинам, о которых в настоящее время мы можем догадаться, потому что тем из живых, которые знают об этих причинах, не расчет говорить о них, а могилы не выдают своих тайн. Старик умирал в ссоре со своими детьми, почти одинокий, а у единственного из сыновей богатого отца, который был при его смерти, не было рубля для того, чтобы послать дворника известить братьев и сестер о последовавшей кончине их отца. Но казалось, что сама судьба в его смерти хотела оставить детям завет того примирения, которого тщетно искал при жизни больной, обессиленный страданиями старик. Казалось, само провидение не допустило, чтобы святость последней торжественной минуты, когда кончаются все расчеты с земной жизнью, возмущала своим присутствием та, которую защита назовет, быть может, ангелом-хранителем старика и которую я смело позволю себе назвать злым гением всей этой семьи. К изголовью умирающего не склонялась его любящая жена, и он скончался на руках нелюбимого сына из нелюбимой семьи. Он умирал спокойно: он знал, что оставляет духовное завещание, которым обеспечил вполне, самым справедливым образом, будущность своих детей, своей маленькой, некогда столь нежно им любимой дочери. Но если б мог Василий Карлович Занфтлебен из гроба видеть, как жестоко ошибся он и после смерти, точно так же, как ошибался и при своей жизни! Та, которая при нем нарушала мир его семьи, внесла в нее раздор и ссору, не оставила этой семьи в покое и после того, как его уже не стало, саму смерть его она сделала для себя источником беззаконного обогащения и отняла вместе со своими сообщниками почти все завещанное покойным его детям имущество.
Но едва ли бы Ольга Петровна Занфтлебен одна решилась на такое дело, если б не нашла себе могучих союзников. Детей покойного обидели сильные обидчики, с которыми вы призваны рассудить нас, и в этом лежит немалый общественный интерес настоящего дела. Перед лицом бесстрастного закона, как справедливо заметил обвинитель, все равны; для правосудия, изрекающего свой приговор во всеоружии истины, одинаковы и генерал, и крестьянин, и граф, и мещанин. Но с общественной точки зрения преступление, о котором идет речь, обращает на себя внимание всех по лицам, которые в нем являются подсудимыми. Чувство милосердия – святое чувство, но бывают дела, где применение этого чувства равносильно нравственной распущенности. Подобного рода преступление, как настоящее, это барометр общественной нравственности, за которым каждый дорожащий спокойствием общественной жизни должен зорко следить. Здесь общественное положение людей определяет меру оскорбления общественной совести. Соверши такое преступление какой-нибудь человек из низших рядов общества, где господствует нужда, образование недостаточно, инстинкты грубы, никто, пожалуй, не стал бы над ним и задумываться. Нас преступлениями против чужой собственности не удивишь, они кишмя кишат по всей России: в уголовно-статистическом отчете за 1875 г. мы читаем, что из 150 тысяч 317 преступлений вообще более 87 тысяч приходится на долю преступлений против чужого имущества. Но совсем иное дело, когда на скамье подсудимых сидит граф, генерал, коллежский советник! Грязь и лохмотья на нищенском рубище не поразят никого, но будь эта грязь на графской короне или эти лохмотья на генеральском мундире, они невольно остановят на себе внимание каждого.
Бесспорно, что достоинство и значение известного факта определяется, главным образом, всей его обстановкой, условиями его совершения и лицами, в нем участвующими. К преступлению, самому тяжкому, можно иногда отнестись гораздо снисходительнее, нежели к другому, по-видимому, несравненно более мелкому и незначительному: разбойник мог получить прощение, но ничтожный сравнительно торгаш был без пощады, с негодованием выгнал веревкой из храма. Не столько важно в данном случае юридическое определение преступления, сколько внутренний его смысл и значение. В самом деле: куда же бежать от общественного зла, когда преступление имеет свой приют не только в низших слоях общества, но находит блестящих представителей и в высших его сферах; когда люди, занимавшие видное общественное положение, совершают одно из самых грубых имущественных преступлений – кражу? Где же искать в гражданском быту защиты личности, когда облеченный доверием опекун, обязанный по закону и духовному завещанию заботиться об интересах малолетней, забыв закон и презрев последнюю волю умершего, открывает свою опекунскую деятельность тем, что сам вместе с сообщниками расхищает имущество вверенной его попечению малолетней? Что ж остается делать после этого тем жалким беднякам, тем несчастным труженикам, которые, работая изо дня в день, с утра до вечера, ради куска насущного хлеба, тяжелым трудом добывают себе и своим семьям дневное пропитание, но остаются честными, когда и сильные мира сего не гнушаются ради легкой наживы занести преступную руку в чужое имущество для того, чтобы этим имуществом набить свои опустевшие карманы? Как оценить такие факты по достоинству, чего заслуживают люди, творящие подобные дела? Ответ на эти вопросы я жду, господа присяжные, услышать от вас; я надеюсь найти его в вашем приговоре...
Защитник Гартунга присяжный поверенный Щелкан, указав на неправильные приемы обвинения, перешел к фактической стороне дела. Он доказывал, что Гартунг не испытывал крайности, с Ольгой Петровной тесного знакомства не имел. Что касается до не вошедших в опись найденных у других лиц документов, принадлежавших В. К. Занфтлебену, то пусть за них отвечают те лица, у кого они найдены, а не Гартунг. По мнению защитника, деяния Гартунга не есть кража, т. е. тайное похищение имущества, ибо при увозе документов присутствовал В. В. Занфтлебен, а лишь неосторожный поступок, опущение формальностей, Гартунгу, как человеку военному и с гражданскими законами мало знакомому, вполне извинительный. Историю с векселем Жукова считает вымыслом. Описи имущества Занфтлебена Гартунг содействовал, ей не противился. Расходы Гартунга по делам наследников вовсе не так необычны, как то кажется обвинителю: Колпаков получает с опеки то же вознаграждение, какое платилось Гартунгом Алферову. Письма Ланского не составляют доказательства против Гартунга, а скорее говорят в его пользу, так как из них видно, что Гартунг подсылает к Ольге Петровне каких-то лиц для выкупа его собственных векселей. Примирения с наследниками искал не Гартунг, а сами наследники того добивались. Вывод обвинения о невозможности предположить дарение векселей Гартунгу покойным основан на отзывах свидетелей о характере покойного В. К. Занфтлебена; но при таком основании легко впасть в ошибку: то, что раньше было не в характере покойного, перед смертью, при иных условиях, могло быть им совершено. Объяснения Ольги Петровны о записи процентов, уплачиваемых Гартунгом по векселям, на ее имя в книге ее мужа вполне правдоподобны. Что касается уничтожения вексельной книги, то у Гартунга не было цели делать это, так как его долги доказывались другими книгами. Кроме того, уничтожение вексельной книги гораздо выгоднее для наследников, чем для обвиняемых, так как наследники взыскивают теперь по дубликатам векселей. В заключение защитник указал на заинтересованность главных свидетелей по делу – наследников Занфтлебена, и просил присяжных заседателей помнить, с кем они имеют дело.
Защитник О. П. Занфтлебен присяжный поверенный Геннерт доказывал, что Гартунг, переписав после смерти В. К. Занфтлебена свои векселя на имя вдовы, «променял бы кукушку на ястреба», так как, оставляя векселя написанными на имя покойного, он сам, по званию душеприказчика, был бы по ним и взыскателем и уж, конечно, поступил бы с собою в этом случае и мягче, и снисходительнее, чем поступала с ним при взыскании Ольга Петровна. Обвинение основано на показаниях наследников Василия Карловича – лиц, весьма заинтересованных в исходе данного дела, а из слов свидетелей, дающих показания в пользу подсудимых, свидетелей не заинтересованных, а потому вполне достоверных, должно прийти к другим выводам, чем пришел представитель обвинительной власти. Защитник полагает, что покойный назначил своей жене 10 тысяч в духовном завещании для первой необходимости, до получения ею денег по переданным ей векселям. Такая мысль завещателя ясна и из того, что он также распорядился и по отношению своей малолетней дочери Августы, которой в завещании просит выделить 10 тысяч рублей и, вместе с тем, делает ее участницей в общем дележе остального имущества. Доводы обвинения о том, что дарение векселей жене было не в характере скупца покойного, основанные опять-таки на показаниях заинтересованных лиц, опровергаются тем, что покойный при жизни дарил своим детям весьма солидные суммы. Он был щедр даже к детям, к которым не был расположен; отчего же он не должен быть таковым по отношению к любимой им молодой жене?
Коснувшись характеристики подсудимой Ольги Петровны, данной обвинителем, который, говоря о сближении ее с покойным, как будто из желания пощадить нравственное чувство присяжных заседателей, сказал, что «накинет завесу на эту грустную картину», защитник сильно нападает на такой прием, называя его ненужным, ибо, говорит он, «задача суда – не раздавать премии за добродетель, а судить преступление». По мнению защиты, сближение Ольги Петровны с покойным – не результат разврата, а желание Василия Карловича найти себе няньку, что и случилось. Разрыв с детьми и старыми знакомыми у покойного последовал по весьма понятным причинам (неуместность женитьбы в 70 лет и денежные интересы), ничего общего с «безнравственностью» Ольги Петровны не имеющим. Прокурор называет Василия Карловича человеком справедливым, между тем было бы большою несправедливостью отказать любимой жене из состояния в 500 тысяч рублей, как определяют его наследники, лишь 10 тысяч, тогда как, не будь завещания, она по закону получила бы 125 тысяч.
Речь присяжного поверенного И. С. Курилова в защиту О. П. Зантфлебен
Вот уже пятый день близится к концу, а вам остается еще довольно долго напрягать свое внимание. Вчера и сегодня вы слушали обвинение, которое просило вас, во имя правосудия, во имя справедливости, отнестись к настоящему делу внимательно; защита Занфтлебен обращается к вам с тою же просьбою, с тем же воззванием, просит, чтобы вы, во имя правды, во имя справедливости, отнеслись к ней со вниманием, и ваше внимание, с которым Вы следили за судебным следствием, ручается ей в этом. Прежде всего я должен сказать вам, что то великое начало, которое было поставлено обвинителем в основание его речи, в конце ее было попрано. Обвинитель приводил Вам текст из Евангелия, говорил, что Вы должны руководствоваться одною истиною, правдою, а кончил тем, что, действуя на ваши чувства, возбуждал вас против подсудимых и просил обвинения не во имя правосудия, а во имя несчастной малолетней Августы, страдающей пороком сердца. Господа присяжные заседатели! Если защита обращается к вашему чувству и просит пощадить виновных, она действует на вашу человечность, она просит вас во имя милосердия, положенного в основу суда; но если обвинение переходит на ту же почву, тогда не милосердие возбуждает оно в вас, а месть. Просить беспощадной кары подсудимых во имя несчастной, больной Августы, отторгнутой будто бы Ольгой Петровной от отца, значит уклониться от истинной цели наказания. Обвинитель говорил, что по праву и закону обвинение должно быть строго доказано, и принял на себя обязанность доказать несомненную виновность подсудимых; но, приступая к обвинению, он не выполнил своей обязанности, а рисуя перед Вами картины, пользовался фактами, не подтвержденными судебным следствием, и давал объяснения, полные внутреннего противоречия. Для образца можно указать на характеристику покойного Занфтлебена, который в разные моменты, при разных обстоятельствах являлся непохожим на себя. Занфтлебен как отец, как человек, по мнению обвинителя, был человек скупой, аккуратный, властолюбивый; когда нужно доказать влияние на него Ольги Петровны, обвинитель доказывал, что в характере его произошла перемена, в последнее время он стал заметно мягче, слезливее, нуждался в уходе; затем, когда нужно было объяснить духовное завещание, в старике проявилась опять твердая воля, сломить которую не в силах была Ольга Петровна Занфтлебен. Когда же говорилось о предполагаемом примирении с детьми, то обвинитель выразился, что дома это примирение не могло состояться, потому что там была хозяйка, против которой не стоек был старик. Если вы проследите всю обвинительную речь, то всюду встретите противоречия: и в характеристике Ольги Петровны Занфтлебен, и в определении преступления, и, мне кажется, все настоящее дело представляет собою одно общее противоречие.
Занфтлебен обвиняют в том, что 11 июня, в день смерти своего мужа, она похитила имущество покойного, и похищение это совершилось в момент передачи его душеприказчику Гартунгу. Прежде всего является вопрос, есть ли в данном деле признаки похищения, какие требуются нашим законам, было ли похищение и было ли оно тайно. Обвинитель говорит, что похищение было тайное, но, доказывая это, он наталкивается на факты, опровергающие такое определение. Оказывается, что передача совершалась при свидетелях – здесь была Екатерина Степанова, Зюзин и даже один из наследников умершего, Василий Занфтлебен – и без всяких признаков тайны: дверь кабинета была отворена и вход в него представлялся свободным. Спрашивается, как же могло быть тайное похищение при свидетелях? Обвинитель признает, что свидетели были, но этому обстоятельству придавать значения нельзя, потому что эти свидетели «неизобличенные, непривлеченные», не имеют никакого значения. Что же это значит: «неизобличенные, непривлеченные»? По моему мнению, что-нибудь одно: или эти лица участники преступления и не могут быть свидетелями, или они свидетели, и тогда нет тайны. Правда, Василий Занфтлебен утверждает, что он не знал о том, что передавалось, и обвинитель верит ему, но при всем своем желании отказаться от того, что передача ему была известна, он не мог отказаться от того, что сам подавал веревку для связывания пачки, что в этой пачке лежал портфель отца; в котором хранились документы, и что на столе лежали деньги, бумажки и мелочь, которые взял Гартунг к себе, а стало быть, Василий Занфтлебен не мог сомневаться, что передается имущество его отца; он мог не знать, сколько его, это совершенно верно, но чтобы он не подозревал передачи, чтобы передача для него была совершенная тайна, этого быть не могло. Если, таким образом, имущество покойного передавалось явно, при свидетелях, то как же могли построить обвинение в тайном похищении? Наконец, каким образом могло совершиться само похищение? Можно похитить чужую собственность, когда она в руках другого, но как совершить похищение у самого себя?
Припомните, в каких отношениях находилась Ольга Петровна к своему мужу. Она заведовала делами покойного, ее рукою писались книги, у нее хранились документы и ключи от письменного стола и даже уезжая в Москву 11 июня, она имела ключи при себе; каким же образом могла Ольга Петровна похитить документы, если она была их хранительницею? Но допустим, что была тайная, незаконная передача, но ведь это еще не все для состава преступления; необходимо еще существование и других признаков. Никакое преступление не выражается одними внешними признаками; в действиях должно быть усмотрено намерение, злой умысел, желание похитить известную вещь, воспользоваться ею. Обвинитель оставляет вопрос об умысле, как не существенный, в стороне; он при обвинении Ланского провел новое учение о двух родах преступлений: формальном и душевном; он выразился так: Ланской совершил формальное преступление, но душа его не участвовала в нем. Если основываться на таком учении о формальных преступлениях, тогда, разумеется, об умысле нечего говорить; но это учение появляется впервые, и закон не следует ему, закон говорит, что действие без умысла не составляет преступления, а потому является необходимость в деяниях подсудимых проследить умысел. Если мы рассмотрим действия подсудимых с 11 июня, с момента отъезда Ольги Петровны в Москву за доктором, то вряд ли в состоянии будем подметить в них проявление преступного умысла. При этом я считаю нужным заметить, что защита Занфтлебен находится несколько в особом положении. Помимо тех улик, которые направлены прямо против Ольги Петровны, нам приходится давать объяснения по всем обстоятельствам дела, потому что во многих местах и защита Гартунга останавливалась на Ольге Петровне, предоставляя ей и ее защите представить объяснения; таким образом, мы составляем собою как бы центр, на котором сосредоточивается вся тяжесть опровержения представляемых улик, поэтому я буду останавливаться не только на действиях, приписываемых одной Ольге Петровне, и действиях, совершенных ею совместно с Гартунгом, но и на действиях Гартунга и других.
Прежде всего обвинение утверждает, что умысел совершить похищение у Ольги Петровны явился в тот момент, когда она, возвращаясь из Москвы, встретила у Крестовской заставы Капустина, сообщившего ей о смерти ее мужа, и умысел этот проглядывает в ее поступках: вместо того, чтобы ехать к мужу оплакивать его, чтобы позаботиться о нем, вообще, выразить свои чувства, она поехала к Гартунгу и с ним едет на дачу в Леоново, чтобы совершить преступление. Если обвинение относит к этому моменту возникновение преступного умысла, тогда этот умысел внезапный, каким же образом и когда явился предварительный уговор, и как примирить внезапный умысел Ольги Петровны с внезапным согласием Гартунга и сказать, что умысел Ольги Петровны с замечательною быстротою перешел в умысел Гартунга, так что в следующий уже момент они едут совершать преступление? Допустить подобную мысль возможно лишь при слишком низком мнении о человеческой нравственности и допустить возможность совершать преступление с такою же легкостью, как и всякое безразличное дело. Глубже нужно вдуматься в поступок Ольги Петровны и посмотреть, нет ли ему объяснения в самой жизни ее. Вы слышали, господа, каковы были ее отношения к мужу и его детям. Дети смотрели на нее враждебно, они видели в ней дурную женщину, ставшую между ними и отцом; при жизни мужа это недружелюбное отношение выражалось в нежелании ее видеть. Отношения ее к мужу, разумеется, не могли быть страстны, любовны; слишком большое различие лет полагало тому преграды. Она могла уважать его, чувствовать к нему привязанность и только. При таких условиях представьте себе Ольгу Петровну в тот момент, когда она узнала о смерти мужа. С одной стороны, и смерть при болезненном состоянии Василия Карловича Занфтлебена не могла быть полнейшею неожиданностью, и ее отношения к покойному не могли поразить ее до забвения, с другой стороны, отношения ее к детям выплывали во всей наготе. То, что сдерживало детей в проявлении их вражды – отец,– больше не существует; то, что составляло ее защиту – муж,– только что умер. Туда, на дачу, где жила она с мужем, явятся наследники, и она между ними беззащитна. Первая мысль, первое движение, разумеется, было обратиться к тому, кого покойный назначил своим душеприказчиком, кому в распоряжении просил передать все свое имущество. Ольга Петровна едет к Гартунгу и приглашает на дачу. Какими побуждениями руководствовался покойный, назначая Гартунга душеприказчиком, мы не знаем, но в таком положении Ольги Петровны, может быть, лежала одна из причин назначения душеприказчиком человека, сильного своим положением, способного оградить вдову Занфтлебен.