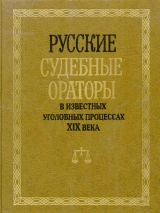
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 90 страниц)
Надобно заметить, что у Дмитриевой господствует прием показывать на суде только то, что записано в обвинительном акте. Сколько бы показаний у нее не было на предварительном следствии, но на судебном она их знать не хочет, она держится только слов, занесенных в этот акт. Но на суде обнаружились записки, писанные ею из тюрьмы. Записки эти оказались целы в руках г-жи Кассель. Появление их было до известной степени ново. Дмитриева, однако, знала о них, так как муж Кассель приходил к ней и напомнил о существовании этих записок не более месяца тому назад. Пришлось дать о них показание, и Дмитриева рассказала, что в то время, когда она виделась с Карицким в остроге, она по просьбе его написала их. Но так как он ей не дал денег, то она ему их не отдала, а потом отдала их смотрителю. Смотритель возил их к Карицкому, потом привез назад, зажег спичку и сжег их при ней. Так как записки целы, то значит, что смотритель ее обманул: сжег вместо этих записок похожие на них бумажки. Вот какие объяснения дает г-жа Дмитриева. Выходит, что при свидании она не согласилась снять оговора с Карицкого, но написала по его приказанию записки на имя Кассель. Выходит, что Карицкий, которому нужно снять с себя немедленно оговор, опозоривающий его имя, выманивает у нее записки, которые цели своей не достигают и во все время следствия не были известны, не были представлены к делу. Записки, которые так дорого ценятся, которые смотритель ездил продавать, которые притворно сжигаются, чтоб убедить Дмитриеву, что их нет, записки эти вдруг гибнут в неизвестности и ими не пользуется Карицкий во время предварительного следствия, когда они могли дать иное направление делу. Соответствует ли природе вещей, чтобы записки, при происхождении которых была, по словам кн. Урусова, разыграна глубоко задуманная иезуитская интрига, конечно, со стороны Карицкого, были оставлены в тени, были вверены в руки г-жи Кассель и при малейшей ее оплошности перешли в руки врагов Карицкого благодаря экономическим соображениям г-жи Кассель. Объяснение о происхождении записок, составляющее последнюю часть показания Дмитриевой об острожном свидании, лишено всякого вероятия. А если вы разделяете со мной недоверие к слову Дмитриевой, то от этого сначала так много обещавшего факта для обвинений ничего не остается.
Остается последний аргумент, последняя надежда обвинения – слова госпожи Дмитриевой. Остается ее оговор, каждое слово которого обвинителем считается за самую непогрешимую истину. Как истинно относится к своему слову г-жа Дмитриева, как точны ее показания, отчасти мы видели из ее слов, сию минуту нами разобранных. Несуществующие выигрыши, неестественнейшие интриги изобретает она для своих целей. На две части делится оговор Дмитриевой. Одна часть относится к краже, другая – к выкидышу. Ни одной из передач денег Карицким Дмитриевой, кроме ее, никто не мог засвидетельствовать. Никому, кроме Соколова, она даже слова не сказала о том, пока не случилось судебное следствие. Хотя и уверяет она, что ездила с ним в Москву вместе, но ехавшая с нею Гурковская не видала Карицкого ни на станции в Рязани, ни во время поездки, ни в Москве, ни при проводах обратно в Рязань. Дмитриева всю дорогу о Карицком не говорила Гурковской. А тогда ей нечего было скрывать Карицкого, ибо еще ничего подозрительного не было. По словам ее, она ездила с Карицким менять билеты, но неудачно; у Юнкера не приняли их, сказали, что билеты «предъявлены», у Марецкого тоже. Тогда их отобрал у нее Карицкий. Но тут опять несообразность. Карицкий не входит в контору Юнкера, значит, боится попасться. Тогда зачем же ему, узнавши от Дмитриевой, что билеты уже предъявлены, ехать к Марецкому и рисковать быть арестованным. Оговор имеет целью доказать, что билеты получены и отданы обратно Карицкому. Но у Карицкого и до этого, и после этого следствие не обнаружило перемены в финансовом положении; наоборот, у Дмитриевой мы видим те признаки, которыми обыкновенно сопровождается значительное имущественное приобретение. Незадолго до размена, может быть, тотчас за похищением, она распускает слух о выигрыше ею 25 тысяч, потом 8 тысяч. Оба слуха здесь были подтверждены Докудовской и Радугиным. Оба оказались вымыслами. После размена у Дмитриевой появляются экстраординарные расходы: в тот день, когда она, по ее словам, неудачно побывала в двух конторах, а неизвестная дама в третьей конторе, у Лури, разменяла билеты Галича, Дмитриева покупает для отца тарантас, а для себя разную мебель. По приезде в Рязань г-жа Дмитриева, до того времени платившая по 12 рублей в месяц Гурковской, увеличивает плату за квартиру больше чем вдвое, и кроме того, затрачивает 500 рублей на поправку дома г-жи Гурковской.
О ряжской поездке, которую, по оговору Дмитриевой, сделала она также по поручению Карицкого, сказано ею также много невероятного. Карицкий велит ей разменять только два билета, а дает ей четыре. Зачем же давать четыре, если два не нужно менять? Во время ряжской поездки она теряет купоны от билетов на станции. Купоны также из похищенных. Но станция не меняльная лавка, невероятно, чтобы там стали справляться о том, кому выданы потерянные купоны, и Дмитриева, при размене билетов назвавшаяся Буринской, здесь смело пишет свою фамилию. В Ряжске, когда ее руку свидетельствуют и пристав для удостоверения просит у ней вид, она так бойко и бодро сохраняет спокойствие духа, что пристав не подумал настаивать на предъявлении вида и поверил ей на слово. Видно, что не по чужому приказу, не по поручению другого лица меняла Дмитриева билеты, а перемену фамилии и все поведение свое в Ряжске сумела разыграть без посторонней помощи. Может быть, и действительно Соколову сказала Дмитриева о передаче ей билетов от Карицкого. Но к этому вынудил ее вопрос Соколова: откуда у ней столько денег? Действительность же передачи Дмитриева ничем не подтвердила, и показание ее хотя и остается без опровержения, но от этого оно нисколько не выигрывает, как ничем с ее стороны не подтвержденное.
Оговор о краже кончился. Что деньги были у Карицкого, что получены они от Карицкого, это мы знаем только от Дмитриевой. Достоверность оговора мы видели. Из двух лиц, между которыми колеблется обвинение, одно не было на месте кражи в момент совершения, другое во все вероятные моменты его; у одного в руках перебывали все деньги, у другого никто не видал ни копейки; у одного не видать ни малейших признаков перемены денежного положения, у другого и рассказы о выигрышах, и завещания, и расходы на широкую руку... Неужели оговора против лица, против которого нет ни одной улики, достаточно для обвинения, когда масса улик против оговаривающего подрывает значение оговора? Неужели ничего не значит то важное обстоятельство, что Дмитриева созналась в краже отцу и дяде, и вы, несмотря на ее сознание, поверите обвинению Карицкого? Несмотря на отвращение, какое старался поселить в вас к сцене признания защитник Дмитриевой, мы этой сценой дорожили. Прося прощения, Дмитриева плакала, и притворства тогда никто не замечал. Карицкий был приглашен родными как свой человек, имеющий влияние, могущий похлопотать – факт весьма естественный. У Карицкого после признания Дмитриевой Галичи провели день, обедали, и в его поведении не было никакого смущения или перемены. Его объяснения не были секретны.
Сознание Дмитриевой было искренно. Ему верят и сейчас. Я утверждаю, что самый близкий ей человек, отец ее, и сейчас ему верит. Так он говорил на предварительном следствии. Его нет теперь на суде, он отказался свидетельствовать на суде по праву отца. Этот отказ говорит много. Закон знает, что отцу тяжело свидетельствовать против своих детей. Сожаление, любовь будут стеснять правду. Оттого-то он и дает на волю отцу показывать или не показывать на суде. Само собой разумеется, что если бы дочь или сын невинно страдали, если бы отец мог доказать невиновность, то он не уклонился бы от свидетельства. Если же он уклонился, то, вероятно, потому, что знал о невозможности опровергнуть достоверность ему известного факта – сознания своей дочери.
По поводу выкидыша оговор Дмитриевой падает на несколько лиц. Если верить ей, то Карицкий убедил Сапожкова, убедил Дюзинга принять участие в этом деле и, наконец, покончил его собственной рукой. Ни одного из этих фактов ничем следствие не подтвердило. Обвинительный акт говорит, что Дюзинг и Сапожков признали, что Карицкий делал им предложение. Это неправда. Вы обоих подсудимых слышали; от защиты их вы услышите разбор оговора в этой части. Относительно правдоподобия оговора Дмитриевой о проколе я уже говорил. Сапожков же и Кассель показали нам, что виновника прокола надо искать не между подсудимыми. Сапожков особенною дружбой к Карицкому себя не заявил. Ведь он сделал донос об острожном свидании Карицкого, едва разнесся слух об этом. Так, если бы было верно, что приехавши от Карицкого после прокола пузыря, Дмитриева сказала об этом Сапожкову, не умолчал бы он о том. Кассель говорила о другом лице не только здесь на суде, но и прежде Стабникову. Как ни старались опорочить Стабникова, свидетельство его осталось, записка тоже. Сомневались в его честности, предполагали его участие во многих уголовных делах. Но мало ли в чем сомневалась защита Дмитриевой, мало ли во что она верила. Ее личное доверие и сомнение еще ровно ничего не доказывают. Что же касается участия Стабникова в уголовных делах, то после вопросов обвинителя и ответов Стабникова несомненно, что прокуратура в своих намерениях потерпела полное поражение.
Оговор Дмитриевой несостоятелен. Слова ее не подтверждаются, а вместе с этим и все обвинение Карицкого. Показание Дмитриевой – вот на чем построены предположения о виновности. Оговор подсудимого, даже и при отсутствии противоречий в нем, если его не подкрепляют сильные дополнительные доказательства,– опасная улика. Верить ему нужно осторожно. Много причин явиться ему на свет Божий, не имея за собой внутренней правды. Оговор снимает вину с оговаривавшего и перелагает ее на другого; оговор в соучастии иногда значительно облегчает вину оговаривавшего. В тюрьме развито широко учение об оговоре. Нам, ежедневно вращающимся с уголовными делами, сотни примеров приходят на память. Оговор Дмитриевой родился в тюрьме. В тюрьме после оговора в краже создала она и оговор в выкидыше. Но кроме общих причин для оговора у Дмитриевой есть и свои личные, особенные. Вы сами, видимо, доискивались этих причин, вы от себя предлагали Карицкому вопросы о причине, которая заставляет Дмитриеву клеветать на него. Тут надо принять две точки отправления. Иная причина, если была между ними связь, иная, если связи не было. Если не было связи, то обманутая надежда, данная ей Карицким, что ее сознание не поведет к осуждению, могло озлобить ее, и оговор, когда сознание привело ее в тюрьму, мог входить в план ее защиты, переносил вину на другое лицо и давал предположение, что дело потухнет во внимание к положению оговоренного. Раз дан толчок, раз злоба, месть овладела душой, а оговор недостаточно подтверждается, его усиливают другим. Допустим, что связь была. Тогда известное из следствия событие, что после кражи, обнаружившейся у Галича и сознанной Дмитриевой, Карицкий перестал бывать у нее, дает нам объяснение. Разрыв в минуту, когда помощь нужна, когда разрыв, соединенный с неисполненной надеждой, что дело будет замято, затруднял возвращение к семейству, мог дать толчок и мести, и оговору.
Господа присяжные! Я разобрал улики, приведенные прокурором; я рассмотрел три главных факта, которым была посвящена большая часть судебных прений. Многое ускользнуло из памяти. Но вы с неустанным вниманием следили за делом, вы сами давали вопросы, а следовательно, следили и за интересующими вашу мысль ответами. Многое, что нам хотелось разъяснить, что было в высшей степени важно для подсудимого, которого я защищаю, осталось в тени вопреки нашему желанию. В этом отношении настоящее дело имеет великое значение; настоящее дело не встретит другого подобного образца. Вы слышали, как оно велось.
Защита Дмитриевой и обвинение открыто не скрывали своих предубеждений против Карицкого, не скрывали своего предвзятого взгляда, что всякий свидетель, не обвиняющий Карицкого, забывает долг и святость присяги. Всякое объяснение Карицкого перебивалось десятки раз возражениями. Заявления его защитника встречали отпор, и если были уважены судом, то после долгих и бурных споров. Защитник Дмитриевой и прокурор не щадили усилий, чтобы подорвать доверие к нашим свидетелям, и, пользуясь благосклонным вниманием суда, почти распоряжались производством дела. Как ополчились они против свидетелей, вызванных нами, как созывали целый ряд свидетелей из публики и со всех концов Рязани, это вы видели. Как заявляли, что стоит только свидетелям нашим, подобно всем прочим, удалиться на ночь из суда, и всякая вера в них пропадет, и они им значения никакого не придадут – это вы слышали здесь. При таких данных борьба становилась час от часу труднее. Теперь настал ей конец. Наступает ваша очередь вашим приговором положить конец спорам и пререканиям. Я жду его с полным убеждением, что вы вынесете решение, которое вам внушит ваша совесть, управляемая разумом и опытом жизни. Я жду от вас приговора, который будет результатом тех убеждений, которые вы вынесли из судебного следствия. Это не будет безотчетное впечатление, Бог знает каким путем запавшее на душу. Суд по инстинкту не может быть правильным. Лучший институт присяжных, которому удивляется наука, английский, давно руководствуется правилом обвинять не иначе, как по строго проверенным и убеждающим мысль человеческую данным. Вы не дадите себя увлечь, правда, громким, сильным, но все-таки недостойным правосудия доводом, сказанным моими предшественниками. Осудить Карицкого, потому что он сильный человек, обвинить, потому что он не склоняет головы, внушали вам. Вы сделаете честное дело, говорили вам, вы покажете, что русский суд – сила, что смеяться над ним нельзя. Господа, обществу нужно правосудие; правосудие же должно карать тех, чья вина доказана на суде. Общество не нуждается, чтобы для потехи одних и на страх других время от времени произносили обвинение против сильных мира, хотя бы за ними не было никакой вины. Теория, проповедующая, что изредка необходимо прозвучать цепями осужденных, изредка необходимо наполнять тюрьмы жертвами, недостойна нашего времени. Вы не поддадитесь ей! Подсудимый, вина которого не доказана, может ввериться смело суду вашему. Его положение, симпатия и антипатия к нему разных слоев общества для вас не имеют руководящего значения. Вы будете только судьями совести. Вы мудро ограничите свою задачу тем, что дало судебное следствие. В этих строгих рамках судейской мудрости вы, может быть, не понравитесь проповедникам теории равенства или теории жертвы цепей, но зато вы найдете оправдание своему делу в вашей совести и во мнении общества.
Речь присяжного поверенного В. Д. Спасовича в защиту Дюзинга
Господа судьи и господа присяжные заседатели! Прежде чем приступить к подробному рассмотрению настоящего дела, насколько оно касается моего клиента, я должен вам сказать, что в каждом уголовном деле неминуемо возникают следующие вопросы: совершилось ли событие преступления, и, если совершилось, то должно ли рассматриваемое преступление быть вменено в вину подсудимому? В настоящем случае выяснилось, что у г-жи Дмитриевой было произведено изгнание плода. С этим как будто согласились все стороны. Никто, по крайней мере, не оспаривал этого вопроса. Тем не менее, из того обстоятельства, что никто из сторон не оспаривал действительности этого факта, не следует еще, чтобы факт этот не мог быть оспариваем. В настоящем деле неоспоримым является только то обстоятельство, что ребенок, подброшенный в 1867 году на Семинарском мосту, оказался рожденным преждевременно. Из того, что выяснилось нам на суде, нельзя даже с точностью определить, вследствие чего была прекращена жизнь найденного на Семинарском мосту младенца. Является неизвестным вопрос о том, отчего произошли преждевременные роды. Помогало ли этому искусство, или преждевременные роды были вызваны силами природы,– это обстоятельство, говорю я, не является для нас несомненно ясным. Следующий за этим второй вопрос заключается в том, могут ли и должны ли быть обвинены подсудимые только на основании одного оговора Дмитриевой. Затем, последний, главный вопрос: согласно ли со справедливостью или нет применить в данном случае к подсудимым то наказание, которое полагает за это преступление наше Уложение. Касаясь этого вопроса, я желаю собственно рассмотреть характер того преступления, в котором обвиняется мой клиент, характер преступления, как он понимается нашим Уложением и лучшими законодательствами Европы. Преступление, которое рассматривается в настоящее время, есть изгнание плода. Наше Уложение говорит: «Кто без ведома и согласия беременной женщины умышленно каким бы то ни было средством произведет изгнание плода, тот подвергается такому-то наказанию». Закон в этом случае считает виновным только того, кто без ведома и согласия беременной женщины произведет изгнание плода, и ни слова не говорит о том, кто совершит это преступление не только с ведома и согласия, но и при участии самой беременной женщины, и считает такого человека как бы совершенно ненаказуемым, тогда как казнит тех, кто с ведома и согласия беременной женщины употребит только средства к изгнанию ее плода, хотя бы самого изгнания плода и не произошло. Это явная обмолвка в законе. Все лучшие законодательства Европы, все лучшие криминалисты не допускают такого деления преступления, какое делает наше Уложение. В настоящем случае обвинение построено главным образом на оговоре подсудимой Дмитриевой. Оговор этот представляется на первый раз очень сильным, но тем не менее безусловно верить ему нельзя уже потому, что душа человека все-таки потемки. Посмотрим на те обстоятельства, при которых оговор этот сделан был Дмитриевой. В тюрьму к ней приехал судебный следователь и сказал, что дело о краже кончено, что она одна только уличается во всем, что ее указания на других лиц оказываются совершенно напрасными, и только после такого сообщения следователя она заявила о втором своем преступлении. Дмитриева, как вы видите, женщина увлекающаяся, страстная, ничего не умеющая делать наполовину. Раздраженная раз против того, кого она считала виновником своих несчастий, она прямо повела войну против него, войну страшную, в которой были употреблены всевозможные средства, одно другого изобретательнее. Уже по самому характеру страстности, лежащему на ее оговоре, нельзя придавать ему большого значения. Прямая цель ее оговора – обвинить того, кого она считает главною причиной своих несчастий. К этому прибавилось еще одно обстоятельство, еще более запутывающее это дело. Предварительное следствие началось два года тому назад, и потому в памяти участвующих лиц действительные события смешались с теми, о которых они услышали в первый раз у следователя. Вот почему подсудимые так часто ссылались на свои прежние показания. Дюзинг отрицает оговор Дмитриевой, и хотя г. прокурор и ссылается на противоположные показания Дюзинга, данные на предварительном следствии и внесенные им в обвинительный акт, но тем не менее нельзя согласиться с тем, чтобы обвинительный акт мог иметь на суде такое значение, какое придает ему г. прокурор,– значение доказательства. Ни практика, ни судебные уставы не дозволяют делать ссылки на обвинительный акт в смысле доказательства.
Интересы подсудимых Сапожкова и Дюзинга в значительной степени между собой солидарны; верить им также нельзя, верить следует только истории дела, которое открывается оговором Дмитриевой. Но для того, чтобы сделать правильную оценку этого оговора, нужно проследить всю жизнь госпожи Дмитриевой. Первый факт, на который обращу ваше внимание, это именно образ жизни г-жи Дмитриевой до 1867 года. Вера Павловна принадлежит к знатному и зажиточному роду помещиков Рязанской и Тамбовской губерний. Вы слышали из судебного следствия, что она получила в приданое 9 тысяч рублей и могла рассчитывать еще на наследство приблизительно в 25 тысяч. Она была женщина красивая, и следы этой красоты видны еще теперь. Когда ее выдали замуж, ей было всего 17 лет. Замужество в такие ранние годы во многих случаях может быть уподоблено лотерее, но лотерее не без проигрышей. В большинстве подобных случаев возникают такие раздоры, такие семейные несогласия, из которых нет выхода. Нередко виновным бывает то лицо, которое сильнее: глава семейства, то есть муж. Здесь вы слышали показание мужа Дмитриевой; он прямо говорит, что виноват был он один в том, что по прошествии четырех лет они разошлись. Я не могу касаться этого предмета, потому что не знаю поводов, послуживших к разрыву. Но почему бы там ни было, дочь возвратилась к своим родителям, которые не могли не быть в претензии на своего зятя. С этих пор г-жа Дмитриева живет у своих родителей, сначала безвыездно в деревне, и здесь-то у ней открываются болезни, болезни внутренние, от которых она лечится с 1864 г. Болезни эти играют весьма важную роль в обстоятельствах настоящего дела. Множество врачей призывается ее пользовать, а в 1867 году ее лечит почти весь медицинский персонал города Рязани. Прежде всех призывается Каменев; она страдает в это время кровохарканьем и отсутствием регул. Затем ее лечат Модестов и Битный-Шляхто, по показанию которого она спрашивала его в последних числах марта, не беременна ли она. Г. Битный-Шляхто, найдя у нее отклонение матки, делает ей операцию, после которой менструации восстанавливаются. Факт этот чрезвычайно важный, и им положительно доказывается, что в конце марта не начиналась еще беременность, первым признаком которой служит приостановка регул. Сама г-жа Дмитриева говорит, что беременность ее началась с мая месяца. Но так как первое движение младенца в утробе матери обнаруживается не ранее пятого месяца, то едва ли она в то время могла быть положительно уверена в своей беременности. Приостановка регул, как аномалия весьма обыкновенная у г-жи Дмитриевой, сама по себе, без других признаков не могла ее убедить в этом. Около этого-то времени и состоялся перевод Сапожкова в Рязань, будто бы вызванного для произведения выкидыша, когда о беременности не было еще почти и разговора. Что касается отношений Дюзинга к Сапожкову, то они существовали еще гораздо прежде вопроса о переводе последнего и были как частного, так и служебного свойства. К тому же г. Сапожков был известен как врач опытный, честный и знающий свое дело. Поэтому нет ничего мудреного, что, когда открылась вакансия на должность уездного врача в Рязани, то между многими соискателями преимущество было отдано Сапожкову. Первое письмо об этом, в котором ни слова не говорится про Дмитриеву, было послано Дюзингом к Сапожкову в июне 1867 года, то есть в то время, когда беременность Дмитриевой не была еще ей самой известна. Ясно, следовательно, что между беременностью Дмитриевой, лечением ее в это время и переводом г. Сапожкова в Рязань нет ничего общего. В рассказе г-жи Дмитриевой о том, как она познакомилась с Сапожковым, весьма неправдоподобны ее указания на то, что посредником между нею и Дюзингом по вопросу о выкидыше был г. Карицкий, связь которого с нею была тайной для Рязани. Карицкому было бы несравненно удобнее посоветовать ей самой обратиться к г. Дюзингу, с которым она была знакома с 1864 года, и тот, по всему вероятию, как мало сведущий в женских болезнях, вместо себя отрекомендовал бы ей другого врача, хоть, например, того же Сапожкова. Более правдивым поэтому должно считать показание Дюзинга, который говорит, что в конце июня Дмитриева по старому знакомству обратилась к нему с просьбой указать ей врача, которому она могла бы довериться и поручить себя, и так как перевод Сапожкова в то время уже состоялся, то он, Дюзинг, зная его за хорошего акушера, и рекомендовал его г-же Дмитриевой. В этом смысле Дюзингом было написано второе письмо его к Сапожкову от 1 августа 1867 года, где помещена такая фраза: «У меня есть одно дело, за которое можно получить вознаграждение». В этой фразе нет ничего медицинского; полагаю, что она относится к тем денежным отношениям, которые существовали между Дюзингом и Сапожковым. Письмо это писано 1 августа, а в своем показании Дмитриева говорит, что только в августе составлен план об изгнании плода, план, которому надо было дать еще созреть. Результатом письма было то, что г. Сапожков 8 августа действительно явился в Рязань, но здесь оказалось, что Дмитриева не особенно нуждалась в помощи докторов и, не дожидаясь Сапожкова, уехала в деревню, вследствие чего Сапожков, не видавшись с Дмитриевой, возвратился в Скопин. Вторая поездка Сапожкова также окончилась ничем, потому что он снова никого в Рязани не застал, кроме Дюзинга, который перед ним только извинялся... Вскоре после второй поездки Сапожкова г-жа Дмитриева снова начинает просить Дюзинга пригласить врача, которого он обещал ей отрекомендовать, говоря, что она чувствует себя очень нехорошо и т. д. И вот пишется третье письмо, в котором есть слова, играющие в глазах обвинения столь важную роль, а по моему мнению, совершенно невинные. Слова эти – маточный зонд и маточное зеркало. Затем в письме говорится об особе, требующей услуг и могущей рекомендовать врача Сапожкова другим своим знакомым. Но из этой последней фразы можно сделать какое угодно предположение. Вспомните объяснения эксперта о зонде и зеркале. Употребление последнего не представляет никакого вреда ни до беременности, ни после нее. Что же касается до зонда, то этот инструмент употребляется при лечении всех женских болезней для распознавания неровностей и для гигиенических целей. Но употребление зонда во время беременности может быть опасно, сказал эксперт. Беременность Дмитриевой была констатирована гораздо позднее письма, в котором упоминается о зонде, уже после того как Сапожков приехал в Рязань и был созван консилиум; следовательно, нет никакого основания видеть что-либо подозрительное в просьбе Дюзинга приезжать с маточным зеркалом и маточным зондом. Дюзинг не пишет ни слова, для какой надобности он просит привезти эти инструменты, и есть только указание на то, что они нужны для исследования болезней Дмитриевой.
Обвинение указывало на то, что слова «маточный зонд» в письме были зачеркнуты Сапожковым. Но я не вижу в этом обстоятельстве ничего такого, что набрасывало бы тень на обоих врачей. Я прошу вас вспомнить, что оба врача были беспощадно посажены в тюрьму и что от них отбирались весьма строгие показания. В подобный момент действительно можно запутаться: Сапожков не захотел истребить этого письма, думая заручиться в нем средством для оправдания; но так как Дмитриева уже объяснила, что выкидыш был произведен посредством прокола зондом, то ему в то же время не захотелось оставить в письме такое слово, которое может навести сомнение на его участие в этом преступлении. Но кто из нас, если бы узнал, что началось уголовное следствие над близким нам человеком, не только не зачеркнул бы подобную фразу, но не истребил бы даже все письма, говорящие о нашей близости к этому человеку, дабы таким образом избавить себя от неприятности быть запутанным в чужое дело?
Относительно знакомства Сапожкова с Дмитриевой я допускаю, что в первое свидание их шел разговор о разных разностях, не идущих к делу. Между прочим, Дмитриева намекнула о своем намерении произвести выкидыш. Сапожков начал ее лечить; но когда ей понадобился острый зонд, он отказался ехать за ним в Москву, и затем последовал консилиум, происходивший, по всей вероятности, 26 октября, и после которого ей стали давать различные плодогонные средства: янтарные капли, спорынью, души. Но прежде чем разбирать годность этих средств для предположенной цели, надобно вникнуть в положение доктора, когда его призывает больная и обращается к нему с подобным предложением. Оно обыкновенно делается не открыто, а намеками, сначала весьма отдаленными; затем больная открывает врачу, что ужасно страшится последствий своей беременности и что она поэтому желает освободиться от плода. Как в этом случае поступить врачу? Пойти и донести начальству? Но его после этого ни в один дом не пустят, если он вздумает разглашать все тайные, может быть, даже мимолетные желания, которые сообщают ему больные. Да и кем он явится к начальству? Доносчиком без всяких доказательств. Мало того, он не может это сделать еще и потому, что связан клятвою, отбираемою от каждого врача по окончании курса,– клятвою, которая обыкновенно пишется на латинском языке на обороте каждого диплома и где, между прочим, говорится: «Обещаюсь все тайны семейные хранить, никогда не злоупотребляя выраженным мне доверием». Во-вторых, врач ко всякому заявлению больного должен прежде всего отнестись критически и разобрать в точности, нет ли достаточных поводов к приведению в исполнение заявленного ему желания; он не может знать заранее, какие будут роды, не будут ли они происходить при таких условиях, когда понадобится врачу самим законом предоставленное право уничтожить плод в утробе матери. Спрошенный на суде эксперт говорил присяжным, что когда видно, что ребенок не может остаться живым и сама мать умрет от этих родов, тогда врач имеет полное право преждевременно извлечь ребенка из утробы при помощи оперативных средств. Затем, врач становится иногда в такое положение. Ему говорят: «Я больна, роды у меня обыкновенно бывают мучительные, мне страшно, я боюсь их, помогите! Что мне делать? Я не могу их вынести». Донос был бы немыслим. Увещевать больную, что это невозможно, что это грех – лишняя трата времени. Сказать, что я вас брошу, что я не возьмусь за это дело – непрактично, нечеловечно, так нельзя поступать с женщиной, которая убита, находится в отчаянии, в таком отчаянии, что готова решиться на все. Лучший способ есть избранный в настоящем деле Сапожковым, то есть говорить больной: теперь не время, посмотрим, увидим. А время, между тем, уходит; пройдет один месяц, два месяца – всегда будет надежда на то, что у женщины, в особенности у женщины увлекающейся, характер мыслей изменится, дурь пройдет и в одно прекрасное утро она отправится куда-нибудь на богомолье. Есть сотни способов спасти ребенка, кроме доноса. Каждый благородный врач, верный благоразумию и принятой им присяге, не может поступить иначе. Так поступил Сапожков, и потому образ его действий самый простой, самый естественный.








