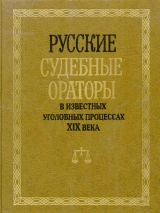
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 79 (всего у книги 90 страниц)
Антон Мешковский, секретарь редакции газеты «Ежедневный курьер», с Висновской познакомился в 1882 г. Висновская в шутливом тоне называла Мешковского братом и была с ним на «ты». Круг ее знакомых в то время был очень мал и состоял из артистов и литераторов. Она в то время усиленно предавалась умственной работе, в ущерб своему физическому развитию. Вскоре она заметила, что ее труды по развитию таланта совершенно напрасны. Тогдашнее театральное управление не находило для нее соответственных ролей и затрудняло разными мелочами. Самолюбие ее страдало. Тогда в ней произошел переворот. Для сценических триумфов она стала прибегать к другому средству. Пользуясь недурною наружностью, при врожденном кокетстве, она стала привлекать к себе внимание на сцене более своею личностью. С тех пор у нее появилась масса поклонников, но вместе с тем появился и новый элемент в ее жизни. Она заметила, что большинство ее поклонников были просто самцы, ожидавшие ее падения; она должна была вести двойную игру, поддерживая, с одной стороны, приверженность к себе ее поклонников, а с другой – защищаясь от их сластолюбивых поползновений. Она нуждалась в нравственной поддержке, но не находила ее среди окружающих. Напротив того, все, что она видела вокруг себя, толкало ее в пропасть. Вступив на путь моральной порчи, она точно по наклонной плоскости шла все дальше и дальше по этой дороге, считая не более как фарсом всякие мужские вздохи и клятвы; она приучилась не верить им, а только забавляться ими, пользуясь для этого чувствами своих обожателей, как материалом, добываемым изобретательностью своего кокетства. «В 1887 г. однажды, ни с того ни с сего, Висновской пришло в голову отравиться вместе со мною,– рассказывал Мешковский,– и отдаться мне в последние 15 минут своей жизни. Она вынула из бюро флакон с хлороформом, намочила им платок и стала нюхать; я ударил ее по руке, платок упал, но хлороформ успел уже подействовать, и она упала в обморок. Я сильно потряс ее, и она пришла в чувство. Это было поздно вечером. Когда она очнулась, я ушел домой. На следующий день я сделал ей упрек по поводу ее легкомысленности, а она в шутливом тоне мне отвечала: «Ты, брат, думал, что сестра твоя серьезно отравится? Погоди, надо еще показать нашей публике хорошенькую роль. Ты молодой трус!» Когда Висновская возвратилась после путешествия 1887 года, то переменилась еще больше; той сердечной теплоты, которою веяло от нее в прежние годы, не осталось и следа; в разговорах чувствовалась дерзость и холод; сценический успех ее возрастал, но спокойствие стало уменьшаться. Между ее знакомыми появился новый элемент, которого прежде не было: она стала принимать военных. Этот новый элемент оттолкнул отчасти от Висновской старых ее знакомых, многие из которых, преимущественно из мира журналистики, считали для себя стеснительным встречаться у нее с военными и совершенно перестали посещать ее, вследствие чего интеллигентный кружок, в котором она когда-то вращалась, значительно сократился. Висновская видела это, понимала, что очутилась вне того общества, которое содействовало развитию ее артистического таланта и что возврат к прежнему едва ли возможен, и приходила от этого в бешенство, она была слишком горда и амбициозна для того, чтобы сознаться в своих ошибках, и, устраивая свою жизнь на этих новых началах, сама отрезала себе путь к отступлению. Как эта жизнь ее, так и новая квартира устроены были таинственно, темно и душно.
Разговоры велись свободные, и в Висновской стала развиваться чувственность. Однажды она долго расспрашивала Мешковского о лесбосской любви и т. п. Она охотно заводила разговор на эти темы и ясно стала обнаруживать болезненное раздражение своего ума. В ней проявились сильные симптомы неврастении. В последнее время общественное мнение ее раздражало, и она, не принимая мер к устранению дурных условий своей жизни, вела только борьбу сама с собой и предавалась самоистреблению. Нервозность развилась у нее до высокой степени и рядом с этим желание взять от жизни все, что только возможно. Принципом ее стало: жить и пользоваться жизнью! Недели за две до смерти она как-то сказала: «Каждая женщина должна поступать как купор, пробовать каждое вино, но ни одним мужчиной не упиваться». Дней за десять до смерти Мешковский обедал у Висновской. Она плакала, рассказывая свою жизнь, и жаловалась, что все требуют ее тела, а не души, что ее поклонники страшно ей надоели, что она путается в обещаниях, которые дает каждому; что все хотят жениться на ней и преимущественно генерал Палицын; что никого из них она не любит и теряет голову, не зная, что делать и как из всех этих затруднений выйти. 15 июня Висновская разговорилась о своем положении и сказала, что решилась уехать на продолжительное время за границу, но предварительно съездить для отдыха в Галицию на несколько недель, а потом поедет на год в Америку, рассчитывая, что за этот период времени о ней забудут и все толки умолкнут, а вернувшись, примется за труд и будет вести другой образ жизни. «Буду хорошей полькой и твоей сестрой опять,– сказала она Мешковскому,– будь спокоен; только мне надо уехать!» Висновская о Бартеневе Мешковскому ничего не говорила, и, по словам свидетеля, не заметно было, чтобы она его любила. Трудно объяснить, какую она имела цель, назначая Бартеневу свидание. Вероятно, она хотела окончательно с ним переговорить перед отъездом и поиграть с ним в любовь – занятие, которое всегда ей доставляло удовольствие. Те две записки, которые были найдены целыми, очевидно, были написаны первыми. «Для меня,– говорил свидетель,– представляется несомненным, что она тогда еще играла комедию; но когда увидела, что зашла уж чересчур далеко и почувствовала действительную опасность, тогда и написала те три записки, которые найдены изорванными, хотя в них видна еще актриса. Недели за три до смерти Висновской я был у нее, и она, отыскивая какую-то карточку, открыла верхний ящик правого шкафчика у зеркала в гостиной; в этом ящике я увидел револьвер большого калибра, ныне мне предъявленный, и спросил Висновскую, не гусарский ли это револьвер, подразумевая Бартенева, на что она ответила: «Ну да, гусарский!» В другой раз, недели за четыре до смерти, когда я сидел у Висновской, послышался в передней металлический звук вроде сабельного, и я сказал, что, вероятно, пришел Бартенев. Висновская вздрогнула и заметила: «Ах, это смерть моя!» О самоубийстве Висновская никогда ничего мне не говорила».
Казимир Залевский, издатель-редактор газеты «Век», показал: «Познакомился я с Висновской в 1881 г., когда она начала играть в моей комедии «Жена подкомория». В 1881 и 1882 г. я бывал у нее часто, а потом посещал реже. Еще в начале нашего знакомства она мне говорила о частых посещениях Палицына и о том, что он подарил ей шнур кораллов и штуку бархатной материи. Висновская была очень кокетлива и действовала в этом отношении наступательным образом: близко садилась, брала за руку, уверяла человека, что он неизбежно должен в нее влюбиться и т. п. Цель этих заигрываний была вполне понятна. Писателей она старалась расположить для получения хороших ролей, а других – для аплодисментов и обеспечения себе театрального триумфа. Преследование этих целей было настолько настойчивым, что превратилось у нее в своего рода манию. Затем в Висновской стала проявляться нервная раздражительность, она стала жаловаться на свою судьбу, часто плакала, страдала от головных болей и мигрени и стала относиться ко всему пессимистически. В 1887 г. она уехала за границу. По возвращении, через год, она стала играть с большим чувством, но все выходило у нее как-то ужасно нервно. О Палицыне, состоявшем уже тогда в должности председателя театров, говорили, что он влюблен в Висновскую, часто у нее бывает и хочет на ней жениться. Висновская приобрела огромный вес в театральном мире. В театре шли только те пьесы, которые нравились Висновской, а остальным не давали хода. В прошлом году она уехала на полтора месяца на гастроли в Краков, и, по слухам, вступила в интимные отношения с каким-то богачом. Возвратившись в Варшаву, она просила меня зайти и прибавила, что не выйдет из квартиры до тех пор, пока не повидается со мною. Когда я пришел, она мне говорила, что ездила из Галиции в Венецию, что Палицын просил ее приехать в Берлин, куда она и прибыла, и уговорил ее вернуться в Варшаву, куда она и не думала уже возвращаться. Во время разговора она вдруг устремила глаза в угол комнаты и стала на что-то показывать пальцем, говоря, что видит что-то. Я сначала принял это за комедию, но потом заметил, что она как-то судорожно вся съежилась, похолодела и на ее лбу выступил пот. Успокоившись, она сказала, что видела дьявола, что она видит его уже в третий раз и что это привидение притягивало ее взор, и что на лице у этого дьявола виднелся кровавый шрам, из которого струилась кровь. Из этого я заключил, что она серьезно больна, что это очевидное проявление психоза, и что ей грозит помешательство. Нервозность ее развивалась все более и более, раздражительность усиливалась, и, мало-помалу, ей стала изменять память; в последние недели своей жизни она уже не могла выучить своей маленькой роли в комедии «Ой, мужчины, мужчины!» Хотя она играла в этой комедии, но довольно плохо; она говорила мне о своем предчувствии, что эта роль последняя в ее жизни. В последнее время она стала забывать даже прежние свои роли в других пьесах и вообще играла гораздо хуже, чем прежде. Болезненный процесс упадка умственных сил рядом с нервным раздражением шел у нее очень быстро. В последний раз видел ее за кулисами 15 июня; она играла в пьесе «Ой, мужчины, мужчины!» и была в сильном нервном раздражении. Между прочим, она тогда сообщила мне, что генерал Палицын разрешил ей годовой отпуск. Я советовал ей, если она непременно хочет уехать, отправиться во Львов, и обещал послать к ней директора львовского театра Шмидта для переговоров. На следующий же день я послал к ней Шмидта, и он сообщил мне, что Висновская согласна ехать во Львов, но требует 6 тысяч флоринов в год. Шмидт еще не решил, как он поступит в этом случае. Содержание пяти предъявленных мне записок (двух целых и трех разорванных) несомненно доказывает, что Висновская разыгрывала с Бартеневым комедию, чего он, по всей вероятности, не понимал. Без сценических приемов она не могла обойтись, потому что она настолько сроднилась с ними, что сама собой никогда почти не была. Игра чувствами – это был ее конек, любимое занятие, которое она переносила со сцены в жизнь, но на этот раз она, очевидно, ошиблась в расчете. Целые записки были написаны несомненно первыми, когда Висновская была еще далека от мысли об опасности. Я уверен, что если бы эта комедия не окончилась так трагически, Висновская непременно показала бы эти записки тем, кому они были адресованы: одну матери, другую генералу Палицыну, и не упустила бы случая похвастать, что она уже была на краю опасности и даже в этот последний момент помнила о них. Когда же она увидела, что действительная опасность возможна и Бартенев застрелится на ее глазах, тогда она для оправдания себя же самой написала, очевидно, те три записки, которые найдены изорванными. Она могла сама же их изорвать, предполагая, что в таком виде они будут иметь больше значения как доказательства ее невиновности. Я убежден, зная ее характер и манеры, что даже в самый последний момент она не чувствовала действительной опасности, даже когда приготовлялась пить опиум, и тогда была уверена, что Бартенев вырвет из ее рук отраву, оторвет от рта и не даст погибнуть. До момента выстрела мне все понятно в этой драме. И яды, и револьвер она могла сама принести; все это в ее вкусе и очень на нее похоже; но сам факт смерти не мог произойти по ее желанию. В увлечении она могла даже выпить опиум, потому что Бартенев ее не удержал, но тогда она просила бы его скорее послать за доктором, чем покончить выстрелом, так как она слишком любила жизнь и расстаться с жизнью она не могла. Я имею еще в виду то обстоятельство, что Бартенев и Висновская были в тот момент сильно навеселе. Висновская была не прочь при случае выпить и однажды говорила мне, что выпила одна полбутылки коньяку, а в другой раз она при мне у себя в квартире допивала одна бутылку портера. При ее нервозности ей немного и пить нужно было для того, чтобы уже от этого одного прийти в совершенно ненормальное положение. Что касается выражений «ловушка» и «западня» и что ее «втянули», то смысл этих выражений может быть понятен только тогда, если принять во внимание все прошлое Висновской. Квартира, где она умерла, действительно могла казаться ей западней, но не в том смысле, что она чувствовала себя там лишенной свободы в буквальном смысле, а в том, что без скандала, пожалуй, ей не удастся выйти оттуда. Выражение «мне предстоит умереть» употреблено было ею, очевидно, для объяснения того, что и ей самой грозила опасность. Выражение «втянули меня» я понимал в том смысле, что не один только Бартенев, но и другие способствовали нравственному ее падению. Все это было написано Висновскою, по моему убеждению, для оправдания самой себя на случай, если бы Бартенев при ней там застрелился, но не ввиду опасности для собственной ее жизни. Она затеяла опасную игру с Бартеневым, и на это следует смотреть как на одну из ее обыкновенных эксцентричностей. Вообще, при оценке действий Висновской необходимо иметь в виду эту ее особенность, в противном случае многие из ее поступков будут казаться непонятными. Насколько я заметил, Висновская не любила своей матери, хотя прямо этого она никогда не высказывала. Я думаю, что прошлое матери Висновской, не отличавшейся в замужестве особенною стойкостью в нравственном отношении, и ненормальное умственное состояние отца Висновской, окончившего, по слухам, жизнь самоубийством, вероятно, не прошли бесследно для Марии Висновской».
Владимир Фольборт, эскадронный командир лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, показал: «Бартенев, вступив в полк, умел себя замечательно хорошо поставить среди товарищей. Доброта его выражалась в отношении и к нижним чинам. 15 июня мы с эскадроном были в поле; утро было замечательное, местность живописная; среди разговора Бартенев вдруг сделался меланхоличным и заговорил на тему, что он не так себе представлял жизнь, как она есть на самом деле, что родители его не понимают, не желают доставить ему счастья, но потом оборвал разговор, предложил выпить, а затем предлагал мне в воскресенье поехать с ним и с Висновской ужинать, но я от такого предложения отказался. В понедельник, 18 июня, на ученье я встретился у эскадрона с Бартеневым, и он мне сказал, что чувствует себя нехорошо после вчерашней попойки и что он не хотел бы выезжать в строй. После ученья мы сели завтракать; Бартенев пришел к концу завтрака, съел что-то и предложил нам выпить шампанского; я выпил стаканчик, скоро ушел и больше Бартенева не видел. Бартенев отличается крепким телосложением, но он человек довольно нервный и очень впечатлительный. Особенно на него действовала музыка и сценические представления, доводившие его иногда до слез. Он добрый, веселого нрава, склонен к восторженности, любит музыку и пение, сам обладает высоким тенором; играет чуть ли не на всех инструментах. Жестокости в его характере нет. Умственно он здоровый человек».
Юлий Елец, штабс-ротмистр лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, так охарактеризовал подсудимого: «Бартенев представлялся мне всегда здоровым человеком в умственном отношении. Он любил выпить и в пьяном виде был надоедлив, но трезвый был спокоен, рассудителен, любил иронически относиться к другим. Характер у него скрытный. Бартенев – это широкая, редко встречающаяся теперь натура с идеальными взглядами на жизнь. Веселый характер и музыкальные способности делали его приятным в обществе. Я часто его останавливал от вина, говорил, что так можно спиться с круга, но это не помогало, и он как бы хвастал умением выпить более других. В декабре он резко изменился, это была тень прежнего веселого Бартенева. Мрачный, необщительный, он или исчезал по целым дням, или сидел в полку за бутылкой. Затем я уехал, а в феврале нашел Бартенева еще более мрачным и задумчивым, и как-то в разговоре он выразил намерение покончить с собою, говоря, что это у них в семье».
Такие же отзывы дали товарищи Бартенева корнеты Крум и Григорьев. Между прочим, они показали, что Бартенев не любил, чтобы с ним говорили о Висновской, он, по-видимому, очень ревновал ее.
О состоянии Бартенева лица, видевшие его спустя несколько часов после смерти Висновской, показали: Александр Лихачев, ротмистр лейб-гвардии Гродненского гусарского полка: «19 июня, между пятью и шестью часами утра, я услышал сильный стук в дверь, и когда денщик открыл дверь, в комнату вошел Бартенев, скинул шинель на кровать и, обращаясь ко мне, сказал: «Вот мои погоны», сделав жест по направлению к погонам, потом прибавил: «Я застрелил Маню!» Спросонья я не разобрал слов Бартенева, встал и спрашиваю: «Какую Маню?» Бартенев ответил: «Я застрелил Висновскую», затем, повернувшись к шинели, сказал: «Вот и револьвер», намереваясь его вынуть, но я просил его оставить, оделся и вышел, надев шинель Бартенева, так как не хотел оставлять револьвера из опасения самоубийства. Корнет граф Капнист и штаб-ротмистр Елец, отправленные в город, удостоверили факт убийства, и я тогда отправился с докладом к полковому командиру. О подробностях я не расспрашивал Бартенева. Пьян он не был, хотя вообще любил выпить. Он явился в сильно возбужденном состоянии, глаза' были как у помешанного – блуждающие, на лице показывались судороги, и хотя речь и движения были спокойны, но по всему было видно, что он сильно расстроен. Когда я одевался, он произнес отрывочные фразы, говорил, что у него с Висновскою было условлено умереть вместе и что он не знает, почему себя не застрелил».
Юлий Елец, штабс-ротмистр лейб-гвардии Гродненского гусарского полка: «В 5 ч 20 мин меня разбудил граф Капнист словами: «Вставай скорее, Бартенев убил Висновскую; он теперь у Лихачева, который едет к генералу, а я в город, чтобы удостовериться. Побудь пока с ним!» Я побежал к Лихачеву, посреди комнаты, с блуждающими глазами, стоял Бартенев. «Что ты наделал?» – сказал я ему. «Я сейчас ее убил; мы решили покончить с собою»,– отвечал Бартенев. «Да ты опомнись, может быть, она сама застрелилась?» – «Нет, нет, я отлично помню, как выстрелил в нее, в упор; она несколько секунд дрожала и умерла со словами: «Прощай, я тебя люблю!» Я не понимаю теперь только одного, как это я остался жив, отчего я не лег там рядом с ней, ведь все уже было готово!» Когда я после поездки на Новгородскую вернулся в полк, то застал Бартенева над выдвинутым ящиком своего стола, перебирающим какие-то письма. «Это ее!» – обратился он ко мне и зарыдал; когда он хотел разорвать письма, я остановил его и сказал: «Не рви их, может быть, в них что-нибудь есть, могущее смягчить твою участь», и отобрал у него письма».
Герасим Сечинский, корнет лейб-гвардии Гродненского гусарского полка: «Когда после убийства Бартенев в казармах вышел из квартиры в сад, то там он нам рассказывал, что у него с Висновской было давно решено, что они лишат себя жизни и что это решение было вызвано тем, что брак между ними невозможен. В шестом часу утра ко мне пришли Бартенев с Крупенским; Бартенев держал погоны в руках и, войдя в комнату, бросил их на стол. У него был совершенно ненормальный вид: глаза и выражение лица были тупые, под глазами красные пятна, часто хватался за голову и говорил так тихо, как будто бы беседовал сам с собою. Мне тяжело было первому начать разговор, и я ждал, когда Бартенев сам начнет рассказывать. Он начал тихо рассказывать, что у них было давно решено лишить себя жизни, что однажды она уже отравилась, но не умерла, что в этот последний раз она привезла револьвер, опиум и хлороформ, что когда Висновская заснула на его руке, он выстрелил ей в упор, под левую грудь. «Я,– сказал Бартенев,– подлец и сам не понимаю, как я себя не застрелил».
Граф Василий Капнист, корнет того же полка: «В 5 часов утра меня разбудил Лихачев, сказал, что Бартенев убил Висновскую, и послал меня в город удостовериться. Я зашел к Лихачеву на квартиру; Бартенев, увидев меня, пошел мне навстречу, пошатываясь, с сильно изменившимся лицом; голос у него был хриплый, он спросил меня: «Ты знаешь обо всем?» Мне было больно на него смотреть, и я уехал».
Павел Крупенский, корнет того же полка: «19 июня в 6 ч утра ко мне вошел Сечинский и сказал: «Бартенев убил Висновскую!» Я не поверил, но вскоре Лихачев подтвердил печальное известие. В коридоре я встретил Бартенева и сказал ему: «Какое несчастье», на что он ответил: «Пойдем, я тебе все расскажу!» Мы вошли в квартиру Сечинского. Прежде всего меня неприятно поразило хладнокровие Бартенева: он говорил довольно скоро, изредка нервно вздрагивал и хватал себя за голову, не отказался выпить стакан чаю, пьян не был. Рассказывая уже известную историю убийства, Бартенев прибавил: «Не знаю, как случилось, но я подлец, что не застрелил себя, ведь мы решили убиться!» Эти последние слова он сказал как-то отрывисто, не обращаясь ни к кому, а как бы к самому себе, не сознавая в эту минуту нашего присутствия. «Затем,– продолжал Бартенев,– я схватил шинель и с револьвером в руке бросился бежать; добежав до первых дрожек, я не знаю, как доехал до Лазенок». Заснула ли Висновская на его плече, когда он в нее стрелял – этого он не объяснил. Кроме того Бартенев пояснил: «После выстрела она на меня взглянула такими полными благодарности и любви глазами, которых я никогда не забуду, и на прощание сказала: «Adieu, je t’aime!» Просидев у Сечинского полчаса, мы вышли в сад, где находились другие товарищи, и, обратясь к Фольборту, Бартенев сказал: «Надеюсь, вы мне сегодня разрешите не быть на ученье». Гуляя по садику со мною, Бартенев говорил, что он знает, что совершил преступление, желал бы знать, что ему за это будет и может ли он остаться в полку во время следствия; Бартенев говорил, что и из каторги возвращаются, и что он желал бы обеспечить мать Висновской; кроме того, он говорил мне, что отправится в монастырь. Зная, что он не отличается религиозностью, я заметил, что это смешно и что он должен поискать другой способ нравственно смыть с себя это пятно. Бартенев говорил, что он не мог жениться на Висновской, так как родители его не согласились бы на этот брак, а жить с Висновскою вне брака было немыслимо. Затем Бартенев был подвергнут аресту в своей квартире, но просил, чтобы с ним находились товарищи; когда ему объявили, что его отправят на гауптвахту, он стал собирать некоторые свои вещи и сказал, что не желает, чтобы читали его родственную переписку; просил меня ее уничтожить. Я, рассматривая письма, бросал их в печку, а три письма Висновской были взяты Ельцом для приобщения к делу. В эти тяжелые минуты хладнокровие не покидало Бартенева даже тогда, когда он видел, как мы все были взволнованы и Елец вдруг зарыдал. Бартенев сам стал его успокаивать. Наконец мы простились и его увезли на гауптвахту».
Владимир Фольборт: «Когда я 19 июня увидел Бартенева, то он выпрямился и, подойдя ко мне, сказал: «Господин штабс-ротмистр, я надеюсь, что вы сегодня меня уволите от ученья». Меня эти слова покоробили, и я отошел в сторону. Спустя некоторое время мне пришлось остаться в комнате с Бартеневым вдвоем; он вдруг, со страшными рыданиями бросился на диван, бил руками и ногами, потом встал и с неприятным ироническим смехом сказал: «Если страдать, так страдать до конца!»
Виктор Прудников, корнет: «В день убийства, выйдя в полковой садик, я увидел Бартенева в расстегнутом кителе, на груди были заметны какие-то пятна, очевидно, от пороха, руки тоже были запачканы гарью, штрипки у рейтуз тоже были расстегнуты. Погуляв немного с ним и стараясь его утешить, мы зашли на квартиру Сечинского, где в присутствии последнего и Крупенского Бартенев рассказал, что застрелил Висновскую, приняв вдвоем яд, но что самому не хватило духу застрелиться, что она, открыв глаза, сказала по-французски: «Я тебя люблю» и умерла. Очевидно, Бартеневу было рассказывать трудно, хотя, по моему мнению, он был очень спокоен. За все это время он только раз зарыдал. Выйдя опять в садик, он рассказывал о желании Висновской ехать за границу, о том, что генерал Палицын ее не пускал, а хотел, чтобы она ехала вместе с ним в Скерневицы. Вообще, Бартенев был, очевидно, возмущен страшно против Палицына. В саду же он между прочим мне говорил, что он не желает стреляться, дабы искупить свою вину перед покойной и выстрадать за свой поступок».
Тов. прокурора барон Э. Ф. Раден в своей обвинительной речи между прочим заметил, что несмотря на сознание Бартенева, правду в настоящем деле найти составляет довольно трудную задачу, ввиду того, что второй участник разыгравшейся 19 июня драмы сошел в могилу, а чувство самосохранения и другие обстоятельства могут заставить подсудимого скрывать причину. Потому Бартеневу можно верить лишь в тех частях его показания, которые сходятся с обстоятельствами дела, как они открываются, если отрешиться на время от сознания подсудимого. Дав характеристику Висновской, причем огромное значение обвинитель придавал, с одной стороны, ее успехам на сцене, которые создавали ей славу талантливой актрисы, а с другой стороны – связи ее с Мышугой, развившей в ней донельзя кокетство и способствовавшей сильному расстройству ее нервов, он заметил, что Висновская потеряла способность любить, но зато стала ослеплять мужчин блеском своего ума и изяществом своей наружности. Натура Висновской хотя и легко удовлетворялась, но в сущности никогда не была удовлетворена. Сильнее всего в ней была жажда славы. Слабохарактерность ее, эксцентричность и непоследовательность, часто проявлявшиеся, следует объяснить переутомлением, расстройством нервов. Разобрав оставшиеся после Висновской заметки и сопоставив некоторые из них со словами, сказанными Висновской одному из друзей ее, обвинитель закончил ее характеристику следующими словами: «Итак, жить и пользоваться жизнью, с одной стороны, и умереть среди цветов и под звуки музыки, с другой,– вот начало и конец той своеобразной женщины, с которой весною 1889 года судьбе угодно было свести подсудимого Бартенева». Переходя к характеристике последнего, обвинитель прежде всего отметил, что физические потребности составляли сущность Бартенева, для которого вино и женщины играли первенствующую роль. Весь смысл жизни для него исчерпывался вопросом, где бы кутнуть и за кем бы поухаживать. Вся его жизнь роковым образом вела его к несчастью, случившемуся 19 июня. Связь с Висновской, которая не любила Бартенева, но только лишь чувствовала к нему некоторое расположение, дала жизни Бартенева новый оборот: он влюбился. Взаимности, однако, он не видел, и Висновская стала замечать в нем страшную ревность, которой очень боялась: она именно боялась, что он лишит себя жизни. Что происходило в ночь убийства, неизвестно. Но можно предположить, что момент, когда в разговоре с Бартеневым Висновская произнесла имя Палицына, мог быть для нее роковым. Висновская собиралась уехать за границу, куда Палицыну, благодаря его материальным средствам, нетрудно было ехать, тогда как для Бартенева это было недоступно, и Висновская поняла тогда угрожающую ей опасность. Она не желала самоубийства Бартенева из опасения скандала, а может быть, опасения, чтобы ее не обвинили в убийстве. Смерти она не желала и, показывая вид, что соглашается умереть, желала этим только время выиграть. Записки Висновской изорваны Бартеневым, который оставил только те из них, из которых можно вывести заключение, что она умерла по своему желанию. Нельзя верить также объяснению Бартенева, что он хотел умереть вместе с Висновской. Это доказывается его поведением после убийства. Его не ужасала мысль, что любимое существо погибло от его руки. Нет, он просто забыл о нем и утешал себя мыслью, что и с каторги возвращаются. «Я, конечно, далек от мысли просить вас отрешиться от лучших чувств судьи и человека, от чувств гуманности и милосердия,– закончил обвинитель,– но считаю своим долгом напомнить, что с обвиняемого много и нужно требовать, так как происхождением и общественным положением ему было много дано!»
Речь присяжного поверенного Ф. Н. Плевако в защиту Бартенева
Между обвинением и подсудимым в настоящем деле нет места для захватывающей дух борьбы, для непримиримого спора. Подсудимый, сознавшийся на предварительном следствии, подтвердил без всяких уклонений слово свое и здесь на суде. Это упрощает задачу защиты, сужает объем ее, ограничивает ее доводы теми, которые, по данным дела, могут влиять лишь на меру и степень заслуженной подсудимым кары.
Формулируя с достаточной точностью признаки, по которым судья распознает между безнравственными поступками такие, которые влекут за собой уголовную кару, указывая на роды и виды наказаний, сопровождающих то или другое преступление, закон не исчерпал всех случаев, которые влияют на понижение назначенного наказания, но предоставил судьям значительную долю усмотрения при смягчении его. Все, что в жизни подсудимого, в его характере, в его прирожденных достоинствах и недостатках, наконец, в обстановке совершенного им преступления возбуждает сожаление, снисходительное сострадание в честном человеческом сердце, все это имеет право принять во внимание и судья, отправляющий правосудие. Отсюда следует, что изучение условий, которые влияют на меру наказания, ожидаемого подсудимым, должно совпасть с воспроизведением тех фактических подробностей дела, в которых заключаются яркие признаки наличности данных, уполномочивающих меня говорить о пощаде и снисхождении к моему клиенту. Останавливаясь на них, я воспользуюсь планом обвинителя: сначала изучу прошлое подсудимого и его жертвы до их первой встречи и затем уже, проследив печальную драму, начавшуюся их знакомством, подойду к ужасной минуте преступления. Вся разница будет заключаться в том, что я введу в дело факты, пройденные молчанием со стороны обвинителя, а эти факты дадут место иным выводам, более мягким, чем те, к которым пришел он; но метод, обнаруживающий в своем применении присутствие человечности и сострадания, надеюсь, имеет право конкурировать с тем, которому он противополагается. Итак, к делу. Обвинитель познакомил вас с личностью Марии Висновской. Он не отрицает, даже подчеркивает темные пятна в ее жизни и поступках, ставя, впрочем, их рядом с высотой ее умственных сил, выразившейся в думах и мыслях, занесенных ею в свой дневник. Со своей стороны, присматриваясь к личности покойной, я не вижу необходимости ни идеализировать ее внутренних сил, ни унижать ее житейские поступки. Судя по тому, чего она достигла на сцене, мы знаем, что она не была обижена судьбой: завидной красоте гармонировал талант, эта искра Божия в душе, не затушенная, а развитая трудолюбием и любовью к образованию в молодой девушке. Но было бы ошибкой о высоте ее умозрений заключать по выпискам из ее дневника. Те мысли, которые приписал ей обвинитель, были цитатами, занесенными ею для памяти из умных книг, попадавших ей под руку. Трудно себе представить, чтобы полные отчаяния пессимистические изречения скептика античного мира о блаженстве неродившихся и о счастии рано умерших были «законченными принципами» ее в то время почти еще детской головки, а не просто поразившими ее слух «страшными, но красиво сказанными словами» умного человека. Все в свое время... Для отвращения от жизни еще не наставало срока, а жизнь с ее обстановкой пока работала над сформированием иных характерных черт в личности покойной. Время, когда Висновская записывала указанные цитаты, застает ее уже на сцене одного из театров. Молодой талант уже замечен, выделен из толпы лицедеев из-за куска хлеба. Талант, воплощенный в обольстительные формы молодой красоты, замечен трижды – артистка делается любимицей. Тут-то бы, кажется, быть довольной, как никогда, своим положением, тут-то бы, кажется, не вспомнить ни одного из тех пессимистических изречений, которые ей пришли на ум, а она в них находит, точно несчастный в грустных музыкальных мелодиях, отголосок своему душевному настроению. Разгадка этого – в фактах, занесенных ею в свои книжки. Очаровавшая ее своей эстетической карьерой сцена разочаровывает ее реализмом будничной жизни артиста. В окружающей ее театральной публике она встретила то, что приходится наблюдать везде и повсюду: большинство поклонников, не умеющих уважать женщину в артистке и отделять интересы ее, как художника, от интересов женского и общечеловеческого достоинства. Любуясь ею как артисткой, хотели быть близкими к ней как к женщине. Служа эстетическому запросу публики на сцене, она не обретала покоя и после того, как опускался занавес театра. Любитель, располагавший, благодаря средствам, возможностью всегда занимать лучшее место в театре, требовал той же доступности от артистки и вне театра, когда артистка оставалась только женщиной. И не всегда хватало у нее средств на борьбу с этими условиями артистической жизни. Вы помните те страницы ее дневника, где она жалуется на неотвязчивые искательства одних, на дерзкую самоуверенность других, на оскорблявшее девическое достоинство преследование третьих... Молодое сердце хочет любить, верить в то, что и ей на долю будет дана отрадная встреча, под впечатлением этого она подчас с доверием выслушивает ласковое слово, полуробкое признание, а через несколько дней уже клянет человека, оказавшегося, как и все, искателем либо сильных ощущений, либо быстрых и решительных побед в мире будуаров и таинственных парков... Так живет она, то удовлетворенная артистическим успехом, то оскорбляемая грубостью поклонников, то обольщенная любовью, то разочарованная пошлостью, прикрытой любовными речами. Все это отзывается в ее записках, все это мало-помалу, не формируя из нее глубоко убежденной пессимистки, однако, обращает ее воззрение к смерти и небытию. Она любит говорить о них, любит этого рода образы, и раз – это было по какой-то странной мистической случайности – записала в свою книгу и картину своей будущей смерти. Она хотела бы, записала она десять лет тому назад, умереть в комнате, обтянутой розовой материей, таинственно освещенной лампой, среди цветов и музыки... Позднее жизнь исполнила ее мечтательное желание, хотя суровые условия жизни немного пародировали обстановку, где Висновская покончила счеты с жизнью, пародировали ее, начиная с более темных колеров материи... но об этом после. Книга книгой, а жизнь жизнью. Висновская продолжает играть на сцене, продолжает завоевывать положение, отвлекающее ее помыслы от смерти. Прочно завоеванная репутация талантливой артистки в ее руках. Ею занята пресса, она желанная работница на лучшей сцене польского театра. Однако социальное положение не удовлетворяет всех целей ее жизни. У нее остается внутренний мир женского сердца... а ему нанесены в прошлом тяжелые раны, которых не исцелило время, не утолили успехи. Висновская никогда не уходила в сцену всем существом своим. Женские семейные инстинкты не умирали в ней. Мечты ранней девичьей поры об избраннике не оставляли ее в более зрелую пору. На это нам намекают ее разговоры о женихах и ищущих ее руки. А если это верно, и верно, с тем вместе, мое мнение о ней, то мы можем смело заглянуть в ее внутренний мир в эту следующую пору ее жизни и отгадать мечты и чувства, какие она тогда переживала.








