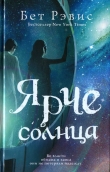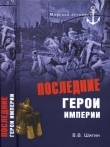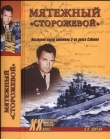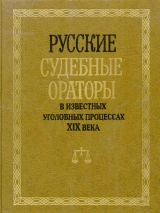
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 81 (всего у книги 90 страниц)
Цель эту нам раскрыла одна подробность, здесь обнаруженная на суде. Покойную, говорят нам, не предали земле с последними обрядами церкви. Это глубоко печалит ее неутешную мать. Позволю себе догадку: покойная любила мать и даже в минуты смерти, приготовленной, по недостатку данных, неподдающимися удовлетворительному анализу припадками обоюдного разочарования жизнью, помнила о ней. Ее записки к Палицыну – посильная забота о материальных нуждах старушки, ее другие записки – попытка обставить свою смерть такими подробностями, чтобы истинная форма ее не обнаруживалась и не дала повода заподозрить самоубийство или согласие на расчет с жизнью. Тогда ее похоронят, и ей по смерти и пережившей ее матери не будет тяжело.
Вот, добиваясь удовлетворительной редакции своего последнего слова, редакции, замаскировывавшей ее согласие на смерть.
Что во время писания этих записок над ней не стоял человек, желающий только ее смерти, а рядом с ней сводил счеты своей жизни, это ясно из слов его записок. Подобно ей, он писал к родным и друзьям, подобно ей, и он просил о последнем долге христианском, умоляя не видеть в нем самоубийцы и убийцы и высказывая упрек тем, кто не хотел его счастья.
Что над ней стоял не убийца, который уйдет, как только покончит с ней, а подобный ей неудачник, долженствующий тут же рядом с ней умереть, она не сомневалась. Во всех ее записках и помину нет об имени или фамилии Бартенева. Она называет его просто «этот человек», предполагая, что нет надобности указывать убийцу, ибо он будет тут же, рядом с нею покоиться, не признавая жизни без нее.
Что эти Бартеневские записки – не измышление с целью спасти себя, что разорванные записки Висновской разорваны не им с той же целью – это ясно. Желай Бартенев уничтожить вредные для него записки, то раз у него не хватило духа около трупа когда-то интересной для него женщины заниматься выбором документа, наиболее подходящего к его цели самозащиты, неужели не сообразил бы он, что, вместо того, чтобы неудобные записки рвать в клочки и тут же кидать, у него в распоряжении лучшее средство: взять их с собой и бросить, разорвать в клочки на улице. Ведь Варшава велика, и не станут же подбирать все бумажные клочки, валяющиеся на улицах города.
Говорят, что Бартеневские записки вымышлены, ибо одна из них – к отцу – упрекает последнего в том, в чем он даже и не виноват. Бартенев ведь с отцом о браке не говорил, отказа не получал, а следовательно, и упрекать отца ему не приходилось. Правда. Но сын не говорил отцу о браке, потому что не мог рассчитывать на его согласие. Вероятно, во всем складе отношений отца к сыну, может быть, в его суровости или неуступчивости лежала причина боязни сына говорить с отцом на такую тему, и вот в последнем письме сын бросал отцу упрек за тот образ отношений, который делал невозможным со стороны сына даже попытку к просьбе о браке по его личной склонности, а не по одобрению отца.
Отчего же он, покончив с Висновской, сам остался жив? Да, это тяжелое обстоятельство в деле, лишающее подсудимого того сострадания, в каком мы не отказываем памяти несчастных убийц из-за любви, когда они тут же произносят над собой смертный приговор. Обвинение в трусости напрашивается на язык. Но едва ли это так. Живя среди сверстников, подобно ему, избравших своей профессией военное дело, дыша воздухом, в котором нет места боязни смерти, где готовность в необходимые минуты жертвовать своею жизнью – долг, с которым не спорят, Бартенев не мог быть трусом.
Иначе объясняю себе я то, что он остался жив. Бартенев весь ушел в Висновскую. Она была его жизнью, его волей, его законом. Вели она, он пожертвует жизнью, лишь бы она своими хорошими и ласкающими глазами смотрела на него в минуту его самопожертвования. Но она велела ему убить ее прежде, чем убить себя. Он исполнил страшный приказ. Но едва этот дорогой для него образ закрылся, едва печать смерти навсегда сомкнула ее глаза, в которые он так любил глядеть и догадываться о желаниях, их одушевляющих, чтобы поспешить исполнить их, он потерялся: хозяина его души не стало, не было больше той живой силы, которая по своему произволу могла толкать его на доброе и на злое, на отчаянный подвиг и на робкое молчание.
Что было потом, мы не знаем того. Сколько продолжался столбняк ужаса, когда он увидал, что он сделал, определить трудно. Но только не заботой о своем спасении был занят несчастный Бартенев. Не ненавистью, а какой-то нежностью звучали его слова, когда он сказал товарищу: «Я убил Маню».
Дальнейшее общеизвестно. Бартенев заявил о своем преступлении без всякой попытки избежать кары. Его показание, прочитанное здесь, дано без всяких советов или убеждения со стороны власти. Его он подтвердил и здесь на суде. Можно относиться скептически к тому или другому его объяснению, но нельзя уличить его даже в малейшей неправде рассказа. Он преступник, но он не призвал лжи на помощь себе. Преступление его велико. О невменении зла в вину он не помышляет. Но было бы жестоко думать о том, как бы тяжелее и суровее применить к нему карающее слово закона. Было бы ошибкой думать, что в суровости задача карающего правосудия и суровостью судья приближается к намерениям законодателя. Нет, слово закона напоминает угрозы матери детям. Пока нет вины, он обещает жесткие меры непокорному сыну, но едва настанет необходимость наказания, любовь материнского сердца ищет всякого повода смягчить необходимую меру казни.
Еще не было примера, чтобы судье дозволялось, не удовлетворяясь указанными карами, просить об увеличении наказания. Но широко раскрыть слух законодателя к предстательству судей о смягчении наказаний, если особые обстоятельства дела возбуждают чувство сожаления к подсудимому, если обстановка преступления указывает на плетеницу зла и несчастия в ошибках, приведших подсудимого к преступлению.
В данных настоящего дела много этих смягчающих мотивов. Многие из них имеют за себя не только фактические, но даже и юридические основания. Если не точная буква закона, то либо цели его, либо мнения сведущих в праве людей, либо опыт чужих законодательств и подмеченная неполнота нашего права говорят о возможности менее сурового приговора. Мой товарищ по защите представит в кратком очерке доводы в этом направлении. Я, как вы слышали, ограничился данными бытовой стороны дела, я говорил о тех пережитых Бартеневым моментах, которые разделяют вину преступления между ним и его жертвой. О, если бы мертвые могли подавать голос по делам, их касающимся, я отдал бы дело Бартенева на суд Висновской. Впрочем, оставленные ею записки отчасти свидетельствуют о ее взгляде на роковую развязку. «Человек этот, убивая меня, поступает справедливо, он правосудие»,– писала она. Я не хочу видеть в этих словах голос правдивой нравственной оценки занимающего нас события: Висновская не доросла до роли учителя морали. Но я хочу убедить вас собственными словами покойной, что она считала себя глубоко виновной перед Бартеневым, а это сознание – основание между многими другими к пощаде подсудимому, так как убийцы не исключены из категории лиц, относительно которых допустимо снисхождение.
Вот и все, что я мог сказать за Бартенева. Обвинитель согласится со мной, что я был прав, сказав, что между нами нет непримиримых противоречий. Он требует справедливого приговора, я напоминаю и ходатайствую о сочетании в нем правды с милосердием, долга судьи с прекрасными обязанностями человеколюбия.
На свое разрешение суд постановил два вопроса: первый – о виновности в умышленном убийстве, второй – о виновности в убийстве в состоянии раздражения. На первый вопрос суд ответил утвердительно и на основании этого вердикта приговорил Бартенева к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на восемь лет. Апелляционная и кассационная жалобы Бартенева были оставлены без последствий. Впоследствии, по Высочайшему Его Императорского Величества соизволению, назначенное судом наказание заменено разжалованием Бартенева в рядовые.
На протяжении целого месяца и шести дней уголовное отделение Одесского окружного суда было занято рассмотрением только одного судебного дела. Это «дело» о двух капитанах пароходов – русского «Владимира» и итальянского «Колумбия» – отставного капитана 2-го ранга Каллиника Каллиниковича Криуна и итальянского подданного Луиджи Джурре Пеше. Оба эти капитана предстали перед судом в качестве ответственных лиц за катастрофу, разыгравшуюся на Черном море неподалеку от мыса Тарханкут в ночь на 27 июня 1894 г. По сведениям конторы Русского общества пароходства и торговли погибло 70 пассажиров и несколько членов команды.
ДЕЛО О СТОЛКНОВЕНИИ «ВЛАДИМИРА» И «КОЛУМБИИ»
Заседание Одесского окружного суда без участия присяжных заседателей, 28 сентября – 4 ноября 1894 г.
Председательствует председатель окружного суда г. Анфилов при членах суда г. Бржосниовском и г. Крынцове и запасном члене г. Нейдиге. Обвиняет прокурор окружного суда г. Левченко.
Обвиняемые: отставной капитан 2 ранга Каленик Каленикович Криун и итальянский подданный Луиджи Пеше; защитники: первого – присяжный поверенный Н. П. Карабчевский и г. Анастасьев, второго – присяжный поверенный де Антонини.
Гражданскими истцами признаны: Е. М.Кувшинова, С. П. Сильвестров, Г. Я. Барановский, П. Ю. Глушанин, А. Н. Слешинский, Н. Ф. Бурдуков, А. И. Гордон, В. В. Чериков, А. и X. Мебель, Д. А. фон-Гроте де-Буко, К. К Шмидт, Л. А. Дюран, княгиня Е. А. Бебутова, И. Л. Арбер, Г. И. Весели, И. Д. Худаков, А. Н. Кац, М. Ф. Голенищев, Н. Д. Греков, В. А. Дирдовский, Н. Я. Гарднер, Н. И. Битенский, А. Д. Бондаренко, А. Бондаренко, Б. А. и М. К. Далевские, Е. Т. Усенкова, И. О. Ильин, В. Ф. Жиганюк, А. И. Бондаренко, Г. Я. Згуриди, Б. И. Пандрев, И. Е. Елисеев, П. А. Машкин, Т. А. Злобин, П. Ф. Нестеров, И. П. Щербина, И. Е. Титов, В. П. Кузнецов, И. Д. Брагин, Русское общество пароходства и торговли, А. В. Михайлова, одесский уездный воинский начальник Е. Н. Карак, И. Л. Магун, Н. Ф. Тимошенко, П. С. Стойко, В. Я. Цвигун, С. П. Карпович, Я. И. Рыбакова, Е. П. Марковский, С. В. Бурачек, К. И. Боронецкий, В. Т. Котовщук, Ф. И. Коваленко, Ф. Иванов, И. И. Ефимов, В. Ф. Уманский, С. Г. Тринькин, Г. Т. Погорелко, И. Л. Сонацько, Ч. Б. Дайгман, Е. С. Губинская, С. Л. Шпигель, Л. А. Ворвин, А. М. Шварцман, М. Г. Ковалева, Д. Я. Синчукова, В. М. Томашевский, С. Гаврилов, Д. А. Абрамович, Е. Ф. Бочарова, Д. А. Шиманец, П. Е. Багашев, Т. П. Сонченко, А. П. Моисеенко, Г. Г. Москвич, П. М. Пономарев, К. П. Дурнев, главное управление почт и телеграфов, И. Гершберг.
В качестве представителей гражданских истцов выступают: присяжные поверенные г. Холева (из Петербурга), г. Баршев (из Москвы), г. Сахаров (из Москвы) и одесские присяжные поверенные гг. Литвицкий, Масленников, Куперник, Тиктин, Бродский, Длусский и Войцеховский.
Интересы Русского общества пароходства и торговли защищают присяжные поверенные Н. И. Мечников, г. Лавинский и г. Шаховцов
Доложены прошения, поданные перед открытием заседания.
Целый ряд ходатайств поступил от присяжного поверенного Холевы, предъявившего претензии 23-х лиц на сумму 380 тысяч рублей. Наиболее крупные из них: Тумаевых – за погибшего отца 250 тысяч рублей, Терентьевых – 25 тысяч рублей, Грудько – 10 тысяч рублей, Миллер – за погибшую мать и имущество – 8 тысяч 886 рублей, Дмитриади – 4 тысячи 105 рублей 50 коп., Арбер – за погибшие вещи и полученное во время катастрофы повреждение в здоровье 3 тысячи 380 рублей, И. Магуна – 2 тысячи 265 рублей, Мебель – 10 тысяч 500 рублей, Битенского – 10 тысяч рублей. В рассмотрение предъявленного им ранее иска от имени Зигомала в 31 тысячу рублей господин Холева просил не входить. Кроме того, Холева ходатайствовал о допросе свидетелей: механика «Владимира» Зданкевича, который удостоверит, что при приближении «Колумбии» к «Владимиру» он через иллюминатор видел на «Колумбии» красный бортовой огонь.
Присяжный поверенный Литвицкий предъявил, кроме ранее заявленных, еще три гражданских иска: Кулиджанова – в 18 тысяч рублей, Невражина – 24 тысячи рублей, Тер-Степанова —12 тысяч рублей.
Шнайдер просил взыскать за утраченные вещи, оцениваемые им «по совести» в 450 рублей.
Старик 72 лет Ш. Карат просит за погибшего сына 10 тысяч рублей.
Присяжный поверенный Войцеховский от имени вдовы действительного статского советника Лукавского просит за погибшего мужа ее 38 тысяч рублей.
Присяжный поверенный Сахаров от имени жены и детей погибшего во время катастрофы статского советника Гронского просит взыскать 80 тысяч рублей.
Далее следуют сравнительно мелкие ходатайства П. Ковалева, Гарднера, Беляковой.
Защитник Криуна Карабчевский и защитник Пеше де Антонини ничего не возражали против заявленных ходатайств относительно допущения гражданских исков, и суд после непродолжительного совещания определил: допустить поименованных лиц в качестве гражданских истцов, устранить иски лиц, раньше признанных гражданскими истцами и не явившихся в заседание – Черикова, Гроте де-Буко, Весели, Баранецкого, Тринькина, Дайтмана, Шпигеля, Сальчуковой и Беляковой.
Таким образом, сумма предъявленных исков достигает цифры свыше 700 тысяч рублей, не считая иска Русского общества пароходства и торговли в сумме 500 тысяч рублей.
Всего вызывалось свидетелей и экспертов 147 человек. Из них отсутствуют 25 человек.
Защитник Криуна присяжный поверенный Карабчевский находит невозможным разбор дела в отсутствие в особенности таких компетентных экспертов, как С. И. Кази, Безуар и др. Эти эксперты, давая свое заключение на предварительном следствии, не имели возможности выслушать объяснения Криуна, который в то время участвовал в деле лишь в качестве свидетеля и присутствовать при экспертизе не мог, между тем как Пеше присутствовал и давал свои объяснения. Окружной суд постановил разбор дела продолжать, не стесняясь отсутствием неявившихся свидетелей и экспертов.
Экспертами были: контр-адмирал Л. К. Кологерас, капитан 2-го ранга А. А. Ирецкий, капитан 2-го ранга М. Ф. Лощинский, корпуса флотских штурманов поручик М. Д. Иванов, корабельный инженер А. А. Иогансон, корпуса флотских штурманов подполковник П. С. Сафонов, отставной капитан 1-го ранга С. П. Туркуль, капитан 2-го ранга Баркарев, инженер-механик Плигинский, корабельный инженер Корнеев, капитан 2-го ранга Падалка, капитан 2-го ранга Королев и офицеры королевского итальянского военного флота Карло-Мария Новеллис, Джованни Копетти и Джулио Бертолини.
Обвинительный акт содержит в себе следующее: В ночь на 27 июня 1894 г. в начале второго часа на Черном море за мысом Тарханкутом по направлению к Одессе при звездном небе, небольшом ветре и легкой зыби произошло столкновение почтово-пассажирского парохода Русского общества пароходства и торговли «Владимир», следовавшего из Севастополя в Одессу с 167 пассажирами, с шедшим из Николаева в Евпаторию итальянским грузовым пароходом братьев Банано в Мессине «Колумбия». Последствием столкновения пароходов было потопление «Владимира» и гибель 70 пассажиров, 2 матросов и 4 человек прислуги из числа находившихся на «Владимире» людей, а относительно повреждения «Колумбии» осмотром установлено, что он течи не получил и что повреждения его были сосредоточены в носовой части, а именно вверх от XXII футовой грузовой марки, отстоящей от воды на 4 фута. Листы пяти поясьев наружной обшивки правого и левого бортов вместе с форштевнем, шпангоутом, переборкой, частями бипсов и вертикальными их полосками из листового железа загнуты почти вплотную к правому борту. При этом листы обшивки и другие части левого борта подверглись растяжению, а правого – сжатию и получили разрывы, трещины и изломы. Листы левого борта прикрыли собою отверстие поврежденной носовой части корпуса, у которой имевшийся выступ вперед сворочен далее первой непроницаемой переборки. Часть форштевня в расстоянии около 4-х футов вверх от XXII марки осталась на месте, но согнута вправо; выше же кусок форштевня длиною в 2—3 фута изломан и утерян. Погнутой обшивкой сломана передняя часть правого клюза. Бушприт сдвинут со своего места на правую сторону и расколот у основания. На правом борту в нескольких местах на обшивке имеются царапины, расположенные по ватерлинии и немного выше ее, которые распространялись в длину от форштевня до фок-мачты. Более глубокие царапины оказались на левом борту, на несколько футов ниже ватерлинии, и простирались в длину от форштевня на 3 фута. На основании данных осмотра «Колумбии» эксперты заключили, что этот пароход с значительной силой ударил пароход «Владимир» под острым углом к его носу и, постепенно вращаясь в его корпусе, расширял пробоину, загибая себе носовую часть к правому борту. В это время оба парохода имели поступательное движение вперед, причем «Владимир» от толчка получил вращательное движение направо, так что борты обоих пароходов пришли в соприкосновение и «Владимир» пригнул форштевень «Колумбии» к правому ее борту.
Пароход «Владимир» шел под командой капитана Криуна, который командовал этим пароходом с апреля 1893 г. Криун имел трех помощников – Суркова, Фельдмана и Матвеева, поступивших на пароход: первый – в марте, второй – в апреле и третий – в мае 1894 г., и двух механиков. Палубная команда парохода состояла из боцмана и 14 матросов, а машинная – из трех машинистов и 12 кочегаров и угольщиков. Из числа команды 5 человек поступило на пароход в 1893 г., а остальные в 1894 г., причем из них 11 человек – только в мае и июне. Кроме того, на пароходе было 17 человек прислуги, всего же экипажа 53 человека.
Пароходом «Колумбия» командовал капитан Пеше, имевший двух помощников, боцмана, 6 матросов, 13 человек машинной команды, плотника, конопатчика и 3 человек прислуги, а всего 28 человек.
Столкновение «Владимира» с «Колумбией», по описанию команд обоих пароходов и по сведениям, заключающимся в шканечном и машинном журналах парохода «Колумбия», произошло при следующих обстоятельствах. В начале 1 часа ночи стоявшие на вахте на «Владимире» матросы Сонченко и Сопозько увидели впереди, на расстоянии около 8 миль, слабый белый огонь, о чем и доложили бывшему на вахте третьему помощнику капитана Матвееву, который распорядился вызвать на палубу капитана Криуна. Последний немедленно пришел и принял на себя командование пароходом. Рассматривая огонь в бинокли, Криун и Матвеев видели его справа на носу в течение 15—20 минут. К этому времени огонь стал ближе, ярче и больше, но все оставался по-прежнему один. Отсутствие отличительных огней дало основание Криуну и Матвееву заключить, что они видят кормовой огонь обгоняемого судна. Решив на всякий случай пройти дальше от судна, Криун приказал положить руль немного влево и вместе с тем, чтобы поставить в известность идущее судно о принятом направлении, велел дать два свистка. Через 2—3 минуты Криун снова распорядился взять влево и дать два свистка, и когда команда его была исполнена, оказалось, что пароход отклонился от курса влево на 20 градусов. Вслед за тем в бинокль был виден корпус парохода, но за отсутствием на нем бортовых огней все-таки не представлялось возможности определить с точностью, был ли он обращен к «Владимиру» носом или кормой? В ответ на последние свистки «Владимира» со встречного парохода раздался один свисток, после чего пароход вдруг изменил свой курс вправо и пошел прямо на «Владимир», неся уже красный бортовой огонь. Тогда Криун, видя неизбежность столкновения пароходов, стал давать тревожные свистки и велел положить весь руль налево, что и было исполнено. Однако через несколько мгновений встречный пароход, оказавшийся «Колумбией», врезался носом в правый борт «Владимира» фута на 4 от трубы ближе к носу и сделал значительную пробоину в угольной яме, куда хлынула вода, моментально наполнившая и машинное отделение. Вместе с тем «Колумбия» бушпритом и форштевнем разломала на «Владимире» часть капитанской площадки. Вскоре «Колумбия», идя задним ходом, освободилась из корпуса «Владимира» и пошла вдоль борта последнего к корме, причем носовой частью разбила две шлюпки, помещавшиеся на правом борту «Владимира», из числа пяти, имевшихся на пароходе. Тогда же по приказанию Криуна была застопорена машина, и «Владимир», шедший до того времени со скоростью 11 миль в час, остановился. На «Колумбии», шедшей со скоростью от 8 до 9 миль в час, в начале первого часа ночи были усмотрены на носу слева огни «Владимира», после чего бывший на вахте младший помощник Рицо велел взять вправо. Минут через 20 слева показался красный огонь «Владимира», сменившийся вскоре зеленым. Увидав зеленый огонь слева, Рицо распорядился взять полный руль вправо и дать один свисток, чтобы дать знать «Владимиру», что он идет вправо. В ответ с «Владимира» послышались два свистка. В это время на капитанской площадке появился уже капитан Пеше, который в течение 5 минут наблюдал, как «Владимир» шел зеленым огнем и лишь затем, чтобы избежать столкновения с бывшим на близком расстоянии «Владимиром», дал своему пароходу полный ход назад. Однако команда его оказалась запоздалой, и «Колумбия», продолжая двигаться по инерции вперед, врезалась носовой частью в правый борт «Владимира». Через несколько минут «Колумбия» отошла от «Владимира» задним ходом на расстояние 150 метров и остановилась в таком положении, что ее нос был обращен к корме «Владимира». По удостоверению части команды, бывшей на вахте «Колумбии», на ней все три отличительных огня горели исправно всю ночь. При наличности таких данных эксперты пришли к выводу, что причины столкновения пароходов «Владимира» с «Колумбией» кроются в неправильных распоряжениях капитанов обоих пароходов, Криуна и Пеше, заключающих в себе нарушение правил, установленных для избежания столкновения судов в море. Капитан Криун, открыв белый огонь «Колумбии» по носу справа, должен был продолжать следовать своим курсом до открытия ее цветных огней. Если же он решил при таких условиях изменить курс парохода, то должен был идти вправо, а ни в каком случае не влево, как он поступил. При приближении к «Колумбии» Криун, не выяснив себе ее белого огня и направления, чтобы избежать столкновения, должен был уменьшить ход «Владимира» и, смотря по обстоятельствам, застопорить машину или дать задний ход, а ни в коем случае не идти полным ходом вперед, как было им сделано. Наконец, если допустить, что на «Колумбии» горели все отличительные огни, то в таком случае действия Криуна являются также неправильными, потому что он должен был бы видеть белый и красный огни «Колумбии» и вследствие этого показать ей свой красный огонь, т. е. взять вправо, а между тем он все время шел влево. С другой стороны, капитан Пеше, увидя слева зеленый огонь «Владимира», ввиду явной опасности столкновения с ним должен был уменьшить ход и, смотря по обстоятельствам, застопорить машину и дать задний ход немедленно, а не спустя некоторое время, как он сделал, когда столкновение было уже неизбежно. Также безусловно неправильными являются действия Пеше в том случае, если допустить, что «Колумбия» шла без бортовых отличительных огней, так как при отсутствии их пароход не имеет права двигаться с места.
В первый момент после катастрофы, когда еще пароходы стояли борт о борт, было неизвестно, который из пароходов получил более значительные повреждения, и на каждом пароходе думали, что другой более пострадал. Благодаря этому до 14 пассажиров перебрались с «Владимира» на «Колумбию», а оттуда два итальянца перепрыгнули на «Владимир». В это время раздался крик капитана Криуна, что идет пароход. «Синеус» и что все будут спасены. Услышав это, некоторые из попавших на «Колумбию» пассажиров стали перепрыгивать обратно на «Владимир», причем двое упали в воду и утонули. Пока пароходы были еще рядом, вся команда «Владимира» была уже на палубе. В это время капитан Криун приказал своему помощнику Матвееву задержать «Колумбию», вследствие чего Матвеев, второй боцман Жиганюк, матрос Сабченко и машинист Саркизов перебрались на «Колумбию», куда успели раньше их попасть угольщик Томашевский и лакей Елисеев. Вслед за столкновением на «Владимире» потухло электричество, что побудило лакея Цвигуна зажечь в каюте 1 класса свечи. Пассажиры вскоре выбежали из кают наверх, где их успокаивали Криун и Фельдман, уверяя, что все будут спасены. В то же время лакей Цвигун стал раздавать пассажирам спасательные пояса и показывать, как нужно их надевать. Всего на «Владимире» было 180 спасательных поясов и 9 спасательных кругов, которые и были розданы пассажирам и взяты некоторыми лицами из экипажа. Между тем бывший на вахте второй механик Ларин, по приказанию старшего механика Зданкевича пытался пустить в ход водоотливные средства, сила которых не была известна никому из начальствующих на пароходе лиц. Однако Ларину не удалась его попытка, так как водоотливные насосы оказались уже залитыми водой, которая прибывала чрезвычайно быстро в машинном отделении и сделала невозможным осмотр пробоины изнутри. Через 6—7 минут после столкновения Ларин уже с трудом выбрался из машинного отделения, где было воды по колени, сверх плит, о чем он и передал помощнику капитана Суркову, который в это время прибежал справиться о состоянии машины по приказанию Криуна. Доложив тотчас Криуну об оказавшемся, Сурков получил от него приказание готовить к спуску шлюпки. Только что Сурков бросился исполнять приказание, как ему было дано новое – ехать на «Колумбию», узнать о ее положении и убедить капитана подойти ближе. Тогда была спущена с кормы двойка, минут 15—20 спустя после столкновения, и на ней уехали на «Колумбию» Сурков, боцман Злобин, рулевой Богатов, матросы Шиманец и Пономаренко и три пассажира. Почти одновременно с Сурковым Криун приказал второму своему помощнику Фельдману узнать, сколько воды в машине, и оказалось, что машина уже полна водой. Далее по приказанию Криуна Фельдман осмотрел с верхней палубы пролом в правом борту «Владимира» и разглядел в темноте, что пробоина имеет более аршина в ширину и шла от воды до самой палубы, причем через нее с шумом вливалась вода. В форт-трюме тогда еще не было воды, а грот-трюм был уже залит. Этот осмотр был произведен Фельдманом не ранее 10 мин. после столкновения. До того пролом не был никем осмотрен и Криуном не было сделано никакой попытки наложения на отверстие паруса или брезента с целью приостановить наполнение парохода водой. Специального пластыря, который употребляется для заделки пробоин на судах, на «Владимире» совсем не было. Затем Фельдманом был получен целый ряд приказаний от Криуна: бросить за борт плавучие предметы, пускать ракеты, жечь фальшфейеры и паруса, звонить в колокол, передать пассажирам, чтобы надевали пояса и готовились к спасению, и принести ему шканечный журнал. Одно исполнение последнего распоряжения, которое Фельдман получил после спуска двойки, заняло очень много времени, так как пришлось разрубить дверь каюты, где хранился журнал. Притом для исполнения приказаний Криуна в распоряжении Фельдмана осталось всего 6 матросов за отъездом остальных 6 с Матвеевым и Сурковым.
Будучи занят разыскиванием журнала, Фельдман не слыхал команды Криуна о спуске шлюпок и приступил к спуску их по собственной инициативе после того, как передал Криуну шканечный журнал; но этому делу он не мог посвятить надлежащего количества времени, так как отвлекался постоянно исполнением разных приказаний Криуна. Лишь мельком удавалось ему присматривать за спуском шлюпок, причем он больше кричал толпившимся около них людям, чтобы спускали шлюпки скорее и чтобы брали на них больше пассажиров, но не наблюдал сам за исправным и быстрым спуском их и за тем, достаточно ли в них поместилось людей и сажали ли в них женщин и детей. Между тем это дело было чрезвычайной важности, так как пароход продолжал наполняться водой и каждая минута была очень драгоценна для спасения пассажиров. Сам Криун также почти не принимал активного участия в спуске шлюпок и, оставаясь на площадке, продолжал отдавать приказания скорее спускать шлюпки и сажать в них женщин и детей, не толпиться около шлюпок и не влезать в них до спуска, рубить снасти и бросать их за борт, надевать пояса, жечь огни и т. д. Эти приказания не относились к определенным лицам команды и за отсутствием наблюдения со стороны Криуна за способом исполнения своих распоряжений и вследствие отбытия двух непосредственных его помощников и части команды на «Колумбию», приказания его исполнялись медленно, беспорядочно и притом не всей наличной командой, или оставались совсем не исполненными. Так, из числа команды, механик Зданкевич, машинисты Иванов и Михайлов и кочегар Погорелко, оставшиеся на пароходе до гибели его, не принимали никакого участия в спасении пассажиров. Полный беспорядок царил при спуске шлюпок и при отправке на них пассажиров. В этом отношении следствием установлено следующее: после отхода двойки на «Владимире» остались еще на левом борту две шлюпки на 25 человек каждая, которые были поставлены на стойках и закрыты брезентами. Когда принялись за спуск их, то употребили на это полчаса, между тем как на спуске шлюпки четырьмя матросами требуется не более 10—15 минут. Спуск происходил в полной темноте, причем из матросов в нем принимало участие только двое – Щербина и Дейчман. Шлюпка держалась очень крепко в подставках, что произошло оттого, что шлюпки не были спускаемы ни разу с ранней весны, когда пароход еще находился в доке, и что они закрашивались каждый рейс под одно с подставками. Пришлось выбивать подставки рычагами, но и после этого подъем шлюпок на шлюпбонах был весьма труден, потому что в шлюпки забрались пассажиры, прислуга и машинная команда и не хотели ни за что выйти, так что шлюпку пришлось поднимать с ними. Кроме того, около шлюпок теснилась толпа пассажиров и, стараясь помочь спуску или сесть в шлюпки, мешала спускавшим их лицам, которые к тому же были мало опытны в спуске шлюпок и не имели распорядителя, вследствие чего работа их была крайне неуспешна. Спуском находившейся ближе к корме шлюпки были заняты два лакея, два повара, кастрюльник, кочегар и угольщик. Они не умели вывалить шлюпку за борт и долго безуспешно старались этого достигнуть. Тогда лишь Криун крикнул, как надо вываливать шлюпку, шлюпка была спущена за борт. На этой шлюпке поехало человек 8 пассажиров и 8 человек спускавшей ее команды. Спустились они в шлюпку по талям и прыгали в нее с борта, где толпилась еще масса людей, желавших попасть на шлюпку; тем не менее, шлюпка отошла, потому что сидевшие в ней боялись, что шлюпка потонет, если в нее принять еще несколько человек.