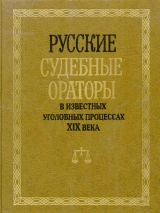
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 90 страниц)
«...Если вы хотите людям, которые не готовятся быть ораторами, дать понятие о том, что такое красноречие, а людям, которые хотят быть ораторами, дать средство к изучению красноречия,– то не пишите риторики, а переберите речи известных ораторов всех народов и всех веков, снабдите их биографией каждого оратора, необходимыми историческими примечаниями – и вы окажете этой книгой великую услугу и ораторам и неораторам».
В. Г. Белинский
Вместо предисловия
Господа! Я обращаюсь преимущественно к молодежи. То, что я вам скажу, есть не только выводы моего опыта, но и разъяснение той идеи, которую я применял к делу защиты. У вас может получиться впечатление, будто я говорю только лично о себе. Выбросьте это из головы! Если можно, то забудьте даже меня, как автора беседы. Но вникните хорошенько в то, что я говорю.
Между прочим, я восстаю против рекламы и актерства. Если вы будете смотреть на вопрос с точки зрения быстрого успеха и хорошей платы за дешевый труд, то я заранее признаю себя разбитым на всех пунктах. Ибо известно, что нет более ходкого товара, как изделия Александровского рынка или художественные произведения, выставляемые в трехмарковом базаре. Но если мы начнем рассуждать об истинном искусстве, о таланте, о служении правосудию и об интересах тех несчастных, которые вверяют нам свою участь, то я без малейших уступок останусь неколебимым во всем, что я предложу вашему вниманию.
***
Я должен, прежде всего, резко выделить защитников по уголовным делам от защитников по гражданским.
Юристами можно назвать только знатоков гражданского права. Они заведуют особою областью общежития, для которой вековым опытом,– можно сказать, почти наукою,– выработаны условные нормы отношений по имуществу. Это чрезвычайно хитрая механика, в которой хороший техник с помощью одного едва приметного винтика может остановить или пустить в ход целую фабрику. В этой области нужно превосходно знать как общую систему, так и все ее подробности.
Иное дело – криминалисты. Все они – дилетанты, люди свободной профессии, потому что даже уголовный кодекс, с которым им приходится орудовать, есть не более как многоречивое, а потому шаткое и переменчивое разматывание на все лады основных десяти заповедей Божьих, известных каждому школьнику. Поэтому от уголовных защитников не требуется ровно никакого ценза. Подсудимый может пригласить в защитники кого угодно. И этот первый встречный может затмить своим талантом всех профессионалов. Значит, уголовная защита – прежде всего, не научная специальность, а искусство, такое же независимое и творческое, как все прочие искусства, т. е. литература, живопись, музыка и тому подобное.
Поэтому-то и уголовные защитники имеют популярность своего рода «избранников» толпы – не то поэтов, не то драматических любовников, не то чарующих баритонов... Они фигурируют на эстраде; у них развиваются актерские инстинкты... И в этом – их проклятье! Они весьма легко увлекаются мишурою и необычайно быстро пошлеют... Но пошлость уголовного адвоката, увлекающегося дешевым успехом, неизмеримо ниже пошлости актера, который торопится завоевать успех тем же путем, т. е. угождением своему залу. У актера есть, по крайней мере, оправдание в том, что он объединяет себя с призраком фантазии: «что он Гекубе, что ему Гекуба!» А уголовный защитник объединяет себя с весьма живым субъектом, сидящим за его спиною, и, по правде сказать, метать громы из-за этого субъекта, принимать благородные позы и кипеть за него правдивым негодованием приходится только в самых редких, даже исключительных случаях. А уголовники считают своим священным долгом делать это чуть ли не каждый раз... Выходит нечто самое гадкое, что только можно себе представить: продажное негодование, наемная страсть...
Поприще очень скользкое. И я желал бы поделиться своим опытом с теми, кто вступает на этот путь.
***
Не буду останавливаться на делах с косвенными уликами. Здесь каждый защитник по мере своих сил вооружается логикой и находит выход из лабиринта.
Дела эти вообще нетрудны, потому что у нас и коронный суд, и присяжные никогда не принимают на свою совесть сомнительных доказательств. Однако же в сложных процессах, с уликами коварными и соблазнительными, добиться правды способен только художник, чутко понимающий жизнь, умеющий верно понять свидетелей и объяснить истинные бытовые условия происшествия.
Но большинство уголовной практики составляют процессы, где виновность перед законом несомненна. И вот в этой именно области наша русская защита сделала на суде присяжных наибольшие завоевания проповедью гуманности, граничащей с милосердием. Пусть над нами смеются иностранцы! Но я принимаю за наилучший аттестат нашей трибуны ироническое замечание французов: «Les criminels sont toujours affranchis en Russie; on les apellent: nestschastnii», т. е. «в России всегда оправдывают преступников,– их называют несчастными». Всегда – не всегда. Однако же едва ли в каком государстве найдется более человеческий, более близкий к жизни, более глубокий по изучению души преступника суд, чем наш суд присяжных. И это вполне совпадает с нашей литературой, которая, при нашей отсталости во всех прочих областях прогресса, чуть ли не превзошла европейскую ни чем иным, как искренним и сильным чувством человеколюбия. Запад невольно смущается перед этою широкою, теплою и мягкою волною всепрощения, идущею с Востока. Практические иностранцы с течением времени перестают глумиться, начинают задумываться и уже почти готовы признать свежесть славянского гения, ибо ведь из самой передовой страны старого Запада, из Франции, раздался афоризм: «tout comprendre c’est tout pardonner» – «все понять – значит все простить». И вот даже французам невольно напрашивается вывод: «а, пожалуй, русские понимают лучше нашего...»
***
Сделавшись судебным оратором, прикоснувшись на суде присяжных к «драмам действительной жизни», я почувствовал, что и я, и присяжные заседатели – мы воспринимаем эти драмы, включая сюда свидетелей, подсудимого и бытовую мораль процесса, совершенно в духе и направлении нашей литературы. И я решил говорить с присяжными, как говорят с публикой наши писатели. Я нашел, что простые, глубокие, искренние и правдивые приемы нашей литературы в оценке жизни следует перенести в суд. Я за это взялся с таким же логическим расчетом, с каким, например, техники решили воспользоваться громадною силою водопадов для электричества. Нельзя было пренебрегать столь могущественным средством, воспитавшим многие поколения наших судей в их домашней обстановке. Я знал, что их души уже подготовлены к восприятию тех именно слов, которые я им буду говорить.
Этот прием не составляет моего открытия. Я имел поучительных предшественников. Называю их вполне определенно: Урусов и Кони. Урусов первый создал свободный литературный язык защитительной речи. Кони первый внес в судебные прения литературно-психологические приемы в широких размерах, но, увы, сделал это в целях обвинения, а потому поневоле приурочивал свою психологию к готовым сентенциям Уложения о наказаниях. Помнится, Кони, когда ему приходилось бороться с искусительными доводами защиты в пользу милосердия, называл эти доводы «жестокою сентиментальностью». Но я с гораздо большим правом могу назвать его прокурорскую психологию «сентиментальною жестокостью», ибо результатом его душевного анализа всегда являлось «лишение прав». Мне вообще кажется, что прокурор может пользоваться психологией лишь для изобличения неправды в показаниях подсудимого, но когда полное и откровенное сознание налицо, то глубокое исследование души преступника может быть благоприятно только для защиты.
Пример этих двух ораторов убедил меня, что приемы художественной литературы должны быть внесены в уголовную защиту полностью, смело и откровенно, без всяких колебаний.
Ведь судебные уставы императора Александра II сделали громадный переворот. Они предоставили присяжным заседателям произносить обвинительные или оправдательные решения, не стесняясь никакими доказательствами, единственно по убеждению их совести. Столь нашумевшее недавно случайное и необщеобязательное определение Сената насчет сознания подсудимого не может изменить установившегося хода вещей, ибо это было бы равносильно отмене реформы. Слишком ясный и точный закон превыше всяких мимолетных толкований, подмывающих его твердыню. Закон останется незыблем.
С тех пор примирение правосудия с душою преступника сделалось основным мотивом уголовной защиты. Из этого до очевидности ясно, что художественная литература с ее великими раскрытиями души человеческой должна была сделаться основною учительницею уголовных адвокатов. «Проникновенная» психология и вытекающая из нее, часто неожиданная для рутинных взглядов, этика – вот два могущественнейших оружия в руках того, кто должен «милость к падшим призывать».
Излишне распространяться о глубочайших открытиях в психологии преступления, сделанных, например, Шекспиром или Достоевским. Но вообще вся художественная литература неизмеримо более содействовала смягчению взглядов на преступника, нежели деятельность знаменитейших филантропов-практиков. Эти филантропы только облегчали отбытие наказаний, помогали устранению некоторых физических мук, улучшали тюремный быт и т. п. Но литература действовала гораздо радикальнее: она примиряла общество с самою личностью нарушителя законов. Не стану этого доказывать подробно. Приведу ближайшие, современные факты.
Возьмите хотя бы два рассказа Чехова: «Злоумышленник» и «Беда». Герой первого рассказа крестьянин Григорьев отвинчивал гайки, которыми рельсы прикрепляются к шпалам, иными словами, умышленно повреждал железнодорожный путь с явною опасностью для пассажиров, т. е. совершил преступление. Во втором – купец Авдеев, член ревизионной комиссии одного крахнувшего банка, подписывал подложные отчеты, т. е. судился за преступление. Чехов не юрист. Но кто же – даже самый лучший из нас – по тем двум обвинениям, которые я назвал, когда бы то ни было произнес в суде что-нибудь до такой степени яркое и простое, до такой степени обезоруживающее всякую возможность преследования этих двух преступников (Григорьева и Авдеева), как то, что написал Чехов в этих двух коротеньких рассказах?
А в чем же тайна? Только в том, что Чехов правдиво и художественно нарисовал перед читателем бытовые условия и внутреннюю жизнь этих двух, выражаясь по-нашему, своих «клиентов».
И решительно то же самое мы должны делать в каждой уголовной защите.
Мне возразят, что писатель свободно создает образы, почерпаемые из своей фантазии, тогда как адвокат прикован к фактам действительности. Но позвольте мне назвать это возражение просто глупостью – одною из тех старых глупостей, которые под влиянием привычки превращаются как бы в истину. Ведь я говорю о художественной литературе, которая всегда, как бы она фантастична ни была, имеет в своей основе самую настоящую, самую глубокую правду жизни. Поэтому уголовный адвокат, если он художник, т. е. человек проницательный и чуткий, находится даже в гораздо лучших условиях, нежели писатель. Он имеет подлинную натуру, которую ему нет надобности ни маскировать, ни переделывать. Как портрет есть самая благодарная тема для живописца (портретами обессмертил себя Веласкес), так и подлинное дело есть наилучший материал для художника слова, каким непременно должен быть защитник в суде.
Один мой товарищ, конечно, вполне искренно предостерегал одного подсудимого, желавшего обратиться к моей защите. «Ведь Андреевский – поэт, а не адвокат,– сказал он,– вам нужно поискать кого-нибудь более серьезного». С моей точки зрения, это был невольный комплимент. В переводе на мой язык это значило: «Андреевский слишком умен, найдите кого-нибудь поглупее». А клиент все-таки испугался и послушался.
И я прекрасно понимаю всесилие этой рутины. Ведь даже мой благосклонный критик, присяжный поверенный Ляховецкий, наделив меня всевозможными достоинствами, оговорился, однако, что я все-таки «не адвокат чистой крови». Вероятно, и это – намек на поэзию, ибо я не догадываюсь, каким образом уголовный защитник может быть «адвокатом чистой крови»? Что ему для этого нужно? Иное дело цивилисты. У них действительно умы совершенно специальные. Здесь можно говорить о расе, о юристах «по крови». Но уголовники?!
И кому бы, казалось, а уж никак не критикам уголовных защитников клепать на поэзию. Ведь Плевако в защите Качки как лучшим доводом воспользовался разбором некрасовского стихотворения «Еду ли ночью по улице темной...»; Адамов неоднократно эксплуатировал стихотворение Никитина «Вырыта заступом яма глубокая...». А Потехин оправдал Кожевникова, зарезавшего свою любовницу, даже посредством... музыки, доказывая присяжным, какую невыразимую печаль на сердце вызывают мотивы вальса «Дунайские волны».
Скажу прямо: чем менее уголовные защитники – юристы по натуре, тем они драгоценнее для суда. Гражданский суд имеет дело с имуществами, а уголовный – с людьми. Уголовный защитник призван ограждать живые людские особи от мертвых форм заранее готового и общего для всех кодекса. Если уголовный защитник будет таким же зашнурованным или, придерживаясь Ляховецкого, «чистокровным» юристом, как прокурор, судьи и секретарь, то ни одного житейски допустимого и понятного приговора не получится. Уголовный защитник, если он является чутким, правдивым, искренним бытописателем и психологом, всегда будет дорог для суда, всегда будет выслушиваться с уважением и вниманием, ибо сами судьи сознают, что их привычка к формам мертвит их совесть, удаляет их от потребностей жизни, которым они желали бы служить, а потому каждое верное, свежее слово, приходящее к ним из-за стен суда, заставляет их прислушиваться к голосу действительности, интересует их, смягчает поневоле их сердце. Юриспруденция нужна уголовному защитнику не как нечто существенное, а как нечто вполне элементарное, вроде правил грамматики для писателя, ученических чертежей для живописца, позиций для танцора и т. п. Присутствие этого звания должно быть почти незаметно в главных задачах его деятельности.
Впрочем, в этом отношении у меня есть антагонисты. Мне передавали такое суждение: «Уголовная защита есть работа упорная, грубая, совершенно антихудожественная. Едва открывается заседание, как уже следует помышлять о кассационных поводах...» Очевидно, подобное суждение может принадлежать только дельцам, лишенным художественного таланта, т. е. таким уголовным специалистам, которые теперь годятся лишь для второстепенных услуг, т. е. для консультаций, писания жалоб и т. п., но не для решительной минуты словесного спора. Адвокаты этого рода напоминают старинных докторов, которые всегда напускали на себя важность, любили тянуть лечение – и никогда настоящим образом не понимали сущности недуга. Таких людей теперь найдется немного.
В русской адвокатуре уже был очень большой и, в сущности, трагический талант этого направления – А. В. Лохвицкий, совершенно недосягаемый для современных эпигонов того же типа. И этот первоклассный уголовный юрист, человек с громадной эрудицией, изобретательностью и остроумием, проиграл свою кампанию перед реформенным судом. Он не переставал удивляться до своих последних дней, каким образом люди легкомысленные, «но с божественным огнем», с искренним и живым дарованием, преуспевали больше, чем он. А Лохвицкий был добрый и хороший человек, но только ослепленный старой верой. Что же теперь можно сделать с этой верой? Судебная реформа с отменой письменного производства, формальных доказательств и множества инстанций положила предел кляузе. Новый устав идеально прост. Любой помощник присяжного поверенного в один год, много в два овладеет всею техникой судебного заседания со всевозможными кассационными поводами. Современному защитнику-криминалисту, конечно, необходима эта подготовка, но она так несложна, что о ней и говорить не стоит. Сколько-нибудь даровитый человек будет в то же время и превосходным знатоком всех законных прав защиты, включая сюда Уголовное уложение и пропечатанные под каждою статьей разъяснения Сената.
Поэтому ставить на первый план свои глубокие познания в этой простой юриспруденции могут только мистификаторы, надеющиеся морочить клиентов. Старые времена миновали. Настал суд жизни, а не мертвой формалистики. И то, что эти господа называют защитой, есть только «волокита». Бумажное сутяжество удается им гораздо лучше, чем живое слово, и сколько бы они ни доказывали свою необходимость и важность в отправлении правосудия, они, в лучшем случае, достигнут только хорошего заработка, но судебными ораторами в истинном и благородном значении этого слова никогда не будут.
Возвращаюсь к литературе.
Я уже упоминал о двух превосходных рассказах, или, вернее, «уголовных защитах» Чехова. Но возьмем писателя в другом вкусе. Вот вам газетный фельетонист, пишущий чуть не ежедневно о чем попало, на скорую руку,– Дорошевич. И этот самый Дорошевич разобрал в нескольких фельетонах «России» запутаннейшее дело Скитских так живо, логично, ясно, просто и талантливо, с такою находчивостью и бытовою правдивостью в объяснении всех кажущихся недоразумений, так ловко объединил все части своего исследования, представил такую любопытную и цельную картину всего дела, что, если бы его фельетон попал в сборники адвокатских речей, он превзошел бы все известные мне образцовые речи наших адвокатов по делам с косвенными уликами. Помнится, закончив чтение этих фельетонов, я кому-то сказал: «Теперь я до очевидности понимаю, что Скитских осудить невозможно. И к чему после этого еще раз проделывать сложную комедию суда? Следовало бы теперь просто это дело свыше прекратить».
Да что Дорошевич! Мне попадались репортерские заметки, уверяю вас, более живые, умные и даровитые, нежели речи защитников по тем же делам.
И волей-неволей приходится сказать, что среди всех нас, уголовных защитников, в нашем довольно-таки показном сословии, увы, не слишком-то много людей с интересным, сильным умом и с обаянием оригинального, истинного дарования.
Однако же мы все-таки шумим, создаем себе имена... Чем это объясняется? Объясняется это громадным плюсом, который каждый из нас имеет над каждым деятелем прессы, а именно: нам даны живая аудитория и живой звук голоса. Эти два условия вместе составляют такой чувствительный рычаг, который самое ничтожное наше усилие передает публике сразу во сто крат в сравнении с его действительным значением. Самая дешевая мысль, самая пошлая сентенция, выраженные устно перед слушателями, производят сразу неизмеримо большее действие, нежели гениальнейшее изречение бессмертного человека, изображенное им для читателей на бумаге... Вот секрет нашего незаконного успеха. Вот чем объясняется то, что в нашей корпорации самые средние люди, обладая одною только развязностью речи, могут иногда, при некоторых честолюбивых махинациях, попасть даже в знаменитости. Но, конечно, от таких знаменитостей ни подсудимые, ни, тем более, предания, достоинство и дальнейшее развитие адвокатуры ровно ничего не приобретают.
Меня спросят: что же, по-вашему, делать? Писателям, что ли, поступать в присяжные поверенные?
Нет! Конечно, нет... Каждый, по природе, находит свое призвание. Об этом и говорить нечего. Однако в этом вопросе, казалось, можно было бы до чего-нибудь додуматься... Беда в том, что писатели не умеют говорить, а адвокаты почти не умеют правдиво, чутко и художественно воспроизводить и разъяснять жизнь. Вот если бы соединить то и другое...
Так я думал и так, по мере данных мне сил, я действовал. Идеальный защитник, каким он рисуется в моем воображении, это именно говорящий писатель. Вы, конечно, сблизите мое определение с определением Кони: прокурор – это говорящий судья. Но каждый судья поневоле должен быть прямолинейным, тогда как писатель может с полной свободой исследовать глубочайшие вопросы жизни. И в этой задаче – непочатый край для гуманитарных завоеваний уголовной защиты в будущем.
Предвижу еще такое возражение: ведь писатель изображает нормальных людей, а защитник говорит только о преступниках. Но каждый преступник вырастает среди нормальных людей, и для того, чтобы объяснить преступника, адвокат неминуемо должен, прежде всего, с глубокою правдивостью художника понять и определить всех его окружавших. Без этого немыслимо объяснить преступление.
Впрочем, у меня есть еще один решающий аргумент. Достаточно сказать, что даровитейший представитель уголовного права профессор Лист поддался обаянию художника моралиста Л. Толстого, протянул ему руку и разошелся с ним только в незначительных мелочах.
Кажется, моя мысль не должна вызывать недоразумений. Адвокаты-художники или «говорящие писатели» желательны, по-моему, во всевозможных делах, как в чисто юридических, так и в повседневных, ибо они везде будут наилучшим образом помогать выяснению истинных потребностей жизни. Но в особенности они важны в так называемых «громких процессах», волнующих все общество и требующих достойного отклика со стороны адвокатуры в пределах справедливости. Ведь криминалисты особенно любят попадать в такие дела. Повседневная работа служит им лишь подготовкою для этой роли и впоследствии будничная практика от них понемногу отпадает. Вообще же для уголовной защиты, не считаясь с выдающимися дарованиями, скорее всего полезны образованные, умные, искренние, добрые люди, а менее всего нужны казуисты или же пустые фразеры, самодовольно предлагающие публике истрепанные «цветы красноречия». Но к этому вопросу я еще возвращусь.
***
...Кстати, скажу об отличии красноречия судебного от политического. В печати, в обществе, а отчасти и в нашей среде существует шаблонное смешение уголовных ораторов с ораторами политическими. Мне попадались критические заметки, в которых авторитетно утверждалось, будто главная задача защитника должна заключаться в той «страстной силе», которая покоряет себе «двигательные импульсы человека». При этом упоминались Цицерон, Демосфен, Гладстон, Гамбетта и Лассаль, т. е. ораторы, создавшие себе имя речами политическими, а вовсе не адвокатскими.
Необходимо рассеять это недоразумение.
Оратор политический действительно должен покорять себе волевые инстинкты массы и заставлять ее поступать сейчас же согласно своему внушению. Его задача активная и положительная; сделайте то-то. Здесь и анергия, и страсть, и пафос вполне уместны, а подчас и необходимы. Толпа, которую нужно двинуть, требует бича. Нужно всех объединить; нужно тех, которые еще колеблются, загнать в общее стадо. Индивидуальности должны исчезнуть в желании большинства. Кроме того, политический оратор говорит во имя общества. Почва для сочувствия у него наполовину готова. Он добивается того, чего должны желать и его слушатели. Он, естественно, волнуется ввиду ожидаемого общего блага. Поэтому и в тех редких уголовных делах, которые затрагивают политические вопросы, все наши ораторы по самой природе вещей говорили страстно, чувствуя себя объединенными с желаниями лучших общественных сил.
Но всегдашняя задача уголовного защитника – прямо противоположная. Ему нужно отстаивать узкие интересы отдельного лица против общества. Общественная масса уже готова задавить отдельного человека – необходимо эту массу задержать, умилостивить, заставить ее отказаться от своего намерения, воздержаться от осуждения. Нужно достигнуть, чтобы она ничего не сделала этому человеку, чтобы она сказала: нет. Следовательно, цель отрицательная.
Какая же тут возможна аналогия?
Подумайте, в самом деле: вам дана личность, решительно ни на кого не похожая, и на эту личность нападает общественная власть во имя предполагаемого сходства всех людей вообще. Значит, если только суд не поймет этой отдельной души, то подсудимый погибнет без малейшего милосердия! Как же, спрашивается, возможно в таких условиях щеголять общими местами. Ведь между судом и подсудимым существует еще целая бездна взаимного непонимания. Да вы сами знаете ли еще своего клиента? Часто ли навещали его в тюрьме? Разъяснили ли в задушевной беседе с ним все мучительно темные вопросы, создаваемые жизнью, совершенно заново, решительно в каждом отдельном преступлении? Добились ли вы толку? А что, если и вы сами ничего не понимаете? Великолепны будут прения!
Я убежден, что защитник, сумевший проникнуть в душу подсудимого, постигший в ней как дурное, так и хорошее, словом, слившийся с подсудимым внутренне, почти в каждой защите невольно оторопеет перед тем, как трудно будет ему вынести на свет, перед далекие, незнакомые лица судей все то интимное, почти непередаваемое, чем он преисполнен вследствие искреннейшего общения с преступником, на правах его единственного на свете исповедника и охранителя...
Поэтому почти нет такого дела, где бы путь к приговору мог показаться защитнику настолько легким, ровным и приятным, что можно было бы сразу пуститься по нему вскачь, на лихом коне, с молодецкой посадкой и с кликами героя, заранее торжествующего победу...
Кажется, распространяться на эту тему нет более надобности. Sapienti sat.
Наш суд присяжных, хотя и заимствован из Франции, но на деле проявил столько национальной своеобразности, что сходство осталось в одних формах. Каковы бы ни были несовершенства нашего суда, но он так нов, свеж и молод, что у него есть громадное преимущество всякой здоровой молодости: ему принадлежит будущее. Этот суд вызвал к жизни и адвокатуру, которая поневоле должна была создавать новые формы, французские образцы для нас совсем непригодны. Если бы французская адвокатура, создавшая в прошлом столько чудесных ораторов, предстала пред нашим «судом совести», то она оказалась бы «старой крысой». В ней действительно есть много архаического. Язык напыщенный, чуждый нашим простым вкусам. Приемы увертливые, отдающие тонкой кляузой, которыми и до сих пор щеголяют хитроумные и элегантные «мэтры» вроде Деманжа. Слог совсем особенный, ненатуральный, с каким-то специфическим профессиональным запахом, каким, например, обдает вас в аптеке с ее латинскими снадобьями. Чувствуется уже отжившее и ненужное мороченье публики. Французскому адвокату, по исторической традиции, присвоено лицемерие. Французские судьи весьма буржуазны, консервативны и вообще строги, но ради обмена двух противоположных мнений, с точки зрения государственной справедливости, за французским адвокатом укреплено право реплики, не подлежащее ничьим придиркам. Ни один французский адвокат не подвергается порицанию собственно за принятие того или другого дела. Мало того, если, например, подсудимый прибегнет к неловкой лжи, то публика совершенно свободно рассмеется; если же поднимется адвокат и заступится за эту ложь, то публика сохранит к нему уважение. Так было еще недавно в деле Эмберов. Когда Тереза клялась, что Крауфорды существуют, то публика хохотала. Но когда встал Лабори и гаркнул: «Я это докажу»,– все хотя и сознавали, что это враки, безмолвно подчинились. И это понятно. В этом случае страна чтит в адвокате свое общественное учреждение: его лицемерие неприкосновенно, оно составляет, так сказать, его публичное право.
Но у нас все это не годится. У нас при самом введении реформы сложилось такое убеждение, что, если уже отныне будет суд совести, то и защита должна быть «по совести». На первых же выдающихся адвокатов при малейшем их разъединении со взглядами общества посыпались упреки. Брошена была в наше сословие кличка, прославившая Евгения Маркова: «прелюбодей мысли». Щедрин, подметив слишком развязную болтливость некоторых из нашей братии, заклеймил этот тип защитника фамилией «Балалайкин». Ничего нельзя было поделать. Наш поистине прогрессивный уголовный суд силою самой жизни указал всем участникам процесса, что от каждого из них прежде всего потребуется искренность и правда. И требование это уже останется самым существенным навсегда.
В сущности, надо сказать, что утвержденное веками торжественное лицемерие французских адвокатов ровно ни к чему не ведет. Судьи прослушают «брехунца» (как у нас малороссы прозвали адвокатов) и все-таки каждый раз сделают свое дело как следует. Великолепная, театральная ложь ударяет только по сводам залы, но не по сердцам судей. И если бы французская адвокатура ознакомилась с лучшими из наших речей, то увидела бы, насколько новы созданные нами формы защиты. В особенности ее бы поразили наши работы в исследовании души преступника. Ведь психология французских адвокатов не идет далее одной стереотипной фразы, повторяемой решительно в каждом деле: «Посмотрите на подсудимого: разве он похож на вора, убийцу, поджигателя и т. д...» Но ссылка на внешность подсудимого как на лучший довод в его пользу равносильна сознанию, что его внутренний мир совершенно недоступен для защитника.
***
Давно известно, что ораторами «не рождаются, а делаются», т. е. что внешние качества речи каждый может приобрести. Следовательно, важнее всего лишь то, чтобы у будущего оратора была прежде всего голова, имеющая высказать нечто значительное. Публика же до сих пор этого не понимает. Большинство думает, что, если человек способен говорить без запинки, то, значит, он оратор. И вот почему болтунов смешивают с ораторами. Это один из величайших абсурдов.
От болтливости следовало бы так же лечиться, как от заикания. Непроизвольное извержение слов так же пагубно, как непроизвольная их задержка. Оратором может быть назван лишь тот, кто достигнет полного сочетания плавности речи с целесообразностью каждого произносимого слова. Но в совершенном виде такое сочетание решительно никому не дается от природы. Нужно работать над собою, нужно покорять себе язык, дисциплинировать его. Величайшие ораторы древности, Демосфен и Цицерон, никогда не полагались на импровизацию и писали заранее свои речи от слова до слова. Кроме того, они долго вырабатывали свой слог прилежным изучением поэтов. Да, именно поэтов – не в обиду будет сказано тем, кто протестовал против затеи А. Я. Пассовера читать Пушкина в собраниях наших помощников. Ибо настоящая поэзия есть, прежде всего, точность и благозвучность языка, а следовательно, она содержит два существенных качества, необходимых оратору, как воздух для дыхания. Неужели Демосфен и Цицерон читаются в гимназиях для того, чтобы приучать гимназистов к воздействию на «волевые импульсы толпы»... Конечно, авторы эти изучаются лишь как образцы слога, близкого по своей точности и мелодии к языку поэтов. Вспомните первые звуки речи против Катилина: «Quousque tandem, Catilina...» Ведь это стих. Это настоящий ямб, как «Скажи мне, ветка Палестины...» А восклицание: «O, tempora! O, mores» – это настоящая гармония.








