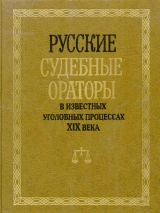
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 90 страниц)
В Москве, в конторах Юнкера и Марецкого, не купили билетов у Дмитриевой, сказав ей, что они предъявленные. Нигде не разъяснили ей смысла этого выражения, нигде, как видно из дела, не говорили ей, что билеты краденые. Она могла знать, что у дяди украли деньги, но ей никто не сообщил номера украденных билетов, факт, что билеты не могли быть проданы в Москве, обращается обвинением в улику против Дмитриевой: она должна была понять, что если билеты стесняются купить, следовательно, они краденые, говорит обвинение. Обвинение ошибается. Банкирская контора может в известное время не покупать ту или другую процентную бумагу по разным причинам, предвидя ее понижение или по недостатку наличных денег, назначенных на другую операцию. Конторы покупают билеты по биржевой цене и вообще не торгуют, как на Толкучем рынке: или покупают или отказывают. Так, например, за неделю до объявления франко-германской войны московские банкиры получили телеграмму из Берлина о приостановке покупки; вообще, ожидалось огромное понижение всех бумаг, которое и произошло вследствие биржевой паники. Следовательно, отказ конторы или двух контор ничего еще не доказывает. Наконец, если Дмитриева виновна в укрывательстве, потому что не догадалась о происхождении билетов, то почему же не привлечены к суду конторы Юнкера и Марецкого, знавшие наверняка, по официальным сведениям, что предлагаемые им билеты именно те самые, которые украдены у Галича?
Вот первая улика против Дмитриевой по обвинению ее в укрывательстве краденого. Кажется, она разъяснена настолько, что можно перейти ко второй – к продаже билетов в Ряжске с наименованием себя не принадлежащею ей фамилией Буринской. Разбирая эту улику, я должен опять просить вас вспомнить, в каких отношениях Дмитриева стояла к Карицкому: четырехлетняя связь дала ему тот неоспоримый авторитет, который так легко приобретается натурой черствою и упорною над слабым и впечатлительным характером женщины. То высокое положение, о котором так охотно говорит Карицкий, в глазах Дмитриевой было совершенно достаточною порукой в том, что он, Карицкий, ничего бесчестного совершить не может. Могла ли прийти ей мысль [51] о том, что Карицкий воспользовался деньгами ее дяди. Конечно, нет: такое подозрение она не могла и допустить относительно Карицкого, и он был слишком умен, чтобы, доверившись ей, стать от нее в известную зависимость. Если бы Дмитриева совершила кражу, то она не могла бы скрыть ее от Карицкого, но что Карицкий никогда не признался бы ей в своем преступлении – это также логически неизбежно. С этим признанием он утратил бы в глазах ее свой авторитет и, повторяю, подвергал бы себя опасности в случае первой размолвки, давая ей против себя оружие. Просьба Карицкого о том, чтобы продажа оставалось тайною, также не может быть поставлена в вину Дмитриевой: в положении Карицкого неприятно разглашать затруднения, вынудившие его будто бы продавать свои билеты. Впрочем, что Дмитриева не придавала особенного значения этой тайне, не подозревая в ней ничего особенно важного, мы увидим из показания Соколова.
Рассмотрев характер отношений Дмитриевой к Карицкому, возвращаюсь к поездке в Ряжск. Видя, что сбыт билетов в Москве неудобен, Карицкий на всякий случай приготовляет для Дмитриевой билет на свободный проезд, который она получила по возвращении из Ряжска. В Ряжске Дмитриева продает билеты, подписывается Буринскою, но вслед за тем, на станции, в присутствии совершенно незнакомых офицеров, громко рассказывает, что она, кажется, сделала глупость, подписавшись чужою фамилией, и тут же расписывается в книге станционного начальника настоящей своею фамилией: Дмитриева. Очевидно, что она действовала без всякого преступного умысла, совершенно не сознавая цели тех действий, которые были ей предписаны Карицким. Вот почему я полагаю, что вы не признаете ее виновною ни в укрывательстве заведомо краденого, ни в наименовании себя с тою целью не принадлежащей ей фамилией.
Следуя принятому мною плану, мы мысленно восстановили порядок событий от июня до ноября 1868 года. Теперь мы приближаемся к развязке, от которой нас отделяет только один эпизод, по моему мнению, чрезвычайной важности.
По возвращении из Ряжска, в конце октября или в начале ноября, Дмитриева продала г. Соколову в два раза 18 билетов внутреннего займа. На вопрос Соколова, знает ли об этом Карицкий, Дмитриева сперва спросила его, почему он это спрашивает, потом взяла с него слово, что он сохранит ее тайну, и объяснила, что билеты продаются по просьбе Карицкого и принадлежат ему. Чтоб оценить всю важность вытекающих отсюда заключений, следует обратить внимание на время, когда происходил этот разговор – за две или за три недели до начала дела, когда все крутом подсудимых было тихо и спокойно, и ничто не предвещало приближения грозы. В это время, я думаю, Дмитриевой лгать на Карицкого не было никаких оснований, не было даже и тех неправдоподобных поводов, которые, по мнению Карицкого, возникли после начала дела. Замечательно, что следователь не придал никакого значения этому обстоятельству и не занес его в протокол, как не идущее к делу!
В половине ноября к Дмитриевой, которая с трудом оправлялась от родов – здоровая натура была испорчена ужасными пытками выкидыша,– к Дмитриевой приезжает дядя ее Галич с отцом, напавшие на след поездки ее в Ряжск. На другой день, вскоре после приезда Карицкого, Дмитриева приносит ему величайшую жертву, на которую способна женщина, всегда самоотверженная и увлекающаяся. Происходит отвратительная сцена мнимого сознания, отец пригибает ее голову до земли: «Кланяйся же и тетке, проси прощения!» Она кланяется и плачет. Потом дядя едет к Карицкому обедать. Изобретательный ум Карицкого решает, что ее нужно выдавать за сумасшедшую, но несмотря на то, что это представляется делом нетрудным, стратагема не удается, и прошение прокурору выходит весьма аляповатою хитростью. С этого прошения начинается и новый период в показаниях Галича: ему назначается роль, которая бедному старику совсем не под силу. Тут и нечаянное взятие билетов вместо модных картинок, и кража непременно в Липецке, и проверка билетов за две недели до кражи... Все это у него перепутывается в памяти, и без того нетвердой, он беспрестанно забывает свою роль, и я полагаю, что режиссер решительно им недоволен.
Между тем 8 декабря 1868 года Дмитриева была заключена под стражу в острог, где и пробыла без малого два года. Здесь, в бесконечные часы тюремного одиночества, напало на нее тяжкое раздумье: одна, брошена всеми, всеми забыта... за что эти страдания? Человек, для которого она пожертвовала всем, покинул ее первый. Несмотря на те родственные чувства, которые связывали его с Дмитриевой, Карицкий ни разу не посетил ее в тюрьме. Он боялся, чтобы такое посещение не было впоследствии обращено против него в улику. Но если б он чувствовал себя ни в чем не виноватым, конечно, ничто не могло бы помешать ему посетить свою несчастную родственницу. Любовницу свою он боялся посетить. Среди томящей, смертельной тоски острожной жизни Дмитриеву начинает мучить раскаяние, перед нею с новой силой встает воспоминание о том ребенке, который был уничтожен Карицким, и вот, с тою порывистою страстностью, с тем полным забвением о себе, которые составляют главные черты в характере Дмитриевой, она решается сказать правду, всю правду, не щадя себя, не делая ничего в половину.
Замечательное показание почтенного товарища прокурора г. Костылева прекрасно передает нам душевное состояние Дмитриевой перед сознанием. Теплые, проникнутые страшной скорбью слова ее мужа подтверждают нам искренность этого сознания.
Я делаю невольное отступление, вспоминая о показании капитана Дмитриева. Еще не изгладилось потрясающее впечатление, произведенное его рассказом. Отец и муж, лишенный права видеться с женой и детьми, оскорбленный но всем, что дорого человеку, нашел в себе силу простить, забыть все прошлое: «И просил у полковника Кострубо-Карицкого позволения повидаться с моими детьми,– говорит он без всякой горечи,– мне дозволили», но под присмотром вахмистра, так что он не успел сказать ни слова детям наедине. Всегда верный себе, г. Карицкий невозмутимо отвечал, что он даже не знал, кто такой Дмитриев, так же как не знал фамилии Стабникова и существования записки, при чтении коей осенил себя крестным знамением.
Возвращаемся к своему рассказу.
Дмитриева увидала, что она обманута Карицким, и изверилась в нем. Последовала та нравственная ломка, за которой наступает страшная внутренняя тишина, отвращение от жизни, разочарование, во всем. К этому присоединились физические страдания, кровь хлынула горлом – природа мстила за поруганные права свои. 14 января Дмитриева делает полное сознание: рассказывая о продаже билетов, переданных Карицким, она раскрывает тайну своих отношений к нему; упоминая о двукратной беременности, она признает, что первый ребенок был вытравлен, и заметьте: ни одной лазейки не оставляет она себе. Если бы сознание ее было искусственное, кем-нибудь нашептанное, преподанное в остроге, то в данном случае представлялся весьма удобный случай, обвиняя другого, выгородить себя: она могла бы сказать, что вытравление произведено в состоянии ее беспамятства, помрачения ума; это было бы правдоподобно, так как беременность и родильный период зачастую сопровождаются неправильностями душевных отправлений. Но Дмитриева не щадит себя, и в рассказе, безыскусственная простота которого неподражаема, выдает себя головою. Является потребность страдания, посредством которого человек мирится с самим собою.
19 января была допрошена Кассель. Это показание замечательно в двух отношениях. Во-первых, оно содержит в себе заявление Кассель о том, что она ребенка не бросала, что Карицкий бывал довольно часто у Дмитриевой, что она в бреду говорила: «Николай Никитич, ты в крови, сюртук в крови...» Казалось бы, что тут и начинается интерес показания. Вы ожидаете, конечно, что проницательный следователь и присутствующий при допросе товарищ прокурора Соловкин ухватятся за этот факт и будут расспрашивать Кассель. Вы ошибаетесь: на том самом месте, где упоминается о бреде и о Карицком, протокол прерывается, и следуют подписи следователя, прокурора и пр. Но этого мало: того же 19 января составлен протокол о другом показании Кассель, где о Карицком и о бреде уже не упомянуто вовсе. Что же происходило между этими двумя показаниями, данными в один и тот же день? Какой невидимый тормоз остановил Кассель, когда она начинала сообщать подробности, драгоценные для правосудия и навсегда утраченные для него? Неизвестно. Отчего следователь не записал показания Соколова о принадлежности билетов Карицкому? Тоже неизвестно. Теперь на суде вы видите, что солидарность Кассель с Карицким простирается так далеко, что она не только умалчивает обо всем, что говорила против него на предварительном следствии, но даже через своего защитника представляет записку, которая, если бы была действительно писана для передачи ей, то прямо уличала бы ее в том, в чем она обвиняется, причем однако не сознается,– в знании и недонесении о преступлении Дмитриевой.
Показание 14 января было неожиданным ударом для Карицкого. Тут начинается усиленная деятельность, все пружины пущены в ход. Ошибка Карицкого заключалась в том, что он, не видевшись с Дмитриевой целый месяц, утратил свое влияние на нее, успокаивая себя мыслью, что не захочет же она губить саму себя вместе с ним. Но в человеке всегда остается больший запас добра, чем думают. Увидав слишком поздно свою ошибку, Карицкий по роковой логической необходимости должен был искать с ней свидания, чтобы попробовать снова подчинить ее своему влиянию. Карицкий отрицает свидание точно так же, как отрицает связь, отрицает присылку солдат, знакомство со Стабниковым, словом, отрицает все. Как ни странно такое поведение со стороны человека умного, но и в этой систематической лжи есть роковая ломка, независимая от воли лица. Как только Карицкий признает, что он был в связи с Дмитриевой, так обрушивается на него всею тяжестью целая цепь фактов, неразрывно связанных между собою. Середины нет: если он признает одно, логика фактов заставит его признать другое, и обнаружится соотношение между кражей и выкидышем. Внимательное изучение этих фактов убеждает нас в том, что они сцеплены не случайно, а какою-то неотвратимою необходимостью. Опасаясь неожиданных комбинаций, которые были бы вызваны признанием части истины, Карицкий заперся в безусловном отрицании. Такое положение имеет свои неудобства: так, если будет доказано, что из десяти случаев человек солгал в девяти, то можно со значительною степенью вероятности заключить, что он солгал и в десятом. Итак, свидание с Дмитриевой было необходимо. Оно и состоялось в цейхгаузе острога, что подтверждено свидетельскими показаниями Громова, Яропольского, Юдина и Поповича. На этом пункте Карицкий потерпел полное поражение, хотя пытался дать отпор посредством показания Морозова; но неожиданное появление вызванного мною свидетеля Соколова уничтожило и эту последнюю надежду. Ложь Карицкого была обнаружена блистательно. И недаром усиливался Карицкий отрицать свидание в тюрьме: оно непосредственно связано с самым замечательным эпизодом настоящего процесса, с вопросом о записке. Прошу вас, гг. присяжные заседатели, обратить внимание на то, что само по себе свидание Карицкого с родственницей и хорошей знакомой в тюрьме не представляет ничего необыкновенного. Напротив, странно, что не было такого свидания, пока Дмитриева не сделала полного сознания 14 января. Но тайное свидание наедине представляло затруднения, последствия которых не замедлили обнаружиться для Морозова: он лишился места. К этому свиданию Карицкий подготовил такую штуку, которой нельзя не отдать должной похвалы. Комбинация, построенная на записке, предъявленной защитником Кассель, была мастерски обдумана и превосходно исполнена. Если она провалилась на суде, то никак не по вине Карицкого, который ничего, даже крестного знамения не упустил, чтобы придать ей значение ошеломляющего удара. Не только для публики, но даже опытному глазу с первого взгляда показалось, что записка эта решает дело в пользу Карицкого и топит Дмитриеву.
К сожалению, эффект продолжался недолго. Для полной оценки этого факта необходимо восстановить его обстановку. В конце февраля или начале марта, после того как показание Дмитриевой дало новое направление делу, Карицкий в сумерки приехал в острог и прошел в цейхгауз, куда привели Дмитриеву. Здесь она увидела перед собой человека, когда-то горячо любимого, отца двух малюток, которым не суждено было испытать ласки своей матери – человека, четыре года имевшего в ее глазах величайший авторитет, преимущество ума, воли и положения. И что же? Этот человек стал упрашивать ее снять с него оговор, заплакал, рвал на себе волосы, унижался перед солдатом, которого в другое время мог бы за одну незастегнутую пуговицу бросить в тюрьму. Ослабленная болезнью, убитая тюремным одиночеством, в которое она была перенесена внезапно из среды, где пользовалась полным довольством, Дмитриева не выдержала. Столько унижения, слез и молений со стороны человека, которому она так долго повиновалась, тронуло ее. Он просит снять с него оговор, «так как она во всяком случае будет обвинена», но как же это сделать? Тогда он предлагает ей написать записку, текст которой уже составлен им заранее. Но в этой записке оговариваются другие лица, и на это Дмитриева не решается; тогда он предлагает ей написать то, что вы выслушали с таким напряженным вниманием: «Скажите Лизавете Федоровне Кассель, чтоб она показала то-то и то-то на Карицкого...» Эта редакция основана на очень тонком соображении: напиши Дмитриева: оговорила Карицкого ложно – хитрость была бы грубее; ей стоило бы сказать, что Карицкий как-нибудь вынудил или убедил ее отказаться от своего признания, и значение записки тотчас бы пало. Но здесь комбинация сложнее: Дмитриева убеждает Кассель показать согласно с тем, что она действительно показала. От содержания новой записки она не может отказаться, а между тем она подорвет весь ее оговор против Карицкого. Личность последнего здесь в стороне. Записка эта должна была казаться Карицкому превосходным оружием, к которому можно прибегнуть в случае крайности. И действительно, что могло уничтожить в прах всю эту махинацию? Одна только, хотя и очень простая вещь, но редкая вообще, и на суде в особенности, а именно – сущая, безбоязненная правда. Прежде чем передать их записку, Дмитриева, заботясь о судьбе детей, просила Карицкого отдать ей 8 тысяч, которые он положил в банк. Карицкий изъявил согласие возвратить ей хоть сейчас 4 тысячи, а остальные после, но сперва просил записку. Недоверие ли вкралось в душу Дмитриевой, или вспомнила она о том, как обманул ее Карицкий, втянув в дело о краже, но она отказала и оставила записку у себя. Вероятно, цена показалась Карицкому слишком высока, а может быть, деньги ему в это время были нужны, но вскоре эту записку Дмитриева из рук выпустила, а денег своих все-таки не получила: смотритель Морозов, правдивость которого, так же как и г. Стабникова, вероятно, вскоре будет предметом особого дела, вызвался вести переговоры с Карицким о возвращении денег и получил записку от Дмитриевой. С этого момента странствования записки облечены покровом тайны, лишь кое-где сквозь прорехи замечается ее движение. Записка адресована к неизвестному; «скажите Кассель» – кто же это достоин передать ей такую важную тайну, кто должен сжечь записку? Неизвестно. Из дела не видно ни одного человека, который пользовался бы таким доверием Дмитриевой, чтобы служить посредником между нею и Кассель. В то время, когда писана записка, между Дмитриевой и Кассель не было никаких близких отношений. За постоянное пьянство более чем за год до ареста Дмитриевой она отказала Кассель от должности. Кассель показала на суде, что записка эта была принесена к ней на дом неизвестным человеком в ее отсутствие 28 января 1869 года. Между тем странно, что никто из жильцов никогда ничего не слыхивал ни о записке, ни о том, чтобы кто-нибудь принес ее, ни о спорах по этому поводу между мужем и женой Кассель. О записке никем ни слова не говорится на всем предварительном следствии, и показание Кассель от 12 мая 1869 года не носит на себе ни малейшего следа этой записки, точно ее в то время и не существовало. Наконец, мы узнаем о ее загадочной судьбе из показания свидетеля Стабникова.
Есть ли кто в Рязани, кто бы не знал почтенного старожила г. Стабникова? Нет, все его давно и хорошо знают. Не знает его один г. Карицкий. По словам Стабникова, записку он получил в мае 1869 года, когда Кассель перешла жить к нему на квартиру; с того времени записка хранилась у него, а на время своих многочисленных поездок он отдавал ее своей жене. Дел у г. Стабникова очень много: у него не один дом, как заметила с справедливой гордостью г-жа Стабникова, у него много домов и в Рязани, и в Вильно, и в Варшаве. Разъезжая по этим домам, г. Стабникову решительно некогда было довести до сведения властей о записке, имеющей, по его собственному мнению, такое важное значение в деле. Он также не успел почему-то своевременно сообщить об интересных фактах, открытых ему г-жою Кассель. Замечательно также и то, что свидетель Стабников, вызванный Сапожковым, показывает о записке, предъявленной защитою Кассель, и показанием своим вызывает теплую молитву Карицкого; такая трогательная солидарность между подсудимыми не могла, однако, избавить свидетеля от некоторых, правда незначительных, неточностей. Так, по его словам, записка хранилась у его жены, но жена на суде показала, что она и не слыхивала о записке до августа месяца, когда получила ее в первый раз от мужа, и что муж вовсе не был знаком с Кассель до мая, тогда как, по его словам, она уже в марте, увидав его впервые, рассказала ему всю подноготную. Нечего делать, приходится повторить слова самого Стабникова: «Недоверие! опять недоверие!» Господин Стабников объяснил, что число 20 января, выставленное на конверте, заставило его заключить о важности записки, так как ему было известно, что Кассель давала показание 19 января. Но и тут проницательность свидетеля оказалась неудачною. Цифры на конверте, как вы заметили, грубо подправлены чернилами. Наконец, недурно устроена была следующая западня: муж г-жи Кассель незадолго перед делом, находясь под влиянием винных паров, отправился к г-же Дмитриевой и предлагал ей купить за 5 рублей записку, которая, как вы слышали, и не могла быть у него, так как все время хранилась у Стабникова. Если бы госпожа Дмитриева поддалась этой новой ловушке, тот же самый Кассель был бы против нее свидетелем. Но Вера Павловна просто велела прогнать его, и хитрость не удалась. Конечно, как справедливо заметил г. прокурор, если бы записка имела значение, то она так не поступила бы. На суде г. Кассель, несмотря на свое ненормальное состояние, сохранил, однако, настолько присутствие духа, что отвергал свой визит г-же Дмитриевой; но показания свидетельниц Акулины Григорьевой и г-жи Гурковской подтвердили самый факт с совершенной ясностью. Итак, гг. присяжные заседатели, вся иезуитская махинация с запиской, начиная от мнимого сожжения ее Морозовым до появления ее на суде, после показания Стабниковых, Кассель и объяснений Дмитриевой, рухнула в наших глазах.
Покончив с обзором фактов от самого начала дела до последнего эпизода и указав на внутренний смысл противоречий между показаниями Дмитриевой и Карицкого, я должен рассмотреть обвинение Дмитриевой в вытравлении плода. Я не хочу возобновлять еще раз слишком памятные подробности ужасной пытки, которую выдержала несчастная, не хочу вновь описывать эту отвратительную борьбу с природой: все это слишком болезненно врезывается в памяти, чтобы когда-либо изгладиться. Вы помните, в каком положении была Дмитриева; боясь лишиться доброго имени и убить своим стыдом стариков родителей, она согласилась подвергнуть себя всем мучениям, при мысли о которых мороз проходит по коже. Карицкий, отвергая свою связь, усиливался путем различных инсинуаций бросить тень то на того, то на другого из свидетелей. Носились даже слухи, будто он выставил свидетелей, готовых показать о близких отношениях их к Дмитриевой. Говорили даже – но я отказываюсь тому верить – будто эти лица принадлежат к военному званию. Я никогда не позволю себе думать, чтобы человек, имеющий честь носить мундир русского офицера, мог являться на суд для того только, чтобы уверять, что он воспользовался ласками женщины. Я убежден, что нигде и никогда общество русских офицеров не потерпит поступка, который во всяком случае недостоин порядочного человека. Всякий согласится, что армия без чувства была бы только сборищем вооруженных людей, опасных для общественного спокойствия. Конечно, ничего, подобного этим слухам, не было на суде; что же касается грязных инсинуаций Карицкого и намеков или мнений, полученных из третьих рук, то все это комки грязи, пролетевшие мимо и оставившие следы на руках бросившего их. Карицкому все это нужно было для доказательства того, что он не был в связи с Дмитриевой. Если бы рассказ Дмитриевой не дышал правдою, находя подтверждение во всех обстоятельствах дела, достаточно было бы вспомнить письмо Дмитриевой, случайно попавшее в руки врачу Каменеву и начинавшееся словами: «Милый Николай, ты...», или хотя свидетельство Царьковой. Да разве все дело не наполнено подробностями, совокупность которых не оставляет ни малейшего сомнения в факте связи, известной, впрочем, всем и каждому в Рязани?
Что касается прокола околоплодного пузыря, то я обращу ваше внимание на следующие обстоятельства, подтверждающие рассказ Дмитриевой. В сентябре 1867 года, когда беременность Дмитриевой становилась уже очевидною, Карицкий увидал, что приближается минута решительной операции, и вот его жена, как видно из показания на суде его же свидетеля, Модестова, подтвержденного Карицким, уезжает в Одессу, где и остается. Таким образом, опустелый, обширный дом, занимаемый Карицким, представляется местом совершенно удобным для произведения выкидыша, гораздо удобнее маленькой квартиры Дмитриевой. А этот страшный бред, когда женщина мечется, стонет, кричит: «Николай Никитич! Сними саблю, ты весь в крови. Ох, больно – прорвали пузырь...» Господа присяжные, дрожь пробирает от этих слов. Прислушайтесь к ним, к этому воплю: ведь в них звучит правда, ведь нужно быть глухим, чтобы не слышать ее. И что же возражает на это г. Карицкий? Что женщина не называет так своего любовника, и это с язвительной улыбкой. Руки опускаются при таком возражении.
Я разобрал содержание главных противоречий в показаниях Дмитриевой и Карицкого в их историческом порядке. Я старался осветить внутренний смысл этих противоречий. Не знаю, насколько удалось мне сообщить вам мое убеждение, но мне кажется, что эти противоречия ярко освещают характеры действующих лиц, а узнав характер человека, мы получаем понятие о его действиях и говорим: такое-то действие в его характере. Конечно, Карицкий рассчитывает на недостаточность прямых улик, но время формальных доказательств прошло. Систематическая ложь подсудимого – та же улика, которая иной раз гораздо убедительнее, чем свидетель с его присягой, произнесенною одними устами. «Характер человека есть факт,– сказал вчера наш уважаемый сотоварищ по защите, достойный русский адвокат и ученый,– самый важный факт, который обнаруживается на суде». Эти слова указывают на то значение, которое придается новым судом личной явке подсудимого перед присяжными. Как бы ни скрытен был человек,– он себя выдаст, и в течение восьми дней подсудимые ознакомили вас с собою.
Моя задача кончена. Я отвергаю виновность Дмитриевой в укрывательстве краденого и в наименовании себя чужим именем; я отдаю на суд вашей совести вопрос о ее виновности в выкидыше. Всякое преступление искупляется теми страданиями, которые оно влечет за собою. Вера Павловна выстрадала так много, воля ее была так подавлена, сознание так глубоко и искренно, что я не знаю, что осталось карать человеческому правосудию? Каких страданий она еще не испытала? Господа присяжные! Щадите слабых, склоняющих перед вами свою усталую голову; но когда перед вами становится человек, который, пользуясь своим положением, поддержкою, дерзает думать, что он может легко обмануть общественное правосудие,– вы, представители суда общественного, заявите, что ваш суд действительная сила,– сила разумения и совести,– и согните ему голову под железное ярмо равенства и закона.
Речь присяжного поверенного Ф. Н. Плевако в защиту Кострубо-Карицкого
Вчера вы слушали две речи, речь обвинителя и речь защитника Дмитриевой. По свойству своему последняя речь была также обвинительною против Карицкого. Когда они кончили свое слово и за поздним часом моя очередь была отложена до другого дня, признаюсь, не без страха проводил я вас в вашу совещательную комнату, не без боязни за подсудимого, вверившего мне свою защиту, оставил я вас под впечатлением обвинительных доводов, которые так щедро сыпались на голову Карицкого. Но за мной очередь, мне дали слово... И я с надеждой на свои силы приступаю к своей обязанности. Я верю, что вы не позволите укорениться в своей мысли убеждению, что после слышанного вами вчера нет надобности в дальнейшем разъяснении дела и нет возможности иными доводами, указанием иных обстоятельств, забытых или обойденных моими противниками, поколебать цену их слов, подорвать кажущуюся основательность их соображений.
Обвинитель и защитник Дмитриевой, каждый по-своему, потрудились над обвинением Карицкого. Если прокурор подробно излагал, в ряду с прочими, улики против Карицкого, то защитник Дмитриевой исключительно собирал данные против него. При этом защитник Дмитриевой не мог не внести страстности в свои доводы. Прокурор имел в виду одну цель: разъяснить дело – виноват или не виноват Карицкий – и во имя обвинения, по свойству своей обязанности, односторонне группировал факты и выводы. Защитник Дмитриевой обвинял Карицкого и этим путем оправдывал Дмитриеву. У подсудимой, которую он защищал, с вопросом о виновности Карицкого связывался вопрос жизни и смерти: перенося петлю на его голову, она этим снимала ее с себя. Тут нельзя ожидать беспристрастной логики. Где борьба, там и страстность. А страстность затуманивает зрение. Между тем защитник Дмитриевой всецело отстаивал объяснение своей клиентки, следовательно, шел одною с ней дорогой, а потому и в его доводах господствовал тот же не ведущий к истине образ мыслей. Разбор его слов оправдает мое мнение.
Законодатель оттого и вверял обвинение прокуратуре, что от частной деятельности не ожидал беспристрастия, необходимого для правосудия. Нет сомнения, что, если бы обвинял тот, кто потерпел от преступления, то желание путем обвинения получить денежный интерес мешало бы беспристрастию, и интересы человеческой личности отдавались бы в жертву имущественному благу. Но насколько же сильнее, насколько опаснее для подсудимого, насколько односторонне должно быть обвинение против него, когда его произносит другой подсудимый или его защитник, чтобы этим путем добиться оправдания! Поэтому строгая поверка, строгое внимание и отсутствие всякого увлечения должны руководить вами при оценке того, что вчера сказано защитником Дмитриевой в отношении к свидетелям, показавшим что-либо благоприятное для Карицкого. Тут были пущены предположения об отсутствии в свидетелях мужества, чести, долга, памяти, ума, тут выступили намеки на расходы Карицкого во время допроса свидетелей; лжеприсяга и подкуп играли не последнюю роль.
Я не буду идти этим путем. Иначе понимаю я защиту и ее обязанности. Прочь все, что недостойно дела, которому мы служим, и задача упростится, и в массе впечатлений и фактов, слышанных и узнанных вами, останется немного главных и существенных вопросов.
Судебному следствию следовало проверить вопрос, виновен ли Карицкий в краже 38 тысяч, виновен ли он в том, что прорвал околоплодный пузырь Дмитриевой, подговаривал ли он докторов. Вот что было задачей дела. Как же ее проверило судебное следствие? Следствие вертелось главным образом около того, доказана ли связь Карицкого с Дмитриевой, виделись ли они в остроге и какая была причина Дмитриевой оговаривать Карицкого. Но нельзя не заметить, что будь доказана связь Карицкого, будь доказано, что он был у Дмитриевой в остроге, и имей мы налицо оговор Дмитриевою Карицкого, мы еще не приобретаем несомненного обвинения. При наличности этих фактов только начинается вопрос: достаточно ли их для обвинения, можно ли на этом основании признать Карицкого виновным. Между тем обвинение излагает доводы, доказывающие, что связь и свидание были, и, соединяя их с оговором Дмитриевой, предполагает победу одержанною. Впрочем, мы можем объяснить себе и причину, почему на этих фактах останавливаются. Ведь кроме этих данных следствие не дает решительно ничего. Событие кражи, подговор Дюзингом Сапожкова, прокол пузыря – не имеют ни в чем подтверждения, кроме слов Дмитриевой... Несуществующий факт не может иметь доказательств: от этого их нет и на них не указывают.








