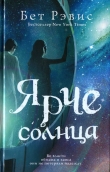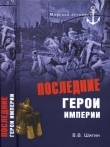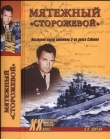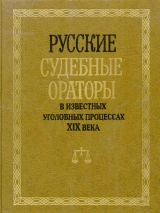
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 77 (всего у книги 90 страниц)
В это время до Борисова дошел слух, что Немировский в союзе с Дыбовым купили себе по 10 акций Саратовско-Симбирского банка и хотят принять участие в предстоящем общем собрании. Предупрежденный свидетелем Кобылинским о том, что Немировский не принадлежит к числу людей, для которых идея могла бы иметь значение сама по себе без экономической ее ценности, и зная это по собственному опыту, Борисов поспешил в Саратов. Намерения Немировского скоро сделались для него ясными; рассказ Борисова на суде нарисовал подробную их картину. На общем собрании 18 марта 1882 г. Немировский был обижен вдвойне: и как неудавшийся член ревизионной комиссии, и как промахнувшийся законник. Когда Борисов указал ему на 87 параграф Устава Саратовско-Симбирского банка и акционеры заявили о нежелании обсуждать, вне определенного Уставом порядка, делаемые Немировским заявления, Немировский сказал Борисову: «Тогда я пойду к прокурору». «Как вам будет угодно»,– последовал ответ со стороны Борисова. В этом ответе слышится голос человека, не сознающего за собой ничего преступного. Таким тоном и языком не станет говорить тот, кто чувствует свою вину. Он старается скорее уладить недоразумение, устроить соглашение, предотвратить всеми мерами подачу жалобы, грозящей ему неминуемой опасностью. Но человек чистый от преступления не пойдет на сделку с совестью. Борисов понимал очень хорошо, что слово, сказанное Немировским, было не пустой угрозой, и не боялся его доноса. В тот же день «кроткий и доверчивый» акционер, каким именует себя Немировский в жалобе, поданной им прокурору Саратовской судебной палаты, привел свою угрозу в исполнение, а на другой день, 19 марта 1882 года, в 9.30 часов утра, в Саратовско-Симбирский банк явился судебный следователь Городыский. Так окончил свое существование банк в тот момент, когда у него находились все данные для дальнейшего существования, когда в нем более чем когда-либо стал вводиться порядок, и банк мог бы продолжать действовать без ущерба для акционеров и заемщиков, без уголовного суда для лиц, ведавших его дела.
Характер разбираемого дела невольным образом отражается на складе нашей мысли, и, слыша постоянно об итогах Саратовско-Симбирского банка, хочешь подвести и итоги его деятелей. Посмотрим же, каковы получаются эти итоги для подсудимого Борисова в материальном и нравственном смысле. В материальном отношении мы видим пред собою следующее: расхититель сумм банка уплатил этому банку: взносов по Кано-Никольскому имению 247 тысяч рублей, сверх 35 тысяч, данных из раньше приобретенного имения, вложил на эксплуатацию дачи 200-тысячный капитал, внес в кассу банка 400 тысяч закладными листами – итого 882 тысяч рублей, да еще оставил банку имение, стоящее пять миллионов. Подобных хищников, господа присяжные, в русских судах еще никогда не судили! Если, оставя эту материальную сторону, мы посмотрим на Борисова с другой точки зрения, то увидим пред собою человека, перенесенного судьбой с одного полюса на другой, противоположный. Не стану повторять пред вами вновь картину того блестящего положения, которое он занимал до возбуждения настоящего дела. Но в том водовороте, где сталкиваются самые разнообразные интересы и чаяния, где идет вечная, неустанная борьба, иных житейская волна возносит высоко и держит на высоте, других безжалостно низвергает в бездну. На жизненном пути люди, слабые волей и умом, нерешительные в поступках, мало сделают и не уйдут далеко. Совсем иное, когда является сильный, энергический ум: он смело отдается своему делу и не задумываясь пойдет навстречу самому решительному замыслу. В этом его сила и достоинство, его обаяние и власть. Но рядом с величием человека идут и его способности. Упоенный удачами жизни, среди того общества, где успех оправдывает все, человек начинает забывать, что один неверный шаг может все погубить, что под его ногами та изменчивая почва, на которой он может найти себе и свое счастье, и свою гибель. Борисов переживал первое и незаметно для себя стремился к другому. К этому способствовала та сторона его характера, на которую уже было мною обращено внимание. Есть люди, у которых математический ум и способность самых обширных комбинаций уживаются с полнейшей непрактичностью и непонятной доверчивостью, граничащей с небрежностью. Гордые сознанием своего достоинства, они веру в самих себя переносят на других людей и полагают, в роковом заблуждении, что не могут быть жертвой обмана. Высоко неся свою голову вперед, они не обращают внимания на то, что копошится у них под ногами. А между тем пользуясь этим, их незаметно опутывают снизу тонкими, но крепкими путами, и когда наконец они почуют опасность, то уже поздно! Так погиб Борисов. Борисов забыл о том, что на свете существуют те виртуозы шантажа, которые не упустят случая воспользоваться ошибкой, и те лицемеры, которые умеют под личиной благородного служения общественным интересам втихомолку ловко обделывать свои воровские делишки. Борисов сделался жертвой именно таких людей, потому что не захотел считаться с ними, да еще потому, что слишком много верил в других и слишком много надеялся на самого себя. Господа присяжные заседатели! Он для вас чужой человек, живший и действовавший в ином обществе, между иных людей. Оторванный от своей среды, одинокий, безропотно ждет он от вас своего приговора. Его друзья и близкие далеко, и он не знает, суждено ли ему вернуться к ним, или же ему грозит другая участь. Но не сомневается он в том, что вы, судящие его здесь, на далекой чужбине, более, чем к кому-либо другому, отнесетесь к нему с теплым участием и сумеете в вашей совести найти границу между его ошибками, как бы велики они не были в глазах ваших, и преступлением. Его привело к вам из Петербурга в Тамбов то дело Саратовско-Симбирского банка, бренные остатки которого лежат пред вами. Они принесены сюда как молчаливые вещественные доказательства тех преступлений, которые, по словам обвинителя, совершены Борисовым с прочими подсудимыми. В делах банковых делопроизводство, бухгалтерия, касса, счета заслоняют собою личность человека, и ничего не скажут вам эти бумажные тома о судьбе живых людей, которых вы призваны судить. Но вглядитесь попристальнее испытующим судейским взором, прислушайтесь чутким ухом вашей совести – и сквозь цифры этих томов вам увидятся горькие слезы; за бухгалтерскими расчетами услышатся болезненные стоны измученной души человеческой. Для подсудимого Борисова, господа присяжные заседатели, история крушения Саратовско-Симбирского банка есть вместе с тем скорбный лист его жизни, на котором Провидению угодно было начертать: пятилетнее пребывание под судом и следствием, имущественное разорение, потерю общественного положения, поругание имени. Медленно тянулись для Борисова эти мучительные годы, и только одно глубокое сознание своей правоты и вера в правый суд сохраняли ему силу в борьбе и давали нравственную опору существования. Когда вокруг него торжествовало злорадство, когда гады, падкие на гибель благородных существ, ликовали, он твердил от начала до конца: «Я не хищник чужого добра» и молил об одном – о беспристрастии. Эта просьба, этот вопль его проходит через все страницы настоящего дела. Но все мольбы остались гласом вопиющего в пустыне... Теперь уже не в четырех стенах следственной камеры, не с глазу на глаз пред судебным следователем, а на гласном суде, пред лицом представителей общественной совести, Борисов доказал, насколько несправедливы были к нему те, которые незаслуженно связали его имя с преступлением. И ныне, господа присяжные заседатели, на вас лежит высокая, святая обязанность – разорвать эту связь и восстановить попранную справедливость. Вас просили произнести слово правды. Ни о чем другом и я не могу вас просить. Но не осуждение Борисова будет этим словом. Словом правды о нем будет тот приговор, который возвестит ему свободу и конец многолетних страданий.
После 20-часового совещания присяжные заседатели вынесли 3 июля в 10 час. утра свой вердикт, признав виновными Алфимова и Трухачева в том, что при приеме в залог имения Трухачева не был удержан числившийся на нем долг в 5 тысяч 100 рублей, который и был уплачен из суммы банка, причем Трухачев поставил и подписал как бухгалтер ордер, в котором поместили ложное сведение, что будто означенная сумма была удержана при выдаче ему ссуды. Кроме того, Трухачев признан виновным и в том, что получив от заемщика Маслова 1 тысячу рублей для передачи в кассу в счет платежей по ссуде, сумму эту присвоил себе, сделав в книгах и документах банка ложные записи о получении означенной суммы. Обоим подсудимым присяжные заседатели дали снисхождение, и суд приговорил их к лишению особенных прав и к ссылке на житье: Алфимова – в Архангельскую губернию с воспрещением отлучки из назначенного ему местожительства в течение 3-х лет и с предоставлением по истечении 10 лет избрать местожительство, кроме столицы, а Трухачева – в Томскую губернию с воспрещением отлучки в течение 15 лет. Но при этом суд постановил, ввиду обстоятельств дела, ходатайствовать пред Его Императорским Величеством о замене назначенного Алфимову наказания 4-месячным арестом на гауптвахте, без ограничения прав. Остальные подсудимые оправданы. Факты неполного поступления складочного капитала и выпуска излишних закладных листов отвергнуты. Гражданские иски суд оставил без рассмотрения.
На этот приговор товарищ прокурора Москалев подал кассационный протест, а гражданский истец Лопуцкий, поверенный гражданского истца – Государственного Дворянского банка – присяжный поверенный Плевако и защитники подсудимых Трухачева и Алфимова подали кассационные жалобы. По определению Сената приговор о всех подсудимых был отменен, и дело для нового рассмотрения передано в Московский окружной суд.
Образцом судебного красноречия явилось выступление Ф. Н. Плевако в Варшавском окружном суде. В этой речи глубоко и правдиво предстает внутренний мир молодой талантливой актрисы, успешно выступавшей на сцене Варшавского императорского театра. Эта речь по праву приобрела известность далеко за пределами России.
УБИЙСТВО АРТИСТКИ ВИСНОВСКОЙ [10]10
На основании обстоятельств этого дела И. А. Буниным была написана повесть «Дело корнета Елагина».– Ю. Ш.
[Закрыть]
Заседание Варшавского окружного суда, 7—10 февраля 1891 г.
По обвинению в умышленном убийстве артистки Варшавского драматического театра Марии Висновской суду предан бывший корнет лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Александр Михайлович Бартенев. Председательствовал А. А. Чернявский, обвинял товарищ прокурора барон Э. Ф. Раден, защищали присяжные поверенные Ф. Н. Плевако и Т. С. Сакс.
По обвинительному акту дело состоит в следующем.
В шестом часу утра 19 июня 1890 года в квартиру ротмистра лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Лихачева, помещавшуюся в Лазенковских казармах в г. Варшаве, явился корнет того же полка Бартенев и, сбросив с себя шинель, сказал: «Вот мои погоны». Не успел Лихачев выразить свое удивление по поводу этого раннего визита и загадочных слов, как Бартенев сказал: «Я застрелил Маню», и затем пояснил, что убил известную актрису Варшавского драматического театра Марию Висновскую. Лихачев, желая проверить это заявление, разбудил своих товарищей офицеров: гр. Капниста и Ельца. Последние, узнав на квартире Висновской, что она с вечера ушла из дому и не возвращалась, отправились с данным им Бартеневым ключом на Новгородскую улицу, в д. 14, кв. 1, куда вошли названные офицеры в сопровождении дворника и околоточного надзирателя, состояла из узкого, совершенно темного коридора и маленькой, всего три с половиной аршина в квадрате, сверху донизу задрапированной комнаты. В комнате же у правой стены от входа, между дверьми и задрапированным окном, стоял большой низкий турецкий диван, и на нем лежала в одном белье, с полуоткрытыми глазами и вытянутыми конечностями Мария Висновская. Поза ее была спокойная, голова немного поникла вниз, ноги были вытянуты и несколько раздвинуты. На трупе (в области половых органов) лежали одна на другой две визитные карточки Александра Бартенева, а рядом с ними в складках белья – три вишни. На карточках рукою Висновской на польском языке написано следующее: 1) «Генералу Палицыну. Приятель мой – благодарю за благородную дружбу нескольких лет... посылаю последний привет и прошу выдать все деньги, которые мне еще следует из театра за «Статую» – 200 р., взносы в кассу и пенсию, прошу, умоляю». 2) «Человек этот поступит справедливо, убивая меня... последнее прощание любимой, святой матери и Александру... Жаль мне жизни и театра... Мать бедная, несчастная, не прошу прощения, так как умираю не по собственной воле. Мать – мы еще увидимся там, вверху. Чувствую это в последний момент. Не играть любовью!» Возле трупа найден шелковый платок с меткой «А. Б.», портерная бутылка с небольшим количеством черной жидкости; у ног покойницы лежала гусарская сабля. Бывшая на трупе рубашка и надетый поверх ее батистовый белый пеньюар оказались целыми, на теле же покойницы, в области сердца, замечено было темное пятно, а посредине его круглая, с обожженными краями рана, из которой сочилась темная жидкая кровь. Принадлежности женского туалета лежали тут же поблизости, между диваном и окном, а также на полу. Белая шляпка была приколота к закрывавшей печь драпировке. Кроме того, в комнате и на выступе печи лежали в беспорядке: перчатки, булавки, пробки, огарки свечей, недопитая бутылка с шампанским и портером, стеклянная банка с надписью «opium pulv.», «trucizna» (яд). Другая, стеклянная, но пустая банка, была найдена под трупом на диване. На полу и за диваном нашли множество мелко исписанных карандашом клочков твердой бумаги. Все это уже открыто было судебными властями.
Бартенев на допросе признал себя виновным в умышленном лишении жизни Марии Висновской выстрелом из револьвера и дал более подробное объяснение этого факта, заключавшееся в следующем. В феврале 1890 года кто-то из знакомых Бартенева представил его Висновской в кассе Варшавского драматического театра. Миловидная наружность известной на всех польских сценах артистки произвела на Бартенева сильное впечатление. Через некоторое время он сделал Висновской визит, но, чувствуя некоторую робость в ее присутствии, бывал у своей новой знакомой редко и ограничивался лишь посылкой букетов и изредка утренними посещениями. В начале осеннего сезона 1891 года Бартенев стал бывать у Висновской чаще и в октябре того же года сделал ей формальное предложение вступить с ним в брак. Это предложение не было принято, но и не было отвергнуто; все зависело от согласия на этот брак родителей Бартенева, с которыми он, уезжая на рождественские праздники, должен был переговорить. Съездив в деревню, Бартенев с родителями, однако, не говорил об этом, ибо наперед знал, что получит отказ. Висновской же, по возвращении своем в Варшаву, он сказал, что с родителями говорил, но так как их согласия не добился, то ему остается только покончить с собою.
Висновская тем временем не изменяла ни образа жизни, т. е. по-прежнему была окружена обожателями, ни своих отношений к Бартеневу. Надежда на взаимность то увеличивалась, то уменьшалась; Бартенев все чаще и чаще стал посещать Висновскую, ежедневно посылал ей на дом и на сцену мелкие подарки и букеты, и таким образом поддерживались между ним и Висновской хорошие отношения. Эти отношения простого знакомства круто переменились 26 марта 1890 года. Вечером этого дня после ужина в квартире Висновской последняя отдалась впервые Бартеневу. Счастье Бартенева, однако, не было полное. Большой сценический успех, красивая наружность и сильно развитое кокетство Висновской привлекали к ней мужчин, и их посещения вызывали в Бартеневе чувство ревности. Под влиянием этого чувства и горя, что он не может жениться на Висновской, Бартенев часто говорил ей о своём намерении лишить себя жизни. Висновская же, охотно говорившая о кончине и окружавшая себя эмблемами смерти, поддерживала этот разговор и показывала банку, в которой, по ее словам, был яд, и маленький, с белой ручкой револьвер. Во время одного из таких разговоров Висновская спросила Бартенева, хватило ли бы у него мужества убить ее и затем лишить себя жизни. В другой раз она взяла с него обещание, что он известит ее об окончательном решении покончить с собою и даст ей возможность увидеть его и проститься с ним. Мрачные мысли, однако, быстро сменялись шумными пирушками в загородных ресторанах; ужины с музыкой, шампанским и любовные свидания следовали быстро друг за другом. Рядом с ними шли, однако, взаимные неудовольствия и легкие размолвки. Как-то в мае Висновская заявила Бартеневу, что его ночные посещения компрометируют ее, и просила его, если он желает встречаться с нею наедине, приискать квартиру в глухой части города. 16 июня 1890 года комната, нанятая Бартеневым в доме под номером 14 по Новгородской улице, была отделана, и в тот же день Бартенев предложил Висновской взять ключ от этой квартиры. «Теперь поздно»,– ответила Висновская и, не объясняя значение слова «поздно», утром следующего дня, т. е. 17 июня, уехала на целый день в пригородную деревню Поток к жившей там на даче матери своей Эмилии Кицинской. Мучимый ревностью и объясняя отъезд Висновской и слово «поздно» желанием прервать с ним отношения, Бартенев написал Висновской полное упреков письмо, которое оканчивалось заявлением, что он лишит себя жизни. Одновременно с письмом он отослал ей все полученные от нее письма, перчатки, шляпку и другие мелкие вещи, взятые им на память. Отослав письма и вещи, Бартенев поехал в цирк, пил здесь со своим знакомым Михаловским шампанское и, побывав после представления в одном из ресторанов, вернулся около полуночи домой. Полчаса спустя горничная Висновской передала ему записку своей барыни, прибавив, что Висновская ждет его перед казармами в карете. Несколько минут спустя Бартенев и Висновская уехали в город. На пути и в квартире на Новгородской улице происходили объяснения, кончившиеся тем, что Висновская назначила Бартеневу свидание в той же квартире на другой день в 6 часов пополудни. Это свидание, как говорила Висновская, должно было быть последним, потому что уже окончательно был решен ее отъезд через несколько дней за границу, сначала в Галицию, а затем в Англию и Америку.
В исходе седьмого часа ожидавший Висновскую Бартенев открыл ей двери помещения на Новгородской улице. Войдя в комнату, Висновская положила на диван два свертка и, раздевшись, вынула из одного из них пеньюар, а из другого большой заряженный, принадлежавший Бартеневу и хранившийся у Висновской револьвер. На вопрос Бартенева, зачем она принесла револьвер, Висновская ответила, что он ей больше не нужен и что она возвращает его владельцу. В начале свидания оба находились под впечатлением размолвок последних дней; потом разговор стал нежнее; Бартенев говорил о любви, о том, что он не переживет ее отъезда, и вскоре прежние отношения возобновились. Приблизительно в 10 часов вечера Висновской захотелось есть. Через полчаса холодный ужин, портер и привезенное Бартеневым заранее шампанское были на столе. Поужинав и попросив Бартенева в следующий раз покупать меньше яств, Висновская легла на диван. Часа два спустя Висновская спросила Бартенева, который час. Оказалось, что полночь миновала. «Пора мне домой»,– сказала Висновская и собиралась одеваться, но по просьбе Бартенева легла опять и задумалась. «Какая тишина,– сказала она через некоторое время,– мы точно в могиле». Потом, помолчав, прибавила: «Пора мне ехать, но как-то не хочется уходить, я чувствую, что не выйду отсюда». Бартенев на это ничего не ответил и разговор прекратился. «Разве ты меня любишь? – возобновила Висновская разговор.– Если бы ты меня любил, то не грозил бы мне своей смертью, а убил бы меня». Бартенев возражал, что он себя может лишить жизни, но убить ее у него не хватает сил. Вслед засим он прикладывал револьвер с взведенным курком к себе. «Нет, это будет жестоко– убить себя на моих глазах, что же я тогда буду делать»,– сказала Висновская и, вынув из кармана своего платья две банки – одну с опиумом, а другую с добытым Бартеневым по ее просьбе из полковой аптеки хлороформом, предложила принять вместе яду, а затем, когда она будет в забытье, убить ее из револьвера и покончить затем с собою. Бартенев согласился. После этого они оба начали писать записки. Висновская писала долго, рвала записки и опять начинала писать. Окончив свои записки раньше Висновской, Бартенев начал ее торопить. После этого Висновская приняла опиум вместе с портером; Бартенев тоже выпил немножко отравленного портера. Затем Висновская легла на диван и, помочив два носовых платка хлороформом, положила их себе на лицо. Через некоторое время Бартенев присел на край дивана, обнял левой рукой находившуюся в забытье Висновскую и, приложив бывший у него в правой руке револьвер к обнаженной груди ее, спустил курок. Когда это случилось, Бартенев с точностью определить не мог; он допускает, однако, что выстрел последовал в три или после трех часов утра. Совершив убийство, Бартенев около пяти часов утра запер квартиру и, забрав с собой револьвер, уехал домой, т. е. в Лазенковские казармы.
Объяснение обвиняемого о лишении им Висновской жизни по ее просьбе и согласно желанию убитой, говорит обвинительный акт, опровергается вполне как показаниями родственников и друзей потерпевшей, так и содержанием восстановленных из найденных на месте преступления разорванных на мелкие куски записок покойной. Текст записок, писанных на польском языке на кусках простой бумаги и двух визитных карточках Александра Бартенева, гласит в подстрочном переводе следующее: 1) «Человек этот угрожал мне своею смертью – я пришла. Живою не даст мне уйти». 2) «Итак, последний мой час настал: человек этот не выпустит меня живою. Боже, не оставь меня! Последняя моя мысль – мать и искусство. Смерть эта не по моей воле». 3) «Ловушка? Мне предстоит умереть. Человек этот является правосудием!!! Боюсь... Дрожу! Последняя мысль моя матери и искусству. Боже, спаси меня, помоги... Вовлекли меня... это была ловушка. Висновская». По поводу содержания последних трех записок Бартенев не дал никаких объяснений и заявил лишь, что он крайне удивлен и поражен их содержанием. Указанная в первой записке причина, побудившая Висновскую назначить Бартеневу роковое свидание вечером 18 июня, находит себе полное подтверждение в многократных заявлениях обвиняемого о намерении лишить себя жизни. Эти угрозы, которым, по свидетельству двоюродных сестер Висновской, Штенгель, Крузевич и Карай, и друзей ее, генерала Палицына, певца Мышуги, дворянина Крживошевского и других, потерпевшая придавала серьезное значение, высказывались Бартеневым на словах и в письмах постоянно. Так, в двух письмах, адресованных на имя Висновской из Москвы во время отпуска Бартенева в декабре 1889 года, значатся фразы: «Если не удастся получить согласие на брак, то вы знаете, на что я решился», или в другом письме: «Буду ли я свободен или нет; если нет, то мне остается лишь не жить». Кроме того, Висновская неоднократно высказывала свои опасения, что ее кокетство с Бартеневым доведет его до самоубийства, и с ужасом заявила, что это позор – иметь жизнь человека на своей совести. Но кроме нравственных побуждений удержать Бартенева во что бы то ни стало от самоубийства, у Висновской были и другие опасения, более реального свойства. Она, по словам ее матери Эмилии Кицинской и двоюродной сестры Елены Карай, опасалась, кроме крупного скандала, который лишил бы ее места в театре, еще и других тяжелых для нее последствий в случае смерти Бартенева, так как последний уверил покойную Висновскую, что отец его состоит московским губернатором, а сестра – фрейлиной Высочайшего двора. Висновская называла Бартенева в кругу близких «страшным» и неоднократно говорила: «Увидите – он меня убьет и отомстит за всех, с которыми я кокетничала». Опасение за свою жизнь и главным образом за жизнь Бартенева удерживали Висновскую прервать внезапно возникшую исключительно ради кокетства и без всякого чувства связь с Бартеневым; она надеялась найти исход из тяготившего ее положения в отъезде на продолжительное время за границу. Жажда славы на артистическом поприще ускорила это решение, и до ее отъезда в Галицию, а затем в Англию и Америку оставалось 18 июня всего несколько дней. Смерти Висновская боялась ужасно; по удостоверению упомянутых выше родственников и друзей Висновской, последняя своими разговорами о смерти только кокетничала; жизнью же она настолько дорожила, что при малейшем нездоровье она посылала за врачом, а ничтожная и даже мнимая опасность вызывала в ней ужас, а затем, по миновании опасности, горячие благодарственные молитвы за спасение. Всегда веселая, остроумная и любящая сильно и искренно мать свою, Висновская о самоубийстве не думала и заявила, между прочим, своему хорошему знакомому, Мешковскому, что ее принцип – «жить и пользоваться жизнью». В последний день ее жизни, т. е. 18 июня 1890 г., за несколько часов до поездки в дом № 14 на Новгородской улице у Висновской обедали певец варшавской оперы Александр Мышуга и англичанка Алиса Розе. По словам этих свидетелей, Висновская была в свойственном ей хорошем расположении духа и, очевидно, далека от мысли о самоубийстве. Прощаясь около четырех часов пополудни с Мышугой, Висновская пригласила его провести у нее вечер того же дня, такое же приглашение получил другой близкий знакомый покойной Степан Крживошевский. Перед уходом из дома на свидание Висновская заказала кухарке своей Грабицкой ужин и приказала горничной Орловской зажечь лампу и ожидать ее; по дороге же к Бартеневу она заезжала к своей портнихе Далешинской, просила приготовить заказанные ею платья к завтрашнему дню и, пошутив с хозяйкой мастерской и работницами, уехала.
Вышеизложенные обстоятельства, говорит обвинительный акт, опровергают объяснение обвиняемого о непринужденном желании Висновской покончить с собою. Данные, добытые следствием, указывают на настоящий мотив, побудивший Бартенева совершить преступление. Этим мотивом была ревность. По заявлению самого обвиняемого, он ревновал Висновскую постоянно ко всем и каждому, кто, по его мнению, пользовался ее расположением. Ревность Бартенева проявлялась с особенной интенсивностью в отношении председателя управления варшавских казенных театров, генерала Палицына. Распространяемые самой Висновской ничем не подтвердившиеся слухи об ухаживании генерала Палицына за ней и даже о намерении последнего вступить с нею в брак довели, по удостоверению свидетелей Прудникова и Пржбыльского, Бартенева до того, что один вид лично ему незнакомого Палицына вызывал в нем озлобление, которое он не в состоянии был скрыть. Ревность и злоба в отношении генерала Палицына и нежелание уступить Висновскую кому бы то ни было должны были возрасти в ночь на 19 июня, во время последнего свидания с Висновской, до крайних пределов. В эту ночь, согласно объяснению обвиняемого, Висновская рассказывала ему разные эпизоды из своей жизни. Жизнь эта была, по словам Висновской, полна неудач и разочарований, причем в виде примера она рассказывала, что даже получение заграничного отпуска сопряжено с жертвами, так как генерал Палицын разрешил ей отпуск с тем, чтобы она уехала с ним куда-нибудь на две недели. Свою злобу к Палицыну и торжество, что Висновская ему принадлежать не будет, Бартенев выразил в составленной им в ночь убийства и разорванной там же, по его словам, Висновскою записке следующего содержания: «Генералу Палицыну. Что, старая обезьяна, не досталась она тебе?»
Одновременно с выяснением вышеизложенных обстоятельств было произведено химическое и химико-микроскопическое исследование как внутренностей покойной Висновской, так и найденных на месте преступления съестных припасов, посуды и белья потерпевшей и обвиняемого. Химическим анализом внутренностей потерпевшей установлено, что в желудок Висновской было введено весьма незначительное количество морфия, принятого в виде опиума и недостаточного для отравления, что отсутствие алколоидов опиума в тонких и толстых кишках указывает на то, что Висновская умерла вскоре после приема яда, и что присутствие винного спирта в желудке доказывает, что покойная пила незадолго перед смертью портер и шампанское вино. Кроме того, при анализе покрывавшей внутренние стенки портерного стаканчика темно-бурой массы выяснилось, что масса состоит из остатков портера и примешанного к нему опиума; количество найденного в стаканчике яда признано достаточным для отравления. Опиум в чистом виде был найден в стеклянной банке, снабженной печатным ярлыком с надписью «Trucizna» и «opium pulv.», химическим способом определено, что банка с 12,9 г опиума содержит в себе 6,21% морфия. В стеклянном флакончике, бывшем под трупом, оказалась одна капля хлороформа, на покрывавшей стол белой скатерти и на пробочнике – незначительное количество опиума. Бывшие на белье и пеньюаре Висновской красные пятна признаны кровяными.
На вопрос о виновности, предложенный в начале судебного следствия, Бартенев ответил, что признает себя виновным, что смерть Висновской была ему не нужна, что выстрелил он помимо воли. При дальнейшем объяснении защитник Бартенева заявил, что обвиняемый, затрудняясь и робея в словесных объяснениях, ходатайствует о прочтении показания его, данного на предварительном следствии. В показании этом, весьма подробном, Бартенев рассказывает историю своего знакомства с Висновской, первоначальных робких взглядов и ухаживаниях, перехода отношений на более интимную почву и, наконец, подробности устройства отдельной квартиры на Новгородской улице. Показание это заканчивается рассказом о том, как проведен был последний день перед преступлением и как совершено было само преступление. «В нанятой квартире,– рассказывает Бартенев,– я велел, согласно желанию Висновской, забить окно досками, чтобы день казался ночью, и потому, что в ней предназначались также дневные свидания; кроме того, велел приделать второй ключ к входной двери для передачи его Висновской. 16 июня я зашел к Висновской в 4 часа, сказал, что квартира уже готова, и передал один из ключей. Он» взяла ключ, улыбнулась, но возвратила его обратно, прибавив, что поговорит об этом со мной в другой раз. В это время пришел к ней некто Михаловский, с которым я встречался раньше. Когда мы уходили с Михаловским, то Висновская громко ему сказала: «Приходите в понедельник!», а мне шепнула: «Приходи завтра в четыре часа». В назначенное время, в воскресенье, 17 июня, я пришел к Висновской, и кухарка мне передала письмо, в котором Висновская писала, что, чувствуя себя нездоровою, не может меня принять, что на следующий день, в понедельник, она уезжает к матери на дачу и просит меня туда не приезжать, что теперь уже поздно меня видеть и взять то, что я хотел ей дать, и чтобы я пришел к ней во вторник в 4 часа. Это письмо меня взволновало, и я захотел ее упрекнуть в том, что она отказывается от того, чего сама раньше хотела.