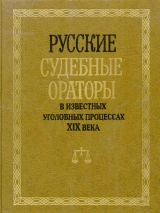
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 90 страниц)
Затем, господа присяжные заседатели, я позволяю себе возвратиться к тому пункту в развитии обвинения, на котором я вынужден был остановиться. Среди событий 11 июня возникал важный и решительный вопрос, вопрос о том, имели ли подсудимые, совершая увоз документов, оставшихся после смерти Занфтлебена, какое-либо право на это действие, и оправдывалось ли оно хотя целью той настоятельной, неизбежной, крайней необходимости, на которую ссылаются подсудимые. В оправдание свое они прежде всего говорят, что один из них, Гартунг, был душеприказчиком покойного и как душеприказчик, в силу одного этого звания, имел и право, и обязанность немедленно распорядиться оставшимся имуществом, а следовательно, и увезти его, взять в свои руки. Так ли это? Нет, такого права он не имел, такой обязанности на нем не лежало, и неосновательной ссылкой на законность только прикрывается, хотя и неудачно, вполне неправильный, произвольный и сам по себе подозрительный характер его поступка 11 июня.
Гартунг был назначен душеприказчиком по духовному завещанию, а духовное завещание по закону исполняется по воле завещателя или наследниками, или душеприказчиком, но, говорит закон, всякое духовное завещание, домашнее или нотариальное, прежде всякого по нем исполнения представляется в надлежащее присутственное место для утверждения, и только по утверждении оно выдается лицам, на то уполномоченным, для исполнения. Только с момента утверждения духовного завещания и выдачи его к исполнению наступают, следовательно, права душеприказчика и может быть какая-либо речь о них. Духовное же завещание Занфтлебена было представлено в Окружной суд к утверждению 17 июня и было утверждено 28 июля. Между тем все действия, из которых слагается преступление, относятся к 11, 12, 13, 14, 15 и 16 числам июня, т. е. все эти действия предшествовали утверждению завещания и, стало быть, когда увозилось, а затем и скрывалось имущество, ген. Гартунг, хотя и назначенный душеприказчиком, еще не был и не мог быть законным распорядителем этого имущества. Его обязанности законно начинались только с той минуты, когда завещание было выдано ему судом, а в данном случае определение Окружного суда об утверждении духовного завещания было еще обжаловано в Судебной Палате и только вследствие определения этой последней в декабре 1876 года завещание было выдано к исполнению. Перед вами старались провести мысль, что иначе было прежде, что по практике старого Сената душеприказчик мог, не выжидая утверждения завещания и выдачи его, приступить немедленно к распоряжению оставшимся после завещателя имуществом. Так ли это было или нет, для нас вполне безразлично по одному тому, что если бы даже это и было так, то эта практика доброго старого времени давно уже отжила свои дни. Она могла быть практикой только того времени, когда еще существовало охранительное судопроизводство; теперь же, с введением охранительных мер, закон установил целый ряд способов, которыми премудро охраняет наследников именно от действий, подобных действиям подсудимых. Говорить нам теперь о порядках этого старого времени вряд ли приходится.
Итак, если генерал Гартунг не имел законного права забрать в свои руки имущество наследников Занфтлебена и увезти его к себе, то посмотрим, не было ли фактической необходимости так поступить, не был ли он поставлен в особые условия по крайней необходимости решиться на произвольный поступок, может ли он этими условиями оправдывать и объяснять то, что было сделано им 11 июня? Прежде всего, Гартунгу не могло быть неизвестно, что по закону никто, а тем более лицо в его положении, неведением закона отговариваться не может. Для охранения имущества, оставшегося после умершего и принадлежащего многим наследникам, и между ними малолетним, существуют охранительные меры и охранительная власть, а потому, когда перед ним, как объясняет он, возник вопрос о необходимости охранить имущество, то к этой власти и нужно было обратиться, а не распоряжаться тайно и самовольно. Переходя затем к вопросу о том, действовал ли, увозя имущество, Гартунг лишь по крайней в том необходимости, мы в действиях его невольно наталкиваемся на признаки чего-то странного, чего-то затаенного, какой-то плохо скрытой неправды, требующей обнаружения и разоблачения. Если справедливо объяснение подсудимого Гартунга о том, что он увозил имущество единственно для охранения от расхищения, то, казалось бы, всего прямее, естественнее и проще было все это имущество собрать, как оно и было собрано, взять печать и опечатать при свидетелях. Тогда, действительно, с некоторым правом на доверие можно было бы сказать: «Я взял имущество для того, чтобы охранить; представителей охранительной власти при этом не было, да я и не считал нужным обращаться к ним. Я поступил, быть может, неправильно, но не злоумышленно, потому что я принял свои охранительные меры, я опечатал имущество при свидетелях». Вопрос о том, почему не так, а иначе поступили подсудимые, так естественно и неизбежно вытекает из их объяснений, что они были вынуждены отвечать на это. Каковы же эти ответы? У Гартунга на все есть один ответ: «Не подумал, не пришло в голову». У Ольги же Петровны странным образом является другой ответ: «Они хотели опечатать имущество и искали сургуч и печать на письменном столе, не нашли и только потому не опечатали имущество». Странное, необъяснимое разноречие двух деятелей одного и того же действия по отношению к одной из важнейших его подробностей! Но мы пойдем дальше. Мы допустим на минуту, что опечатание имущества не было произведено по той или другой, хотя и странной, но и невинной причине.
Нужно было составить хотя бы самую поверхностную, краткую опись взятого имущества; составить ее для предосторожности неизбежно, когда человек, не имеющий никаких тайных, задних мыслей, чувствует, что к нему в руки попало чужое добро. Почему подсудимые не описали имущества? Почему они, приняв на себя, по их словам, охранение этого имущества, не приняли этой предосторожности? Ответ тот же: Гартунг «не подумал», «он не знал этих формальностей». Судите сами, насколько можно придавать значение такому объяснению. Есть, впрочем, у подсудимых другое объяснение, на которое, когда исчерпаны другие, они ссылаются: это то, что ящик письменного стола перед увозом документов оказался отпертым. Ольга Петровна говорит, что 11 июня, приехав из Москвы на дачу, она увидела, что один из ящиков стола отперт, между тем как, уезжая, она сама заперла его; это дало ей повод предположить, что в документах рылись, что они могли быть похищены. Она сообщила об этом Гартунгу, который тогда решился отправиться в кабинет и уже прямо, без дальнейших рассуждений принять имущество и увезти его к себе. В каком же положении оказались в этом ящике документы, были ли какие признаки того, чтобы кто-либо в них рылся? «Нет, не было». Все было в порядке. Да, если ящик и был отперт, если и верить этому, то на кого может пасть подозрение в попытке расхитить имущество покойного? Кроме Василия Занфтлебена, на даче были только Крадовиль и Хемниц, Екатерина Степанова, Зюзин, все только люди близкие, безусловно преданные Ольге Петровне. А Василий Занфтлебен, по удостоверению отца, в кабинете не распоряжался и даже сами подсудимые не решаются заявить на него какое-либо подозрение. Наконец, если уже так необходимо было поскорее принять имущество в свое распоряжение, то не естественно ли было обеспечить себя и свою совесть хотя такой простой, грубой предосторожностью, как приглашение ближайших представителей власти присутствовать при взятии имущества. Это так естественно и неотразимо, так бьет в глаза своей ясностью, что сами подсудимые, заранее предчувствуя страшную силу выводимого отсюда заключения, стараются доказать нам, что такие меры были с их стороны приняты, что они посылали в волостное правление за волостным старшиной, потом за становым приставом, наконец управляющим дачами, но ничего не подействовало, никто не явился присутствовать при приеме и увозе документов, точно все сговорились отказаться исполнять законные требования подсудимых! Посылали, говорят нам, за становым приставом доктора Кувшинникова и Ивана Зюзина с тем, чтобы, заехав к приставу (он жил в Бутырках), Кувшинников передал бы ему приглашение и сам поехал бы далее в Москву, а Зюзин, нарочно для этого взятый, привез бы на дачу ответ пристава. Какая предусмотрительность и какая неудача! Посланные не застали пристава, он был в уезде, но Гартунг и Ольга Петровна на даче ждали возвращения Зюзина, и когда он явился с известием, что его нет, только тогда, объясняют подсудимые, стали они принимать имущество.
Так ли это было на самом деле? Василий Занфтлебен утверждает, что действительно посылали за становым приставом, но вовсе не для того, чтобы пригласить на дачу, а только для того, чтобы взять у него свидетельство, необходимое на провоз тела покойного в Москву. Приезда станового пристава никто не ожидал, и собирание документов в кабинете началось гораздо раньше возвращения Зюзина от пристава, стало быть, к нему приступили и на него решились вовсе не ввиду привезенного Зюзиным известия. Когда Зюзин вернулся, все уже было кончено и на даче уже не было ни Гартунга, ни Мышакова, ни документов и никакого другого ценного имущества покойного. Предположим, однако же, что нельзя было дождаться станового пристава, произвести прием имущества можно было и без него, и если далека была его квартира, а сам он находился в отсутствии, то близко, под руками находился старшина и волостное правление – в селе Растокине, менее чем в одной версте от Леонова. Подсудимые утверждают, что Гартунг посылал звать старшину, но тот не явился. К сожалению, судебное следствие несомненно убеждает, что в этом показании подсудимых от первого до последнего слова все ложно или сомнительно, сомнительно уже потому, что в подтверждение своих показаний подсудимые дают только такие показания, которые никак не могут быть проверены. На предложение разъяснить, кого же они посылали за старшиной, подсудимые могли указать только на часто упоминаемого ими покойного кучера Ивана, то есть на свидетеля, который умер, которого спросить уже нельзя! Спрашиваем самого волостного старшину Гранилина, не приходил ли кто-нибудь за ним звать его на дачу Занфтлебена? «Нет, я с 9 часов утра,– говорит он,– до вечера бываю в волости, а если меня там нет (что бывает очень редко), то всегда там остается или волостной писарь, или его помощник, которые и посылают за мной, если я понадоблюсь». Твердо и определенно давал Гранилин свои спокойные и ясные ответы; смысл их был один: никто 11 июня не посылал за ним из села Леонова по случаю смерти старика Занфтлебена, и если б было хотя что-либо подобное, то непременно осталось бы у него в памяти. Так говорит старшина, человек, далеко стоящий от настоящего дела, не имеющий никакого повода под присягой искажать истину. А так как Иван-кучер умер и его показанием уже нельзя проверить Гранилина, то и остается вывод, что за волостным старшиной никто не посылал, никто его присутствовать при взятии имущества покойного не приглашал. Когда же убедились, что оправдание, основанное на посылке за старшиной, плохо, проверки не выдерживает, тогда придумали нечто иное, стали говорить, что посылали за управляющим дачами. И это, к несчастью, не подтвердилось, так как управляющий Силаев объяснил, что ничего подобного он не помнит, а между тем смерть такого жильца на дачах, как Занфтлебен, человека богатого, известного,– происшествие заметное, исключительные обстоятельства, его сопровождавшие, не могли ускользнуть из памяти Силаева. Но если уже никак нельзя было пригласить станового пристава, волостного старшину, управляющего дачами, то ведь рядом с дачей Занфтлебена была церковь, и священник этой церкви только что перед увозом имущества совершил панихиду по покойному. Можно ли было пригласить его? Да, конечно. А был ли он приглашен? Нет. Наконец, можно было просто выйти на улицу, обратиться к первому попавшемуся обывателю-крестьянину, пригласить его в дом и попросить постоять в кабинете в качестве стороннего свидетеля. Ничего этого не сделали, никого не звали и не ждали, принимали, собирали и увозили имущество только три лица, подсудимые: генерал Гартунг, Ольга Петровна и Мышаков. Были в доме и родственники покойного, две сестры г-жи Крадовиль и Хемниц, но и на них подсудимые не могут указать как на лиц, присутствовавших при приеме Гартунгом имущества.
Итак, прием и увоз совершены были тайно, молчаливо, поспешно, без опечатания, без описи, без свидетелей. Несколько противоречит этому только показание одного свидетеля Ивана Зюзина; он не утверждает прямо, что сам лично находился при том, как Гартунг и другие выбирали документы из письменного стола, но говорит, что все совершалось при открытых дверях, что Василий Занфтлебен мог видеть все происходившее. Василий Занфтлебен безусловно отрицает это, но я не думаю, чтобы нужно было мне опровергать показание Зюзина. Вспомним для оценки этого показания только 2—3 факта: Зюзин – двоюродный брат подсудимому Мышакову, Зюзин – его земляк и большой приятель, Зюзин после службы у Занфтлебена прямо перешел на службу к г-же Крадовиль, а от г-жи Крадовиль к генералу Гартунгу, у которого и находился в услужении долгое время спустя после начала следствия, между прочим, и в тот печальный день, когда у Гартунга при этом следствии был произведен обыск. Зачем Гартунгу нужно было именно Зюзина пригласить к себе в услужение, зачем нужно было Зюзину, этому важному свидетелю по делу и бывшему слуге покойного, перейти через дом сестры покойного и найти себе пристанище у Гартунга, а затем странным образом скрыться от него незадолго до суда, чтобы в дни суда уже не находиться в услужении у подсудимого? Не легко проникнуть в эту тайну, да, пожалуй, пусть она и остается тайной, но ведь всякому дан здравый смысл, дано простое нравственное чувство, и этим чувством как-то смутно ощущается, что в этой тайне есть что-то подозрительное, темное...
Таким образом, все обстоятельства тайного увоза Гартунгом, Ольгой Петровной и Мышаковым документов Занфтлебена являются в высшей степени странными и подозрительными, чтобы пока не сказать более. Невольно приходит на мысль, что так не принимают имущества для того, чтобы охранить его, но так похищают его для того, чтобы им воспользоваться. Если же вы вспомните, что при таких обстоятельствах увоза мы уже имеем несомненные данные того, что генерал Гартунг крайне нуждался в деньгах, нуждались и другие соучастники его, что он был назначен душеприказчиком покойного, что в массе документов находились и его собственные векселя, находилась вексельная книга – тот единственный документ, по которому можно удостоверить, кто и сколько состоял должным покойному. Если вы вспомните далее, что когда имущество было приведено в известность, то ни этих собственных векселей Гартунга, ни этой вексельной книги уже не оказалось, что они исчезли безвозвратно после того, как все имущество в течение почти суток находилось в полном, безотчетном, бесконтрольном обладании самого должника – генерала Гартунга, то и для вас станет очевидным, что увоз имущества не был только увозом, а похищением, для которого звание душеприказчика было не более как прикрытие, внешняя оболочка, ширма. Припомните слова графа Ланского, сказанные им в этот же день, 11 июня, слова, слышанные Яблоновским и Кунтом, когда Ланской вместе с Зюзиным проходил мимо террасы. Ланской сказал замечательные слова, он упрекнул Гартунга в недальновидности, употребил бранный эпитет и воскликнул: «Зачем он не взял все документы, что ж ему?!» В этих словах кроется намек на то удобное право, которое сознавал за собой генерал Гартунг. Ведь он душеприказчик, он действует согласно праву, данному ему покойным, кто же может помешать ему распорядиться по своему усмотрению и, прикрываясь этим, соблюсти и свои выгоды?
Затем несколько замечаний об отношении к событиям 11 июня подсудимых Ланского и Алферова.
11 июня 1876 года, в самый день смерти Занфтлебена, Ланской был в Леонове на даче и играл там довольно деятельную роль. Приехав, по-видимому, уже после того, как все имущество было увезено Гартунгом, он переговаривался о чем-то довольно таинственно с Ольгой Петровной, ходил и шептался с Зюзиным, причем произнес уже вам известные слова о Гартунге и документах. Здесь же на даче к нему уже обращались как к душеприказчику, здесь он узнал и подробности взятия Гартунгом всех документов, выслушал все справедливые претензии, подозрения собравшихся к вечеру наследников, но тем не менее, решительно одобрил все действия Гартунга, вдовы и Мышакова в завладении оставшимся имуществом.
Гораздо интереснее и важнее вопрос о том, знал ли обо всем случившемся Алферов? И если знал, то когда и откуда почерпнул он эти сведения?
11 июня в 3 часа дня, когда никто из наследников еще не знал о кончине Занфтлебена, Алферову уже все было известно: он знал даже, что после смерти Занфтлебена осталось только 25 рублей, тогда как незадолго перед тем, по его словам, Мышаков привез покойному большую сумму. Алферов сообщил Николаю Занфтлебену всякие интересные подробности и, между прочим, что сам он сейчас с дачи, что при нем и умер Василий Карлович, что ему все там происходившее хорошо известно. Оказалось, правда, что Алферов слегка увлекся в своем рассказе Николаю Занфтлебену, так как 11 июня он в Леонове на даче вовсе не был. Но вывод отсюда далеко не в пользу его. Мне кажется, что для него было бы лучше, если б он, сказав, что сам был на даче, не сказал лжи. Будь он там случайно, не было бы ничего странного и подозрительного в том, что все обстоятельства кончины Занфтлебена ему уже известны во всей подробности. Но его не было на даче, а он уже все знал, и знал гораздо раньше всех других и даже тех, кому всего ближе, всего нужнее было знать, раньше детей – наследников. Не следует ли из этого, что Алферову было дано знать о всем чуть не первому, что к нему прежде всего бросилась вдова и главный душеприказчик за советами и наставлениями. Есть указание на то, что в самых событиях 11 июня дело не обошлось без умной головы и опытной руки Алферова; припомните показание свидетеля Колпакова: Гартунг говорил ему, что все его участие в этом деле совершилось по совету Алферова, а совет Алферова именно в том и состоял, чтобы как можно скорее забрать в свои руки имущество покойного Занфтлебена и распорядиться им. Увозя с дачи переданное ему вдовой имущество, оставшееся после смерти Занфтлебена, Гартунг, кроме документов, увез небольшую сумму наличных денег. Если увоз имущества не был похищением, а охранением имущества душеприказчиком, как нас хотят уверить, значит, деньги, увезенные Гартунгом, представляют все, что после смерти Занфтлебена осталось налицо. Посмотрим, так ли это оказалось на самом деле. Да, говорят нам, осталось только 200 рублей, вот вся та сумма наличных денег, которая, по показанию вдовы и душеприказчиков, осталась после покойного, та сумма, которую Гартунг при пресловутом своем отчете представил к следствию. К сожалению, подсудимые упустили из виду кой-какие выкладки, кой-какие соображения, и с грозной, обличающей силой стоит теперь над ними эта молчаливая, но подавляющая и неотразимая логика цифр и документов. Свидетель Крапоткин за две недели до кончины Занфтлебена уплатил ему свой долг в 500 рублей. Николаю Занфтлебену Алферов говорил, что Гартунг взял у Ольги Петровны 500 рублей на похороны. Свидетелям Яблоновскому и Роберту Занфтлебену Алферов говорил: отчего вы не спросите Мышакова, куда делись 6 или 7 тысяч, привезенные им Занфтлебену незадолго до смерти? Где же эти деньги? Мне скажут, что все это одни слова! Хорошо, не будем верить словам, будем верить документам, благо у нас есть они, есть кассовая книга, значение которой убийственно для оправданий подсудимых. В этой книжке рукой самой Ольги Петровны за май 1876 года в остатке значится 1 тысяча 680 рублей чистой прибыли. Вычитая из этой суммы все записанные ее же рукой расходы с 1 по 11 июня, т. е. по день смерти, и не принимая даже в расчет записанный за те же дни приход, в чистом остатке мы получим 1 тысячу 200 рублей. Вот что осталось после покойного, вот что должно быть налицо. «Где же эти деньги?» – спрашиваем мы у ген. Гартунга, Ольги Петровны и Мышакова. Вот когда подсудимые дадут нам удовлетворительный ответ, почему они считают взятыми ими только 200 рублей, когда в действительности они взяли 1 тысячу 200 рублей, тогда мы в праве будем согласиться с ними в том, что только 200 рублей осталось после покойного и что и эти деньги были взяты Гартунгом для охранения. Но нечего и ждать ответа: дать его нельзя, нельзя потому, что увоз имущества был не охранением его, а деянием, заключающим в себе явные и несомненные признаки простого похищения.
11 июня вечером на дачу собрались наследники. О том, что произошло между ними и Ольгой Петровной в это достопамятное время, мне придется говорить впоследствии, когда речь пойдет об исчезновении вексельной книги, теперь же я только вскользь напомню вам обстоятельства. Приехав на дачу, наследники Занфтлебена, его 3 сына, 2 дочери и их спутники, застали там полный имущественный разгром: ни документов, ни вещей, ни книг, ни денег, ничего, все вывезено... Кем? Душеприказчиком генералом Гартунгом. Вот единственный ответ, который вдова дала наследникам. Думается мне, и в подтверждение такого предположения имеется в деле много оснований, что о приезде наследников, об их претензиях и требованиях, о заявленном ими нежелании оставить это дело так и подчиняться действиям мачехи и душеприказчика,– обо всем было заблаговременно сообщено в Москву тому, в чьих руках было имущество; думается это мне, между прочим, потому, что уже на другой день рано утром вызывается и появляется на сцену Алферов. Если документы, если все имущество было забрано единственно с целью охранить, то и во всех последующих действиях мы должны встретить только все признаки такого охранения: мы увидим документы в целости, нетронутыми, неприкосновенными, увидим их при первой же возможности переданными надлежащей власти. Ведь духовное завещание еще не утверждено; положим, Гартунг постоянно отговаривается и оправдывается незнанием закона, но он же постоянно ссылается на Алферова, которому законы весьма не безызвестны, который знает лучше, чем многие другие, не только самые законы, но даже и все обходы их, этих законов. Как же при таких обстоятельствах поступают подсудимые, душеприказчик и его советник и поверенный: не трогают имущества, хранят его, как зеницу ока? Сдают подлежащей власти? О, нет! Проходит вечер, ночь, а раннее утро следующего дня уже застает их за разбором имущества... Овладев им, они роются в нем, чего-то ищут, что-то распределяют, о чем-то совещаются. Николай Занфтлебен и Колпаков утром 12 июня застают Гартунга и Алферова в квартире первого в таком положении: оба сидят в кабинете около круглого стола, перед ними груды бумаг и раскрытый портфель, из портфеля вынуты векселя. Векселя они рассматривают и читают, словом, имуществом уже распоряжаются и, заметьте, что это происходит после того, как в течение около суток, с 2—4 часов дня 11 числа и до утра 12, оно находилось в полном, безусловном, безотчетном владении Гартунга, Ольги Петровны и Мышакова. Вся остальная часть дня 11 числа и вся ночь, все утро 12 до приезда к Гартунгу Николая Занфтлебена и Колпакова оставались в распоряжении подсудимых, и Гартунга в особенности, для того, чтобы беспрепятственно и спокойно совершить в имуществе все, что нужно, для чего совершилось и самое его принятие душеприказчиком... Времени, удобств, возможности было слишком достаточно, даже, пожалуй, больше, чем нужно, так что, когда 12 июня к Гартунгу явились Николай Занфтлебен и Колпаков, застали его и Алферова за разбором документов и потребовали, по крайней мере, опечатания этого имущества, им смело могли сдать и допустить до опечатания только то, что сдать и опечатать было угодно Гартунгу и Алферову. Но то ли это было, что Гартунг при помощи Ольги Петровны и Мышакова забрал на даче и привез к себе, проверить не было и нет возможности, и в этом оставалось бы только верить их чести, поверить им на слово, а можно ли так поступить, все настоящее дело служит тому лучшим и печальным доказательством. Из свидетельских показаний вы, вероятно, хорошо запомнили ту сцену 12 июня, когда Николай Занфтлебен и Колпаков явились к Гартунгу и потребовали у него сдачи увезенных документов. Вы помните, как, выслушав это требование, Гартунг немедленно с Алферовым удалился в другую комнату на консультацию, которая имела замечательный результат. Возвратившись, Гартунг объявил, что он считает ненужным передавать куда-либо для охранения имущество покойного, так как оно и у него, Гартунга, достаточно охранено. Со своей стороны, подтверждая это, Алферов для большей убедительности сослался на свою 25-летнюю опытность в таких делах, на свою долголетнюю практику – службу в старом сенате. Аргументы были веские, трудно было не убедиться ими, но наследники оказались недоверчивы и просили, по крайней мере, хоть опечатать документы. Не сразу согласились и на это, но Ланской, откуда-то появившийся, посоветовал исполнить такое скромное требование наследников. И вот документы были опечатаны, но, вероятно, только те, которые Гартунг и Алферов уже не могли не сдать Николаю Занфтлебену, будучи им застигнуты за теми документами, а далеко не все то, что было увезено с дачи. Скоро оказалось, что количество и состав 11 июня увезенного и количество и состав опечатанного 12 июня вовсе не тождественны между собой. Немало документального имущества было вовсе уничтожено, немало было скрыто от опечатания и не замедлило обнаружиться и появиться в разных местах и при разных обстоятельствах.
На другой день, 13 июня, наследники собрались в квартире Гартунга для производства описи вместе с судебным приставом Ухтомским, и тут-то только были приняты настоящие, законные охранительные меры, меры правильные, честные. Опись 13 числа отняла, по крайней мере, у подсудимых возможность воспользоваться всеми плодами их поступка, но и в эту опись, мы не должны забыть, вошло только то имущество, которое накануне было опечатано, а опечатано же было только то, что Гартунг и Алферов показали Николаю Занфтлебену и Колпакову. Но если все в действиях подсудимых было, как утверждают они, законно, правильно и чисто, если в деянии их можно видеть разве только одну легкую опрометчивость, то, очевидно, когда за увезенным имуществом явился уже не наследник, лицо частное, а представитель власти, судебный пристав, тогда не должно было быть и мысли о сопротивлении, об уклонении, а между тем что знаем мы о поведении подсудимых? Вы помните, что когда 13 июня к Гартунгу приехали наследники и судебный пристав, то первый встретивший их ответ был: «Генерала нет дома, генерал не принимает!» А он был дома, у него во внутренних комнатах скрывалась Ольга Петровна, был тут и Мышаков, а впоследствии оказалось, что тут был и Ланской. Когда наследники спросили, где Ольга Петровна и Ланской, лакей Гартунга сказал, что они ушли, а между тем висело их платье. Затем, когда г-жа Кунт вышла к воротам посмотреть, не едет ли брат ее Николай, то у ворот увидала Ланского, который как будто высматривал, по-видимому, кого-то поджидал. Ожидал он, как можно думать по последствиям, квартального надзирателя Ловягина. Странно, почти необъяснимо, чтобы не сказать больше, было поведение этого квартального надзирателя в квартире Гартунга 13 июня. Оценка образа действий Ловягина – не наше дело, но некоторые факты, связанные с его присутствием при описи, имеют для нас значение. Зачем понадобилось Гартунгу заблаговременно приглашать к себе Ловягина, посылать даже свой экипаж за ним? Зачем нужно было импонировать наследникам появлением полиции и принимать такие экстраординарные меры к охранению в квартире частного лица порядка, который никак не нарушался, а в присутствии судебного пристава вряд ли и мог быть нарушен? Судебный пристав объяснил Ловягину, что присутствие его совершенно неуместно, неудобно, что он может удалиться; несмотря на это, Ловягин счел возможным спокойно занять место при производстве описи и даже заняться разбором документов, самовольно, правда, но и самоуверенно: Ловягин брал в руки векселя, рассматривал их, перебирал, и решительность своих действий простер до того, что нашел возможным прямо выразить свое мнение о том, что те документы, на которых есть бланки покойного, должны быть признаны принадлежащими уже не покойному, а кому-либо другому. Никто квартального надзирателя об этом не спрашивал, и, казалось бы, ему менее, чем всякому другому, следовало представлять такие объяснения, но сильный полученным им приглашением, он считал нужным и возможным именно таким образом поступить. Сказав, что векселя с бланком принадлежат другому, Ловягин ушел и не успел еще, по собственному его выражению, «поселиться» в смежной комнате, так чтобы его пребывание осталось для наследников неизвестным, о чем его просил Гартунг, как из смежной комнаты появилась Ольга Петровна, и, обращаясь к судебному приставу, слово в слово повторяет заявление Ловягина: «Векселя с бланками мужа моего,– сказала она,– принадлежат не ему, а мне». Вот, между прочим, зачем нужен был квартальный надзиратель Ловягин! Чего-то боялись в этот день душеприказчики и вдова, чего-то ожидали для себя опасного и неприятного и спешили оградить себя не совсем уместным усердием услужливого представителя полицейской власти. Так незачем поступать людям, которые чужое имущество взяли честным путем, добросовестно, законно.
Таким образом истинный смысл увоза и всех событий 11 июня постепенно выясняется и обнаруживается похищение документов и скрытие их от описи. Все подсудимые в один голос говорят: 11 числа имущество было увезено, 12 Николай Занфтлебен с Колпаковым у Гартунга его опечатали, а 13 оно уже было описано судебным приставом, то есть было описано все, что осталось на даче покойного Занфтлебена после его смерти, в чем же можно обвинять их? Но в том-то и дело, что 13 июня в квартире было описано далеко не все, что осталось и было увезено, ибо после, при дальнейших описях, в разных местах были найдены и описаны документы при обстоятельствах, явно указывающих на сокрытие и похищение. Для того, чтобы убедиться в этом, вспомните хоть опись, произведенную 13 июня на даче в селе Леонове. Накануне, 12, становой пристав, приглашенный наследниками, опечатал все найденное им на даче имущество покойного. Между прочим, когда хотели опечатать комод Ольги Петровны, она просила не опечатывать его, потому что там будто хранятся одни только вещи, лично ей принадлежащие,– белье и платье. Становой пристав не нашел возможным согласиться на такую просьбу и все-таки опечатал этот комод. А на другой день, 13-го, когда судебный пристав Жаринов явился на дачу для описи имущества, и выяснилось, почему Ольге Петровне так не хотелось, чтобы комод был опечатан: в этом самом комоде, в котором, по ее словам, хранилось только одно ее белье и платье, был найден весьма аккуратно спрятанный исполнительный лист на князя Суворова и Барятинского в 6 тысяч рублей. Нужно было объяснить такое странное местонахождение этого документа, вот она и спешит объяснить это, говоря, будто исполнительный лист дан был ей мужем для возвращения Суворову как погашенный уплатой, что она бросила его в комод, но не исполнила поручения мужа вследствие забывчивости. Кроме явной неправдоподобности такого объяснения, нельзя не остановиться еще на следующем обстоятельстве: подсудимый Алферов на предварительном следствии, между прочим, показал, как это значится в обвинительном акте, что о существовании этого исполнительного листа ему, Алферову, было известно, что он знал то, что этот исполнительный лист оплачен и даже неоднократно говорил Гартунгу и Ольге Петровне, что его нужно возвратить князю Суворову, и что в ответ на это ему сказали, что все собираются возвратить. Спрашивается, когда же Алферову сделалось известно об этом исполнительном листе и когда он имел с подсудимым этот замечательный разговор? Ведь исполнительный лист 12 июня находился в комоде, а 13 июня уже он был описан судебным приставом и сдан в мировой съезд; 11, 12 или 13 утром Гартунг, Ольга Петровна и Алферов уже виделись, совещались о том, что делать с документами.








