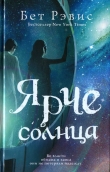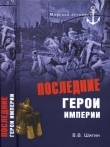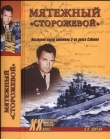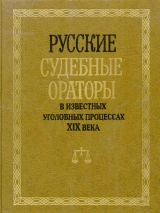
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 90 страниц)
Он должен был, видя в ее руках фальшивое духовное завещание, отговорить ее, пугать, упрашивать. Это была его обязанность как нотариуса, как порядочного человека. От него требовался не донос, а участие и твердо и горячо высказанное слово, совет; от него требовались объяснения с Бороздиным, которого он знал и которому он мог пригрозить за его подпись на завещании. Но ничего этого не сделано. Он взял завещание, поручил Титову его утверждение и взял на это 500 рублей. В этом, по его мнению, состояла дружеская услуга Седковой. Но из слов Титова мы знаем, что он получил за труды и на расходы только 315 рублей. Остальные 185 рублей остались у Лысенкова. И это была услуга и сочувствие! И в этом ли выражалось его бескорыстное и неохотное участие в деле укрепления за бедной вдовой состояния ее мужа? Лысенков отрицает и то, что он нуждался в деньгах, и то, что он способен был получить деньги за свои услуги. Но он нуждался, гг. присяжные! Привыкший к жизни широкой и нестесненной средствами, бывший гусар и блестящий нотариус, он, конечно, с трудом расстался бы с привычками роскоши и дорогого комфорта. Вы знаете, во что может обойтись в Петербурге жизнь молодому, полному сил и жизни человеку, который не пожелает особенно стеснять себя и примет дружески и предупредительно руку помощи разных ростовщиков. А у Лысенкова своего ничего не было. Нотариальный залог был дан ему отцом, который, быть может, видел в новом занятии сына избавление его от последствий прежней праздной жизни. Но эта жизнь не отставала, она протягивала свои руки за сыном и в нотариате и давала себя чувствовать на каждом шагу. К 18 мая прошлого года в местном участке скопилось на 10 тысяч рублей взысканий с Лысенкова, вся его мебель и вещи были описаны и «Полицейские Ведомости» уже известили о их продаже. В эту критическую минуту явился на помощь отец и дал 10 тысяч рублей под вексель, однако, на имя дочери. Продажа миновала, кредиторы были на время удовлетворены,– но не все, далеко не все. Загорский получил вместо 4 тысяч рублей 1 тысячу 500 рублей, Перентц – половину, другие кредиторы, здесь выслушанные, тоже получили половинное удовлетворение. Опасность новой описи и продажи была не уничтожена, а только отсрочена.
А между тем кредиторы подходили новыми рядами, расходы на контору были большие, жизнь надо было вести, и она велась с прежним блеском и видимым довольством, при заложенных шубах и отсроченных исполнительных листах. В этом отношении характеристична книжка чеков общества взаимного кредита и счет того же общества. С 6 июня по 24 августа внесено и взято около 11 тысяч 350 рублей; из взятых сумм, как видно по корешкам чеков, уплачено на пошлины по купчим Фохтса и Палкина около 5 тысяч рублей, около 800 рублей заплачено за квартиру, 875 рублей взято без указания предмета уплаты – следовательно, на свои расходы, а все остальное отдано разным лицам в уплату по векселям. Из слов самого Лысенкова вы знаете, что к деньгам, взятым на купчую Палкина с текущего счета, он должен был прибавить своих 800 рублей. Следовательно, и из взятых на себя 875 рублей 800 пошли на уплату долга, а только 75 рублей из 12 почти тысяч осталось нотариусу для него лично. Но такое состояние счетов ясно показывает, как стеснен человек, как тяжело ему приходится, как желательны, как важны, как неизбежно нужны ему деньги. Итак, Лысенков нуждался, а 185 рублей, присвоенные им, даже если верить вполне его показанию, из денег «доверчивой вдовы», указывают, насколько в нем, особливо при осаде со стороны кредиторов, можно предполагать отсутствия желания попользоваться при удобном случае и без особого труда идущими в руку деньгами. Но человек такого житейского типа, такого пошиба не может удовольствоваться 185 рублями, если можно получить больше. Эта сумма – капля в море долгов и претензий. Чтобы осушить и успокоить ее, необходимы иные, большие средства. Для того, чтобы удержаться от добычи их способами недозволенными, эксплуатацией легковерия одних, стесненного положения других необходим довольно твердый нравственный закал. С этой точки зрения мы имеем свидетельства о г. Лысенкове от трех лиц, знавших его не как нотариуса только. Одно – почтенного представителя нашего города Погребова. Обвинение питает столь глубокое уважение к этому свидетелю, что вполне и безусловно поверило бы ему, если бы он явился сюда заявить, что Лысенков не сделал подлога. Это поколебало бы все основы обвинения против Лысенкова. Но г. Погребов этого сделать не может и его доброе, любящее показание сводится к тому, что Лысенков вел себя всегда прилично и хорошо и не просил никогда денег у дяди своего. В последнем и нельзя сомневаться, познакомясь с личностью Лысенкова по делу. Просить – значит, унижать свое достоинство, обязываться, это можно сделать только в такой крайности, когда все правильные и неправильные источники получения средств будут исчерпаны.
Двое других свидетелей – Шелемпанский и Циллиакус. Мне почему-то не думается, чтобы уклончивое, обоюдоострое, недосказанное показание Шелемпанского во многом помогало Лысенкову; что же касается до Циллиакуса, то его показание связано с свидетелем Загорским, который, обижаясь и гневно относясь к вопросам, рассказал вам о каком-то векселе, данном юным аристократом на 6 тысяч рублей взамен 2 с половиной и носившем на себе имена Циллиакуса и Лысенкова. Не станем, впрочем, касаться истории этого, во всяком случае, странного векселя, для регулирования уплаты по которому понадобилось даже вмешательство канцелярии градоначальника... Едва ли вообще эти показания указывают на особую нравственную твердость г. Лысенкова. Для этой твердости большим испытанием должно было быть положение Седковой, которой нужен руководитель и от которой можно получить хорошие деньги. Повторяю, г. Лысенков не мог же, в самом деле, быть праздным свидетелем тому, что делалось ночью 1 июня в квартире Седкова. Он получил за свое содействие 6 тысяч рублей, говорит Седкова, да 1 тысячу рублей на Бороздина, не считая 8 тысяч рублей, полученных по возможности следствия и 2 с половиной – 3 тысячи на расходы по счету издержек на завещание. У ней не могло быть этих денег, этих 18 тысяч рублей, скажут нам. Отчего же не могло? Она получила с текущего счета в начале июня 31 тысячу рублей, затем, в течение лета, внесла обратно 23 тысячи рублей и при начале следствия успела с большой ловкостью взять все, что оставалось – 19 тысяч, следовательно, летом же она взяла из 23 тысяч еще 4 тысячи рублей. Таким образом, у ней было в течение июня, июля и августа 12 тысяч рублей. Но в доме, кроме того, оставались деньги – 25 тысяч рублей от Потехина, да другие суммы, быть может, даже выигрышные билеты в количестве 20, о которых она здесь говорила. Не забудьте, что был сундучок, тщательно наполненный и увязанный. Конечно, не «дневники» и не «путь к истинной жизни» были в нем, а ценности. Поэтому она могла иметь нужные для составителей деньги, тем более, что 8 тысяч рублей были ею даны уже после начала следствия, когда она получила и остальные 19 тысяч рублей.
Первая выдача в 6 тысяч была произведена, по словам Седковой, 1 июня. Так, 6 июня в приход счета общества взаимного кредита, введенного по взносам Лысенкова, значится 5 тысяч 610 рублей; эти деньги выручены за продажу бумаг Юнкеру, возражает Лысенков. Вот и два его счета на 5 тысяч 800 рублей. Но из каких денег приобретены эти бумаги? Из денег, данных отцом. Но ведь отец отдал дочерние деньги 17 мая только для спасения сына от настойчивых кредиторов, а не для покупки бумаг, немедленной продажи их и внесения на текущий счет.
Разве для этого брал Лысенков достояние сестер? Разве можно было вносить 5 тысяч 600 рублей на текущий счет, когда почти на двойную сумму есть неудовлетворенные кредиторы и шуба в закладе... И потом, что это за счеты. Один написан на имя Лысенкова, другой на имя «господина»... Где доказательства, что это были бумаги, действительно принадлежавшие Лысенкову, а не взятые им на комиссию? Ведь он не ограничивался одной строго нотариальной деятельностью, а занимался и другими операциями. История с векселем графа Нессельроде это показывает. Можно ли думать, что, бросив часть денег, полученных от отца, на растерзание кредиторам, Лысенков не отдал бы остальных денег сестрам, которых они достояние, а стал бы заниматься покупкой бумаг, когда у него за спиной взыскание и описи? Во всяком случае, чем же жил все лето Лысенков? Где указания на те суммы, которые ему были необходимы, чтобы вести широкую жизнь, чтобы содержать свою контору, которая стоила очень дорого. Его расходы превышали доходы по конторе, иначе не было бы долгов. Он говорил, что не все вносил на текущий счет – может быть, но тогда это не опровержение слов Седковой; если же вносил все, то где же доказательство законности приобретения 5 тысяч 600 рублей, внесенных 6 июня, после составления духовного завещания, несмотря на то, что деньги эти были по его указанию получены им 28 или 30 мая.
Таким образом, оправдания Лысенкова распадаются. Он запутался в делах, кидался на разные способы приобретения, был стеснен кредиторами, не предвидел средств прожить лето, и, наконец, злая судьба послала ему Седкову. Совершить ей нотариальное завещание было опасно, он сковывал бы себя неразрывно с ее преступлением. Гораздо безопасней домашнее. Он, пользуясь своим авторитетом и знанием дела, может без труда это сделать. Рукоприкладчик и переписчик – с виду люди добрые и простые. Последнему продиктуется завещание. Свидетели тоже найдутся, подходящих людей, падких на наживу и прижатых обстоятельствами, всегда можно найти; один даже под рукою, Бороздин. Надо только, чтобы они понимали, что делают, и тогда они друг друга укрепят до конца утверждения и будут охранять после него, зная, что неосторожность, неловкость одного повлечет за собою ответственность всех. Они будут наблюдать друг за другом. Важно только сцепить их, как звенья, в одну преступную связь. Для этого личного участия руководителя не нужно, нужен только авторитет, апломб, а не руки. Следа участия не останется, и даже когда они, паче чаяния, попадутся и станут ссылаться, то можно будет сказать: «это люди, которые тонут и хватаются за меня, думая, что моя невиновность, которая очевидна, ибо где же материальные следы моего участия,– спасает и их. Они клевещут на меня, чтобы купить себе свободу. Где моя подпись? Разве я удостоверял, что Седков просил подписаться, разве я подписался за него?» Но все-таки даже такого, так сказать, духовного участия, нельзя принять даром, из одного расположения. Опасность все-таки существует. Отсюда понятно требование 6 тысяч рублей и еще 8 тысяч, когда опасность, действительно, наступила, когда началось следствие.
Если бы Лысенков не участвовал в деле, то он не продолжал бы своих отношений с теми, кто в нем участвовал. Он не удалялся от Седковой, зная, что она может попасть не нынче-завтра на скамью подсудимых. Он не прогнал Бороздина, который в его глазах должен бы стать человеком, негодным для серьезных и чистых деловых отношений. Между тем он ездит к Седковой, пишет ей письма, дружит с Бороздиным, оказывается в вокзале царскосельской железной дороги, когда нужно уломать Киткина, хранит у себя завещание и предварительный проект, дает письменные советы Петлину, совершает отсрочку Макаровой для выдачи сундучка. Он не спускается до сношений с Ириною Беляевой, но к нему обращаются все участники дела, через него сначала просят они денег у Седковой, от него получают свой пароль и лозунг, покуда один из них, Киткин, не вытерпев по молодости лет, не рассказывает следствию «все как было». Он обдумывает, распоряжается, диктует; он же требует от Седковой заслуженных денег и, соболезнуя о корыстолюбии и склонности к доносам Бороздина, берет для него 1 тысячу рублей и советует уплатить ему за молчание другую; он, наконец, представляет счет пошлинам свыше 2 тысяч рублей – тем пошлинам, которые исчислены в определении суда в 29 рублей. Правда, свидетели не дети и понимали, что делали, но нельзя, однако, отрицать, что присутствие нотариуса действует успокаивающим образом, что Бороздин, никогда не знавший Седковой, никак не появился бы на завещании ее мужа, если бы между ними не был посредником Лысенков, что завещание, сочиненное самою Седковой или Тенисом, никогда не было бы так безупречно с формальной стороны, что утверждено судом, несмотря на спор о подлоге, если бы по нему не прошла опытная в нотариальных делах рука.
Перехожу к Бороздину. Виновность его очевидна из его подписи. Он, человек опытный и по летам и по службе, не мог не знать, что утверждать на завещании то, чего он не видел,– преступно, потому что несколько таких подписей могут содействовать неправому приобретению имущества. Он знал, что то, что он пишет, есть ложь, ложь официальная и требуемая от него с определенной целью. В его лета не относятся к подобным вещам легкомысленно. Он объясняет свой поступок благодарностью к Лысенкову. Но за что эта благодарность? Он вел свои дела, имел доверенности и поручения, был человеком развитым и юридически образованным. Быть может, Лысенков и поручал ему исполнять какие-нибудь письменные или судебные работы, быть может даже, он был при конторе Лысенкова на всякий случай, когда бывают необходимы свидетели самоличности, чем-нибудь вроде облагороженного иверского свидетеля, но во всяком случае, вознаграждение, которое он получал от Лысенкова, получалось им не даром, а за действительный труд, совершаемый с знанием дела и с несомненной представительностью. Тут был обмен услуг, продажа труда, и следовательно, об особой благодарности не могло быть и речи. А для того, чтобы совершить из благодарности не только лживый поступок, но даже и преступление, необходимо, чтобы благодарный был облагодетельствован так, что ему не жаль затем ни чести, ни совести, лишь бы видел благодетель его признательность. Но где признаки таких отношений между Лысенковым и Бороздиным? Их нет, поэтому он сделал подложное свидетельство из других поводов. Но эти другие поводы, по логике вещей, могут быть только корыстью. Бороздин привык жить с известными удобствами человека, принадлежащего к обществу. Он занимал летом, по выходе из долгового отделения, комнату, за которую платил 120 рублей в месяц, в то самое время, как закладывал иногда свое платье и часы. У него большая семья – шесть человек детей. Привычки к внешней представительности должны быть удовлетворяемы, семью надо содержать, а занятий постоянных нет. Пресмыкаться в приемных у нотариусов, ожидая зова в качестве свидетеля, унизительно, невесело, да и не особенно прибыльно. А деньги нужны, тем более нужны, что, как вы слышали от свидетеля Багговута, был вексель, который необходимо было выкупить во избежание неприятностей. Он и был выкуплен или иным образом погашен им. Тут-то кстати явилось предложение Лысенкова дать подпись на завещании Седкова.
Бороздин объясняет, что он только раз и просил денег от Седковой, 10 или 15 рублей, да и тех она не дала. Но трудно предположить, чтобы он, совершив ясное для него по своим последствиям дело, ограничился только такою скромною просьбою. Притом, мы имеем два конца в цепи его требований. У нас есть записочка Седковой от 1 июня, где написано, что дано Бороздину 500 рублей и Лысенкову 500 рублей. Седкова объясняет, что думала, что так деньги эти – тысяча рублей – будут между ними разделены. Записку же она писала, конечно, не в ожидании следствия. Это начало выдачи. А конец – в окружном суде. Седкова говорит, что Бороздин отказался явиться в суд для утверждения завещания? и он сам это подтверждает. Толкуют только причины этого они разно. Он, по его словам, хотел посмотреть, как пройдет завещание на суде, чтобы подтвердить свою подпись в суде уже вне опасности споров против подлинности завещания. 5 июня был заявлен Алексеем Седковым спор о подлоге. Чего же больше? Оставалось отступиться от этого темного дела, в котором чувство благодарности могло привести на скамью подсудимых. Но нет! Бороздин 19 июня является в суд и своим торжественным удостоверением придает окончательную силу завещанию.
Очевидно, он ждал чего-то другого. Это другое, по словам Седковой, были деньги. Из показания Ольги Балагур мы знаем, что он их получил. Она видела, как он пересчитывал сотенные бумажки в конверте и получал вместе с ними вексель и свои оставленные в заклад Седковой аттестаты. Балагур прямо говорит, что присутствовала при этом мелочном и исполненном взаимного недоверия торге свидетельскою совестью. Подтверждается ее показание векселем на имя Карганова в 500 рублей. Он не отрицает его получения, но говорит, что вексель этот ничего не стоил, ибо был дан на два года. Но зачем тогда было его брать, и разве нельзя его дисконтировать? Бороздин понимал важность своего показания и решился выжать из Седковой все, что можно. В то время, когда другие свидетели послушно шли свидетельствовать в суд, он уперся и получил деньги. В середине между получениями, после совершения завещания и при утверждении его в суде, есть, по показанию Седковой, еще одно – недонос о подлоге. Она говорит, что он явился к ней после предупреждения ее Лысенковым и читал какой-то протокол, который грозился отправить или отнести к прокурору. Стали торговаться. Сошлись на тысяче рублей. Вы можете ей верить или нет, но мне кажется, что крайние звенья цепи, полученные Бороздиным, делают и это получение правдоподобным. Стоит припомнить письмо Петлина: «Примите благой совет, дайте Бороздину просимое», стоит припомнить ночное странствие Петлина с Ириною Беляевой к памятнику Екатерины, будто бы за тем, чтобы дать Бороздину возможность узнать, действительно ли завещание было написано после смерти Седкова, как будто этого нельзя более спросить у Седковой и самого Петлина. До утверждения завещания Бороздин ничем бы не рисковал: не являясь в суд, он всегда мог бы сослаться на то, что был введен в заблуждение. После утверждения донос уже немыслим – это будет самообвинение. Поэтому самое удобное время для угрозы доносом между писаньем завещания и рассмотрением его в суде. Что касается до скромной просьбы о присылке 10—15 рублей, то размер ее объясняется, по моему мнению, тем, что все, что можно было получить с Седковой, было уже получено, и что она писалась в то время, когда после заседания суда нельзя уже было угрожать и упорствовать. Этим объясняется и категорический отказ Седковой, и вызванная раздражением приписка Бороздина: «Отказывая, вы меня станете дразнить, а я, право, вам добра желаю...» И подсудимый Петлин не может отговариваться незнанием того, что он делал, давлением на него авторитета закона в лице нотариуса и влиянием «плачущей женщины». Он – человек, испытавший жизнь, и в боях бывавший, и домами управлявший. Его зовут к совершенно незнакомым людям, держат целый вечер вместе с товарищем, затем увольняют за смертью хозяина, а потом опять посылают и предлагают подписать очевидную, явную ложь, предлагают прописать в выражениях, не допускающих сомнений, будто бы он видел и слышал то, чего не было...
Все это делается с незнакомым человеком, которого потом тревожат явкою в суд и опять заставляют лгать. Но разве возможно это в действительности? Разве человек, незаинтересованный в подделке завещания, а действительно чужой, не сказал бы самому себе, что между «авторитетом закона» и лжесвидетельством отношения самые враждебные, которых никакой нотариус изменить не может; не сказал бы окружающим: «Позвольте, однако, вы меня, продержав весь вечер, уговариваете подписать завещание, потому будто бы, что этого желал покойный. Но я его не знал, я вас не знаю, я не могу вам верить, да и за кого, наконец, вы меня принимаете с вашими предложениями?». Ничуть не бывало: он прямо подписывает и затем уже становится советником Седковой, входит в ее интересы, пишет ей письма, советует беседовать интимно с прислугою и дело, к которому отнесся с таким доверием, уже называет «известным вам милым делом». Это ли положение человека, случайно и по-военному прямодушно попавшего в милое дело? Да и случайно ли попал он в свидетели? Он жил на одной лестнице с Седковыми и был знаком с «девицею Аришею», как ее описывал Виноградов. Свойства этого знакомства понятны, и не для обмена же мыслью оно было заведено. Ирина могла быть связующим звеном между Седковой и Петлиным, нравственную крепость которого барыня, конечно, могла понять из неизбежной болтовни служанки. А людей она видела столько, что могла научиться их разбирать по довольно тонким чертам. Этим предварительным заочным знакомством объясняется приглашение Петлина. Действовал ли он бескорыстно, указывают 200 рублей, полученные им в день утверждения завещания, и записка с просьбою о 100 рублях с прибавлением «дадите – жалеть не будете». Свои последующие отношения к Седковой он объясняет тем, что был под давлением Ирины. Но вы ее видели, господа присяжные заседатели. Это личность, быть может, готовая урвать ушко из общей добычи, но во всяком случае, без собственного почина. И ужели Петлин мог быть в ее руках послушным орудием? Ужели она его, как малое дитя, без воли и желания с его стороны водила ночью к памятнику Екатерины для заговоров с Бороздиным, водила к помощнику пристава Станкевичу, заставляла писать письма о «милом деле» и диктовать своей жене донос против себя самого. Это не в порядке вещей. А между тем все это было. Кто же был в этом старший, кто действовал, кто распоряжался?
Вы не затруднитесь сказать, что это был Петлин, и что Ирина с своими сведениями кое о чем была послушным и прибыльным орудием в его руках. Через нее он мог действовать угрозами и постоянным томлением на Седкову, через нее, живя в одном доме, иметь постоянный надзор за ее барынею. Там, где Бороздин действовал один, он мог действовать через Ирину; когда угроза доносом со стороны Бороздина удалась так хорошо, присылается и Беляева с требованием денег. Но характер у Седковой неровный, да и измучили ее, должно быть, очень – она вспылила и выгнала Арину вон. Тогда вопрос о доносе стал иначе. Он был написан. Припомните, однако, что он пишется под диктовку Петлина его женою в присутствии Тениса и Медведева. Они пойдут и скажут Седковой. Она испугается и пришлет деньги, а не испугается их рассказа, так испугается записки Станкевича, который ей пишет: «Ко мне поступил донос на вас, но прежде, чем дать ему ход, я хотел бы поговорить с вами». Действия Станкевича не подлежат нашему обсуждению, но есть основание предположить, что он не отнесся серьезно к доносу Ирины, приходившей с Петлиным, потому что не послал его в сыскную полицию или не приступил сам к дознанию, а доложил о нем приставу только после жалобы Седковой на вызов ее в участок.
Быть может, Петлин, который был знаком в участке, убедил его в неосновательности доноса, который и сам по себе, никем не подписанный, содержал лишь голословное заявление о подлоге чеков и о вывозе имущества, ни словом не упоминая о подлоге завещания. Станкевич счел только за нужное вызвать Седкову, чтобы спросить у ней, где живет Ирина, хотя, как кажется, это удобнее было бы сделать по справочным листкам участка и сведениям адресного стола. Очевидно, что донос безымянный и неосновательный, даже с точки зрения местного полицейского чиновника, не должен был получить дальнейшего движения, и весь результат его для заинтересованных лиц состоял лишь в получении Седковой повестки из полиции. Повестка, однако, произвела совершенно неожиданное для Петлина действие. Седкова пошла жаловаться. Вымогательство, ловко задуманное Петлиным, который, соорудив донос, стоял все-таки от него в стороне, не удалось, но зато следствие, возникшее из этого случая, как мне кажется, удалось вполне. Корыстные цели Петлина очевидны. Его записка: «Дайте Б. просимое» явно указывает, что он был заинтересован в том, чтобы получить свой гонорар. Он отрицает всякие сношения с Седковой. Но как объяснить историю с векселем в 5 тысяч рублей, который он разорвал после того, как он был ею объявлен подложным. Если бы он был получен за действительные услуги, как деньги, а не составлял орудия или плода нового вымогательства, рассчитанного против Седковой, то он не расстался бы с ним так легко. Ведь это все-таки была ценность в несколько тысяч. Таковы действия Петлина, подлежащие вашей оценке.
Киткин после двух допросов довольно откровенно рассказал все следствию. Его сознание, как электрический толчок, сообщилось неизбежно и неотвратимо и всем другим членам преступного кружка. Сознались по-своему и они, Киткину есть поэтому основание верить. Но оправдывать его нельзя. Он отлично понимал, что делал – недаром он так часто напоминает Седковой, что ему «все остается известным». Когда он был привлечен к подписи, он стоял в положении человека, находящегося отчасти в руках Седковой. У ней был против него весьма зловредный вексель. Впереди неприветно виднелось долговое отделение. Но он колебался, совесть в нем говорила. В эти минуты он заслуживает сочувствия. Но колебания были недолги. Он сообразил выгоды своего нового положения и, приняв предложение Седковой, вырвав из ее рук ненавистный вексель, сразу обменялся с нею ролями и перешел в наступательное положение. Он грозит Седковой, еще не подписавши даже завещания. «Знайте, что мне все остается известным»,– пишет он. «Если вы захотите иначе устроить это дело, то ведь мне все известно»,– пишет он в другой раз и прибавляет «маленькую просьбу – прислать сто или двести рублей». Очевидно, что с самого начала он понимал, что сделал, и старался извлечь из этого возможную выгоду. Таков Киткин в этом деле.
Задача моя окончена. Мелкие подробности, опущенные мною, восстановит ваша совокупная память. Дело это очень печальное, и все его участники, за исключением двух, заслуживают справедливого осуждения. Ни в их развитии, ни в их обстановке, ни в их силах и знаниях нет данных для их оправдания или даже помилования. Седкова не наивное дитя, не ведавшая, что творила. Она здесь обнаруживает большую находчивость и знание житейских дел. Ее поступок с векселем Киткина весьма характеристичен. Она трезво смотрит на людей, умеет за них, при случае, взяться. С момента смерти мужа она явилась лицом, отдавшимся вполне желанию завладеть тем, что по закону принадлежало не ей одной. Готовность была,– не было умения приняться за дело. Слово осуждения одно может заставить ее одуматься и начать иначе оценивать свои поступки. Оно будет тяжело, но будет справедливо.
Бороздин заслуживает строгого осуждения. Его образование и прошлая служба дают ему право искать себе занятий более достойных порядочного человека, чем те, за которые он попал на скамью подсудимых. Россия не так богата образованными и сведущими людьми, чтобы им в случае бедствий материальных не оставалось иного выхода, кроме преступления. Ссылка его на семью, на детей есть косвенное указание на необходимость оправдания. Но такая ссылка понятна в несчастном поденщике, в рабочем, которому и жизнь, и развитие создали самый узкий, безвыходный круг скудно оплачиваемой и необеспеченной деятельности. Но при общественном положении Бороздина, его несчастные дети только могли заставить его строже относиться к своим действиям. Ссылаясь на них в свое оправдание, он прибегает к способу тех отцов, которые, не сумев оставить детям достойного имени, стараются сделать их в глазах суда еще и нравственными подстрекателями на свои сделки с совестью. Наконец, Бороздин больше, чем кто-либо из подсудимых, должен был сознавать вред настоящего преступления, колеблющего законы, особенно нуждающиеся в охране со стороны общества, потому что ими ограждается воля человека, который уже не встанет из гроба на защиту своих прав... Он забыл то, что сам еще недавно был призван к охране законов в высоком звании судьи. Всякое положение налагает известные обязанности. Кто был судьею, кто осуждал и наказывал сам, кто отправлял правосудие, тот обязан особенно строго относиться к себе, хотя бы он и оставил свое звание. Он должен высоко ставить и охранять свое достоинство и беречь память о нем. Бывший судья, который делает подлоги, учитель, который развращает нравственность детей, священник, который кощунствует,– несравненно виновнее, чем те, кто совершает дурное дело, выйдя из безличных рядов толпы. Вы тесно слиты с судом, гг. присяжные, вы являетесь в настоящее время тоже лицами судебного ведомства, и вы отнесетесь справедливо к бывшему члену этого ведомства, который спустился до того, что берет деньги и за то, чтобы обманывать правосудие, и за то, чтобы не быть предателем своих сообщников. Не менее виновен и Лысенков. У него даже нет оправданий, которые есть у Бороздина. Ему были открыты пути честно выйти из стесненного положения; вокруг него были люди, готовые помочь... Он действовал в настоящем деле, как злой дух. Им вовлечены, им связаны все в этом деле. Не явись он с своею опытностью и с желанием поживиться на счет покойного Седкова, жена последнего так и осталась бы при желании, но без способов совершить завещание. Он нарушил и свои гражданские обязанности, и свои нравственные обязанности, забывая, что закон, вверяя ему звание нотариуса, доверял ему и приглашал других к этому доверию. Есть деятельности, где трудно отличить честного человека от должности его, и в глазах большинства нотариус, составляющий домашний подлог, все-таки подрывает доверие к учреждению, к которому он принадлежит.
Виновность Петлина и Киткина очевидны. Вы отнесетесь к ней с справедливым порицанием. Очевидна и виновность Тениса и Медведева. Но, господа присяжные, в действиях Тениса столько машинального, столько добродушного и незлобивого в поступках Медведева, так мало развития можно требовать от этих лиц, всю жизнь проведших в сражениях на рапирах, так мало корысти в их действиях, что, по моему мнению, они заслуживают полнейшего снисхождения. И если вы дадите им снисхождение полное, такое полное, что оно почти исключает ответственность, то вы не поступите вопреки справедливости.
Присяжный поверенный Бардовский (поверенный гражданского истца). Доверитель его – родной брат покойного; они разошлись в 1866 году; А. Е. Седков уехал в Бессарабию. Братья переписывались между собою; покойный Михаил бывал у Алексея, но Алексей не имел точного понятия о состоянии своего брата; до него доходили слухи, что состояние это было порядочное. Весною прошлого года Алексей собрался навестить брата, но не успел увидеться с ним; он получил известие, что брат скончался. Он приехал сюда, чтобы узнать, что осталось после брата и где та небольшая сумма денег, принадлежавших матери, которая находилась у покойного. Вдова заявила, что муж оставил все имущество ей по духовному завещанию и ей же поручил воспитание племянницы. Это завещание заставило подозревать действительность выраженной в нем воли покойного, потому что в письме к бабушке, писанном в феврале 1874 года покойным, он выражал неудовольствие на свою жену, говорил, что ему тяжело жить. Кроме того, Алексею было известно, что брат его очень любил племянницу и, следовательно, не мог желать, чтобы она попала в руки той женщины, которую он считал недостойною. Собравши справки, он еще более имел оснований к подозрению и вследствие этого заявил спор о подлоге. Результат этого заявления доказал, что завещание и чеки были подложны. Подлог этот не отрицают подсудимые, в том числе и госпожа Седкова, но оправдываются тем, во-первых, что отказанное имущество принадлежало ей, и во-вторых, что в завещании была выражена истинная воля покойного. Что касается до 1 обстоятельства, то А. Седков не заявлял и не заявляет, чтобы все состояние, принадлежавшее супругам, было признано его собственностью. Он – человек небогатый и желает получить только то, что принадлежит ему по закону. Для этого нужно знать, в чем заключается имущество покойного и жены его. Но г-жа Седкова лишила возможности определить имущество, которое составляло собственность покойного. Ему еще не успели закрыть глаза, как началось расхищение имущества: цельные вещи и документы были отвезены к Макаровой, написаны подложные чеки и по ним получена с текущего счета 31 тысяча рублей, остались векселя и исполнительные листы, которые похитить нельзя, потому что они были писаны на его имя. Но отыскали способ, которым хотели достичь присвоения и этих ценностей. Способ этот заключался в составлении духовного завещания. Сама г-жа Седкова определяет принадлежащее ей состояние в 20 тысяч—25 тысяч рублей, а оставшееся после покойного – с лишком в 200 тысяч рублей. Но свидетели не подтвердили, что г-же Седковой принадлежало 20 тысяч рублей. Несомненно только то, что ей принадлежал вексель в 5 тысяч рублей, который был оплачен только в 1868 году. Ссылались на то, что до женитьбы покойный был беден, жил в одной комнате и т. д. Но после женитьбы он жил не роскошно; супруги занимали квартиру только в 4 комнаты; обед брали из кухмистерской; обстановку квартиры имели самую небогатую. Все это объясняется тем, что покойный был человек скупой и копил деньги. Что касается другого оправдания – истинной воли завещателя, то опровержением в этом отношении служит письмо покойного к бабушке, из которого видно, что незадолго до смерти покойный жаловался на жену. В заключение г. Бардовский обратил внимание присяжных на то, что они не призваны разрешить вопрос, кому принадлежало имущество, мужу или жене, и гражданский истец не заявляет такого требования. Вопрос этот будет разрешен впоследствии, а теперь он просит признать духовное завещание подложным и признать, что госпожа Седкова получила из конторы Баймакова деньги по подложным чекам.