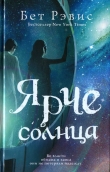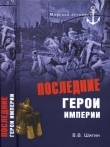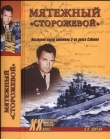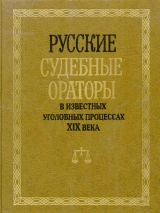
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 64 (всего у книги 90 страниц)
Теперь я перехожу к существеннейшей части моей защиты, касающейся того, знал ли, мог ли знать князь Оболенский о том, что реализует вкладные билеты подложные, преступные.
Можно доказывать всякие факты, но есть такие обстоятельства, которые сами по себе так общеизвестны, что не требуют доказательств. К числу таковых относится и тот факт, что вкладные билеты повсеместно в Петербурге выдавались под векселя и реализовались, и никто никогда не возбуждал до сего времени вопроса об их подложности. Я обратил внимание ваше на этот предмет потому, что вам надо ставить свой приговор о виновности человека в зависимости от того, могут ли быть вообще вкладные билеты признаны подложными или нет. Вам в первый раз приходится слышать подобное обвинение, и в нашей практике первый раз подобный вопрос доходит до суда. Каким же образом обвиняемый мог знать, что он участник подлога, когда вокруг него делали открыто то же, что и он, и никто никогда не возбуждал вопроса не только о преступности, но даже о предосудительности подобного рода действия. Каким образом частный человек мог знать, что делается в банке? Закон не мог руководить его действиями. Прямого закона на этот случай нет, и вам в первый раз придется разрешать вопрос о виновности князя Оболенского не на основании точного закона, а по сомнительной аналогии. Мне придется сказать, однако, несколько слов о тех доказательствах, имеющихся в деле, которые касаются вопроса вкладных билетов под векселя и оправдывают князя Оболенского в отношении предположения, что он мог знать, что совершает преступление. Я могу сказать, на основании свидетельских показаний Баранова и других, что то присутственное место, которое находится всего ближе к банковскому делу,– кредитная канцелярия и министр финансов – не только знали, но допускали выдачу вкладных билетов под учет векселей. Если это не так, то почему же обвинение не спросило министра финансов? Этот запрос мог быть сделан официальным путем, вопрос этот был бы дебатирован в министерстве и нам не пришлось бы разбирать его теперь. Мы знаем, что Боровичская дорога получила официальное разрешение представить залог на сумму нескольких сот тысяч вкладными билетами Кронштадтского банка. Мы знаем также об официальном разрешении кредитной канцелярией представления вкладных билетов на 700 тысяч Самсониевскому заводу. Факт этот свидетельствует о знании кредитной канцелярией выпуска вкладных билетов под векселя, ибо зачем испрашивать разрешения на представление вкладных билетов, когда у лиц, нуждавшихся в залогах, были наличные деньги. Наконец, и покупка Государственным банком в 1877 г. вкладных билетов Кронштадтского банка по 70 коп. за рубль факт также знаменательный. Какие же улики в знании о подложности билетов? Против всех наших объяснений обвинение ставит письмо от 13 июня 1878 г., в котором князь Оболенский пишет Шеньяну: «Обещаю реализовать вкладные билеты без огласки». В этом обещании делать тайно обвинение видит сознание преступности действия. Мне кажется, что тут нет никакой улики. Если продаются какие-нибудь ценные бумаги, то это по большей части делается без огласки. Для того чтобы реализовать бумаги выгодно, огласка всегда бесполезна, всегда излишня. Если становится известным, что выпущено много бумаг на продажу, то ценность их всегда падает. Общая сумма вкладных билетов, которые были выпущены Кронштадтским банком, которые фигурировали в разных делах, была велика, и огласка могла понизить кредит банка. Таково единственное письмо, в котором обвинение желало найти улику в том, что князь Оболенский знал, что совершает незаконное дело. Но мне кажется, что, взяв на миллионы вкладных билетов, трудно скрыть эту операцию. Оболенский никогда не скрывал того, что делает, и не имел причины скрывать этого.
Затем ему ставится в улику еще то, что он в депешах называет вкладные билеты «зелеными», «красными»; они были такого цвета, следовательно, в этих названиях нельзя видеть что-нибудь особенное, точно так же, как нельзя видеть что-нибудь преступное в названии трехрублевых кредитных билетов зелеными и десятирублевых красненькими бумажками. Князь Оболенский не мог знать о критическом положении дел Кронштадтского банка до самого конца 1876 г. Ведь и Государственный банк в 1876 и 1877 гг. оказал кредит в 500 или 600 тысяч рублей Кронштадтскому банку. Если это государственное учреждение считало себя вправе оказывать кредит – а кредит давался Кронштадтскому банку под учет представленных им векселей в форме ссуды, как же мог князь Оболенский, частный человек, знать, что это учреждение в дурном положении, тем более, что когда он вступил в сношения с Кронштадтским банком, он имел право и основание считать свое дело, т. е. подряд сухарей, выгодным, да таковым и считали его члены правления, которые рассчитывали, что Шеньян наживется на подряде и поправит дела банка. Я полагаю, что вы не можете признать, что князь Оболенский имел представление о преступности действий, которые совершал реализацией билетов. Если вы признали бы реализацию билетов под учет векселей сделкой, не дозволенной законом, то не можете признать, что кн. Оболенский с достоверностью знал о незаконности такого рода действий и, следовательно, совершил преступление.
Мне остается сказать еще о гражданском иске. Здесь представлено много исков, вытекающих из разных оснований. Главным образом, предъявлены иски по вкладным билетам, составляющим предмет обвинения. Прежде всего следует отметить, что главный истец – конкурсное управление Кронштадтского банка – признавало и признает подлежащим удовлетворению по соразмерности из массы все вкладные билеты, выданные под учет векселей и проведенные по книгам банка, так что взгляд конкурсного управления находится в противоречии с обвинением. Герард получил из конкурса свой вексель обратно, представив вкладной билет, так же делали Баранов и Шапиро, делали и другие. Представитель Черногории предъявляет здесь иск на 7 билетов. Из них 2 признаны конкурсным управлением и отнесены к 1-му роду 2-му разряду, один опровергается как безвалютный. Такова одна часть гражданских истцов, представивших такие юридические основания иска, которые расходятся с обвинением. Что же касается другой части гражданских истцов, то они касательства к князю Оболенскому иметь не могут, так как относятся к растрате вкладов на хранение, и князю Оболенскому не может быть поставлено даже в нравственную, не только в юридическую, вину, что он принимал косвенное участие в расхищении Кронштадтского банка, потому что в то время, когда он познакомился с банком, в нем почти ничего не было и банк рассчитывал поправиться на средства князя Оболенского. Это признается в обвинительном акте.
В копии обвинительного акта, выданной Оболенскому, сказано: в 1878 г. банк существовал растратой вкладных билетов. Я, признаюсь, не мог признать правильности такого юридического определения, как «растрата вкладных билетов», которые признаются обвинением «подложными». Но дело в том, что для меня важно признание обвинением отсутствия в кассе банка каких-либо наличных денег с 1876 г. Это доказывает только то, что деятели Кронштадтского банка ничего, кроме убытков, от всех своих дел не имели и что им нужно было чем-нибудь восполнить свои недочеты, а восполняли они эти убытки из дел князя Оболенского, от которого это скрывали до тех пор, пока было возможно скрывать.
Что касается главного истца, главного противника князя Оболенского – поверенного конкурсного управления Кронштадтского банка, то я должен сказать, что его выгода действительно находится в прямой зависимости от признания подложными вкладных билетов. Это разом сократит претензии на 2 с половиной миллиона по вкладным билетам, которые конкурс считает, по всей вероятности, рубль за рубль, потому что иначе не могло быть несостоятельности князя Оболенского на 5 миллионов рублей. Можно сказать: зачем это так? Но выгоды конкурса еще недостаточная причина, чтобы гражданское дело превращать в уголовное. Разделаться в один раз со всеми вкладными билетами, признав их подложными здесь, на суде уголовном, может быть, очень приятно и удобно для конкурса, но из этого не следует, чтобы спор о действительности вкладных билетов в порядке уголовном, который в настоящее время предъявляет конкурсное управление, представлялся правильным и законным. Спор Оболенского с конкурсным управлением по вкладным билетам, да и вообще все претензии частных лиц к конкурсному управлению должны бы были быть разобраны в суде гражданском. Там настоящее их место. Там эти споры и разбирались до сих пор. Вы слышали от свидетелей и видели из документов, что конкурс предъявил на 650 тысяч рублей векселей к князю Оболенскому. Векселя эти были выданы Оболенским взамен вкладных билетов. И в коммерческом суде, и в сенате производились дела между Оболенским и конкурсом банка. Оболенский просил только о зачете вкладных билетов за векселя. Конкурс спорил против этой просьбы, основываясь на том, что вкладные билеты были неправильно проведены по книгам и не соответствовали векселям. Дела эти производились и в коммерческом суде, и сенате и были решены в пользу конкурса. Но во всех этих спорных делах ни в коммерческом суде, ни в сенате не говорилось о подлоге. Взгляд конкурса был, следовательно, соблюден и без уголовного дела. Почему же в таком порядке не могут быть разъяснены и другие дела по вкладным билетам? Сама претензия конкурса в настоящем виде представляется не совсем простою и ясною.
Несомненно видно из дела, что из средств князя Оболенского было уплачено до 400 тысяч рублей наличными Кронштадтскому банку за предъявленные билеты, но между тем эти деньги не принимаются в расчет конкурсом; не принимаются и другие 350 тысяч, которые уплачены Оболенским в разные провинциальные учреждения за счет банка. Конкурс получил от интендантства за счет князя Оболенского до 30 тысяч рублей – они не принимаются в расчет. Все это убытки невозвратимые для Оболенского. Наконец, следует вспомнить и о мировой сделке, которая проектировалась между конкурсом и Оболенским, и о тех полутора миллионах, которые выкуплены Оболенским и лежат здесь на столе. Конкурс согласился возвратить все векселя Оболенскому и получил с него полтора миллиона выкупленных вкладных билетов, но он требовал еще 30 тысяч рублей наличными из интендантства. Оболенский требовал наличные деньги себе, из-за этого пункта разошлась и вся мировая. Если бы она была заключена, не было бы дела, а не состоялась она из-за спора о 30 тысячах рублей, которые, тем не менее, конкурс получил и не ставит в счет Оболенскому, а требует теперь с него по векселям 600 тысяч рублей и не признает вкладных билетов. При таком положении взаимных счетов и расчетов трудно признать в деле характер уголовный.
В конце концов нельзя не припомнить слов Шеньяна, сказанных здесь на суде: «Если бы князь Оболенский возвратил билеты и выдал векселя, ну, тогда я бы остался ему должен 120 тысяч рублей или больше». Я не настаиваю, однако, на том, кто кому должен, потому что в настоящем судопроизводственном порядке решительно невозможно выяснить те расчеты, которые касаются большого дела, миллионов не призрачных, но действительно полученных из интендантства Шеньяном. Были ли они сполна истрачены на сухарное дело – нам неизвестно. Невольно все-таки приходит на память экспертиза, свидетельствующая о том, что 720 тысяч рублей наличных денег были уплачены Шеньяном банку в 1878—1879 гг. Я повторяю, что по отношению к вкладным билетам князь Оболенский действовал добросовестно по отношению к себе, он думал, что делал вещь законную. Прокурорский надзор сначала ставил ему в вину, что векселя количественно недостаточно обеспечивали вкладные билеты; князь Оболенский старался доказать противное и доказал это; потом вдруг обвинение изменилось, ему стали говорить, что хотя векселей и было бы достаточно, но подлог все-таки существует, независимо от количества векселей. Чего держаться, я теперь уже не знаю. В настоящее время нами было доказано, что векселей было выдано на сумму достаточную, что были даны и бланки, найденные в банке на 750 тысяч, и что не вина Оболенского, если правление не прописало их, что, наконец, выдавались и наличные деньги и что затем вкладные билеты были совершенно правильные по форме. Все это доказано, но прокурор все-таки продолжает обвинять князя Оболенского. Я уже указал вам, господа присяжные, что закона, прямо относящегося к настоящему случаю, нет, что вам представляется необходимым разрешить по отношению к вкладным билетам и законности их выдачи под векселя, так сказать, законодательный вопрос. Между тем для правильного разрешения всякого судебного уголовного дела необходим прежде всего закон, который бы предусмотрел то преступное деяние, за которое преследуется обвиняемый. Я хорошо знаю князя Оболенского и имею право утверждать, что ему бы и не пришло в голову брать и реализовать вкладные билеты, если бы был ясный закон, который бы указывал ему в подобном деянии служебный подлог. Сам ход предварительного следствия указывает на неправильность обвинения. В течение всего предварительного следствия дело принимало самые противоположные направления. Говорю об этом со слов подсудимого Оболенского, высказанных здесь на суде перед вами и которым нет причины не доверять. В течение двух лет Оболенский допрашивался как свидетель, и невзирая на домогательства конкурса судебная власть не находила в действиях Оболенского ничего преступного. Прокурорский надзор не находил возможным составить обвинительного акта. Потом с 1881 года все круто вдруг изменилось, и в тех же обстоятельствах прокурорский надзор стал видеть преступление. Я не могу не питать уверенности, что почтенный представитель обвинительной власти, требующий от вас, господа присяжные, осуждения князя Оболенского, искренно убежден в его виновности и в преступности его действий. Но я теперь видел и то, что другие судебные власти в тех же обстоятельствах не видели ничего преступного. Наконец, я видел действия других правительственных мест и лиц (Государственный банк, кредитная канцелярия), направленные к поощрению в иных случаях тех самых действий, которые преследуются как преступление в настоящем деле. При таком положении вещей как русский гражданин я не могу не чувствовать глубокого смущения, как нам действовать, как же поступать, чтобы не впасть в гибельную ошибку? Где же закон, ограждающий свободу гражданина? Всякий закон должен быть ясен, это его необходимое условие, если он касается даже самых мелочных условий жизни – ширины улицы или освещения черных лестниц. Но тем более должен быть ясен закон уголовный, от которого зависят жизнь, свобода, благосостояние, имущество граждан. Закон уголовный должен быть видною оградою, поставленной на опасном месте, а не капканом, подброшенным на большой дороге. Я полагаю, господа присяжные, что если бы был ясный закон, то настоящего дела не было бы. Нельзя ставить в упрек князю Оболенскому, что он обманывал людей. Если бы это была правда, то из Тулы, где он жил, родился, действовал как общественный деятель и где, следовательно, его ближе всего знали, не явились бы голоса защиты. Сто десять уважающих себя лиц с губернским предводителем дворянства во главе, зная и прошлое Оболенского, не отказали ему в нравственной поддержке, высказав ему свое доверие и уважение в открытом письме. Вспомните заключительные слова этого письма: «Внешние обстоятельства могли сложиться неблагоприятно для вас, но мы пребываем уверены, что намеренно вы не могли совершить недостойный поступок. Дай Бог поселить вам те же убеждения в ваших судьях!» Я был бы очень счастлив, если бы мне удалось быть верным передатчиком их чувств и вселить в вас это убеждение!
Речь присяжного поверенного князя А. И. Урусова в защиту князя Оболенского
Господа судьи, господа присяжные заседатели! Когда защита на пятнадцатый день судебного заседания является перед вами, когда ей предстоит повторить, в сущности, соображения, только что выслушанные вами по этому предмету, вы поймете, насколько ее задача затруднительна. Мне приходится, так сказать, подбирать крохи и осколки, которые остались от защиты князя Оболенского, и преподносить вам эти осколки, стараясь составить из них одно целое... Вы поймете, господа присяжные заседатели, что, вполне сознавая то утомление, которому вы подверглись, и то утомление, которому подвергаются судьи, моя задача должна ограничиться тем, чтобы испросить у вас внимания, хотя на небольшой промежуток времени. Если я сумею заставить вас выслушать меня без видимого утомления, это будет для меня наградою и успехом, на большее я и не претендую. Все, здесь происходившее, должно было создать в вас одно убеждение, что здесь судятся лица, участвовавшие в погибшем банке, судятся еще двое посторонних. Я думаю, если у вас это впечатление должно было явиться с самого начала судебного следствия, если вы думали, что в течение процесса выяснится виновность этих двух посторонних лиц, то теперь, когда настал пятнадцатый день заседания, а доказательств виновности их все еще нет, то нужно полагать, что и на пятнадцатый и на семнадцатый их не будет. И действительно, я не раз спрашивал себя, какая причина необычайной продолжительности настоящего процесса. Я думаю, что одна из главных причин заключается в том, что к процессу уголовному пристегнуто нечто вовсе не уголовное, так, как привесок какой-то, для красоты. К вопросу уголовному, который подлежит вашему рассмотрению, например, виновны ли директора в растрате сумм банка, в беспорядке по счетной части, к вопросам простым, в которых управление банка признало себя виновным, притянут за волосы вопрос совершенно другой, вопрос гражданский. Например, расчеты князя Оболенского с Шеньяном, кто из них кому должен и сколько? Или другой вопрос: состоит ли князь Оболенский у конкурса банка в долгу или, как утверждает князь Оболенский, конкурс банка ему должен? Разве здесь место для разбора подобных расчетов, для которых у нас есть совершенно другие залы суда? Вот недалеко отсюда, в этом же этаже помещаются IV, V, VI отделения окружного суда, вот туда пожалуйте, там можно разобраться, туда приносят документы, там выслушиваются объяснения сторон, и если недовольны решением, то отправляются в Судебную палату. В двух инстанциях, осмотрительно, с документами в руках, без запальчивости и укорительных выражений – так-то судят дела гражданские. Затем, в нашем деле есть еще вопросы коммерческие, для них есть опять новое здание на Фонтанке, в коммерческом суде – там разбирайтесь! А недовольны – идите в IV департамент сената. На все свои порядки есть. Скажите, зачем же в III‑м уголовном отделении суда, где решается вопрос о наказуемости людей, вдруг разбираются вопросы гражданского и коммерческого права? Если нельзя требовать от представителей прокуратуры, как неспециалистов гражданского права, чтобы они излагали вполне безукоризненно свои воззрения на спорные вопросы, то можно желать и требовать, чтобы присяжных заседателей не утруждали расчетами по документам и книгам, которые велись кое-как, которые частью представлены в суде, частью исчезли. Можно бы выразить желание, чтобы сомнительные и спорные вопросы не решались с плеча, без дальних справок и чтобы рискованные выводы недолгих размышлений не выдавались за бесспорные истины, на основании которых «требуют» от вас обвинительного приговора, как будто можно его требовать! Я сказал, что в данном деле есть двоякого рода вопросы: уголовные и гражданские, и последняя моя надежда заключается в том, что в заключительном слове председательствующего в заседании раздастся, наконец, авторитетное разъяснение различия этих вопросов. Может быть, вам будет указано, господа присяжные заседатели: вот эти вопросы подлежат вашему разрешению, а вот эти-то счеты – кто кому должен – это вопросы посторонние, и вы можете не принимать их во внимание при определении вины подсудимых.
Действительно, господа присяжные заседатели, если вы примете этот упрощенный взгляд к делу, то для вас сам собою ряд подсудимых распадется на две группы. В одной вы увидите деятелей банка, в другой – посторонние фигуры заемщиков, подмалеванные где-то на углу полотна, и вы увидите, что слить их воедино невозможно, это было бы то же самое, что привлекать пассажиров поезда, который подвергся крушению, к ответственности за это крушение наравне с машинистом и начальством дороги или ловить на улице прохожих, обвиняя их в том, что слишком близко подходили к лопнувшему банку. Это прием искусственный, незаконный, прием, который, нужно надеяться, не будет часто повторяться у нас в судах, потому что если разовьется такая практика, то нужно думать, что для целей и достоинства правосудия в будущем оно особенной службы не сослужит.
Итак, я говорю, что здесь две группы подсудимых, и если вы внимательнее присмотритесь к ним, то увидите, что группа банковых дельцов, в свою очередь, распадется на две. Вы видите, что на верхнем конце скамьи разместился персонал правления, рядом с ним персонал подчиненных, исполняющих приказание начальства. Между той и другой группою случайно попался художник, музыкант, не принадлежащий ни к тем, ни к другим: ни к группе управляющих, ни к группе управляемых и не имеющий никакого понятия о банковых делах. Таким образом, разобраться в настоящем деле не представляется особенного труда; но совершенно иное дело, если вы станете на почву, на которую вас пригласил последовать за ним товарищ прокурора. Если вы хотите разобраться в гражданских отношениях этих лиц, хотите на себя взять роль судьи, и, как говорили вам некоторые из гражданских истцов, если вы захотите решать вопросы, не касающиеся виновности, то вы натолкнетесь на непримиримые противоречия. Правда, у вас могут остаться в памяти некоторые цифры, но с этим недостаточным багажом пускаться в путь было бы крайне рискованно. Может быть, вы припомните, что, по заключению экспертов, билеты, выданные на предъявителя 3 февраля, одним членом записаны на имя Оболенского на 1 миллион 300 тысяч рублей, тогда как из дела видно, что билеты брались не в один раз, выдавались князю Оболенскому под особые расписки и притом под надлежащее обеспечение – под векселя. Если же они записывались разом на такую громадную сумму, которая не соответствует остальным документам в деле, то отсюда можно заключить, что счетоводство по операции вкладных билетов велось кое-как. Операции записывались, когда бог на душу положит, и все дело вообще со стороны банка велось спустя рукава. Или вспомните, например, по книгам Сутугина о сухарной операции значится за конец января на Оболенского одним числом выдача на 900 тысяч 30 вкладных билетов. И заметьте, что все это записывается за несколько дней до краха банка. С другой стороны, вы слышали, что конкурс банка требует с Оболенского 2 миллиона 300 тысяч рублей. Но вы, конечно, помните, что председатель конкурса присяжный поверенный Белецкий объяснил нам, что князь Оболенский предлагал конкурсу принять от него на полтора миллиона вкладных билетов и просил возвратить ему на эту сумму его векселей. Казалось бы, что может быть справедливее этого требования. Однако председатель конкурса Белецкий, он же и гражданский истец, ответил князю Оболенскому отказом под тем предлогом, что эти вкладные билеты будто бы составляют продукт преступления. Но это пустая отговорка. Ведь предмет уголовного расследования не сам билет, а факт его выдачи. Раз билеты выданы под векселя, а я вам возвращаю билеты, то вы должны мне возвратить векселя. Позвольте нам рассчитаться, как вы рассчитались с Герардом и другими. Господа присяжные, я, конечно, не допускаю мысли, чтобы здесь был интерес лиц, заведующих конкурсом, хотя они получают известный процент с массы. Я допускаю, что здесь действует неудержимое, бескорыстное желание угодить правосудию, вследствие этого необменные вкладные билеты лежат здесь на столе вещественных доказательств. А присяжный поверенный Потехин в то же время скорбит, что на его душе лежит 2 миллиона 300 тысяч рублей нашего долгу, когда ему как бывшему куратору конкурса так легко было бы уговорить Белецкого облегчить его страдания. Из всех бесконечных счетов и расчетов Оболенского для меня выясняются только некоторые отдельные моменты, но я не буду утруждать вас выяснениями и выкладками и только попрошу позволения коснуться одного вопроса. Здесь говорилось несколько раз, что князь Оболенский представил на 750 тысяч рублей вексельных бланков и что эти бланки никакой цены не имеют. Этот факт нельзя забыть, он чрезвычайно хорошо рисует, как смотрело правление Кронштадтского банка на свои обязанности и на интересы банка. Когда вы выдаете на себя обязательство в виде вексельного бланка и ставите на нем свою подпись, то пока непрописан текст, он недействителен, но если прописан текст, он делается для вас бесспорным документом. Вексель будет протестован, и по нему будут взыскивать деньги. Следовательно, эти бланки на 750 тысяч рублей были вполне обязательным документом для князя Оболенского. Разве он мог угадать, что Лангваген не удосужится сам и даже не потрудится заставить писца прописать эти тексты. Теперь вы оцените, господа присяжные, насколько было основательно замечание защитника Лангвагена, что лучше было бы, если бы князь Оболенский прислал нам три меры каменного угля, чем эти ничего не стоящие бланки. А я скажу: лучше было бы Лангвагену найти несколько свободных минут и заполнить эти бланки текстом. Тогда Кронштадтский банк имел бы лишних 750 тысяч рублей в руках. А ведь это почти миллион, который, конечно, пригодился бы банку в конкурсе князя Оболенского. Итак, вот в каком мы положении находимся. Как мы разберемся в гражданских делах и во взаимных претензиях? Не лучше ли оставить их просто, оставить в стороне и перейти к вопросам чисто уголовным. Когда дело доходит до уголовных вопросов, то вы заметили, что происходило на суде. Все сваливают с себя ответственность на двух лиц: князя Оболенского и Суздальцева и говорят, что они виноваты, они соблазнили некоторых директоров банка и вовлекли их в такие невыгодные сделки. Сразу это кажется чрезвычайно странным. Почему? Ведь эти лица простые заемщики, которые по закону не могут знать и, действительно, не знали подробностей банковых операций, так как Устав банка параграфа 46 предписывает сохранение коммерческой тайны. Заемщики тут при чем? И кто станет делать дела с таким банком, который заявит своему заемщику, что положение его отчаянное и безвыходное? Впрочем, ожесточение против князя Оболенского объясняется совершенно иначе. Два с половиной года князь Оболенский был только свидетелем по этому делу, но вот наступил какой-то несчастный день, и князь Оболенский, который накануне лег спать полноправным гражданином, проснулся уголовным преступником, хотя ничего в это время не совершил, хотя никакого факта к делу не прибавилось. Почему же ему стала угрожать ответственность за мошенничество? Что же он сделал в это время? Да ровно ничего. Каким же образом он был вчера невинным человеком, а сегодня оказался настолько виновным, даже таким преступником, с которым представитель обвинительной власти совершенно не церемонится, третирует его, сравнивая прямо с ворами и мошенниками. Что же изменилось? Да изменился взгляд прокурорского надзора, больше ничего – факты остались те же самые. Делать нечего. Вы знаете, что заключение обвинительной камеры, к сожалению, нельзя обжаловать отдельно от кассации. Мы преклоняемся перед этим заключением, но считаем его неправильным, и будем это доказывать всеми предоставленными нам способами. А пока позвольте указать вам на пример гражданского дела, неправильно поставленного на уголовную почву. Представьте себе, что перед вами за решеткой сидел человек. Читают обвинительный акт: такой-то обвиняется в том, что, заняв у такого-то деньги и выдав вексель, обещал ему уплатить в такой-то срок, но по наступлении этого срока не уплатил. Признаете ли вы себя виновным? Нет. Я занял деньги и выдал вексель. Это дело гражданское. И вот, обвинитель доказывает, что обвиняемый дурной человек, что и прежнее-то его поведение было предосудительное, нечестное, преступное. Подсудимый, конечно, смущен, растерян, сбит с толку. Минутами ему кажется: уж и в самом деле не преступник ли я? Он защищается как может, противоречит сам себе и все твердит, что дело гражданское, что у него нет денег, но что он заплатит и что тут нет преступления. Ему отвечают, гражданское оно или уголовное, это другой вопрос, который до господ присяжных не касается, а вот лучше разберем вашу прошлую жизнь. И разбирают и позорят ее, эту прошлую жизнь, позорят, сколько угодно, и заметьте, без всякого отношения к предмету обвинения, позорят потому, что опозоренного, нравственно убитого человека легче обвинить, чем честного. Положение такого неисправного плательщика, господа присяжные, кажется безвыходным, и пример мой, спешу прибавить, фантастический; но если присмотреться к нему попристальнее, то, право, эта фантастическая история представляет много сходного с делом о князе Оболенском. Он заемщик банка, оказавшийся неисправным плательщиком на неизвестную, впрочем, сумму. Но всю вину сваливают на князя Оболенского; Шеньян, сознавая свою вину в погибели банка, Шеньян, «хозяин дела», хочет, так сказать, ценою обвинения князя Оболенского облегчить свое положение. Другой союзник обвинения, поверенный банка, ведет свою линию. С его точки зрения здесь главные виновники – три лица: Шеньян, князь Оболенский и Суздальцев. Виновность Шеньяна отвергать нельзя, так как он сам в ней сознался, но почему виновны Суздальцев и князь Оболенский? Да потому, что эти лица, с которых можно что-нибудь взять. Это естественно с точки зрения гражданских истцов, но грустно видеть, что Шеньян делает то же самое. А почему? Я думаю, что это объясняется пребыванием Шеньяна в тюрьме, где развиваются недобрые инстинкты. Сваливать свою вину на другого – черта не особенно красивая, но ведь в уголовном суде приходится считаться не с добродетелями, а со слабостями.
Но оставим это и обратимся к положительным доказательствам в деле. К числу их относится экспертиза. Когда мы разбираем на суде уголовном вопросы гражданские, мы, обыкновенно, встречаем необходимость во всем, что касается техники банковых дел, обращаться к людям сведущим, к экспертизе. Вы слышали, господа присяжные заседатели, что авторитетный представитель экспертов тайный советник Сущов давал вам объяснения, которые, можно сказать, разбили обвинение в прах, и после экспертизы от обвинения остался один призрак, ибо все обвинение было основано на том, что билеты подложны. На этом удивительном недоразумении построен и обвинительный акт, что же теперь осталось от этого обвинительного акта? Эксперты сказали, что билеты, выданные под учет векселя, не могут считаться подложными. Этого достаточно, чтобы разрушить все выводы обвинения. Закон не дозволяет прокурору увеличивать обвинение. Но этот закон платонический и, невзирая на экспертизу, позабыв о ней, обвинение продолжает утверждать, что вкладные билеты, те самые, которые покупались Государственным банком, подложны. Но как же быть с экспертизою, со свидетелями? Обвинение обошло это затруднение, оно просто промолчало экспертизу. Затем обвинение смешало две вещи: вклады на хранение и вклады для обращения из процентов. Если бы обвинение своевременно ознакомилось с Уставом Кронштадтского банка, оно нашло бы, что это две различные операции: прием на хранение – одна, а прием вкладов – другая. Устав был вам прочитан и обстоятельство это, столь важное, столь отчетливо выясненное моими сотоварищами по защите, конечно, не могло укрыться от вашего внимания. Обращаясь к тому же Уставу, обвинение могло бы убедиться, что и правительство смотрит на эти операции совершенно различно. Так, например, в параграфе 26 сказано, что билеты банка на внесение денежных вкладов принимаются в залог по операциям по ценам, которые будут установлены министром финансов. Но если цены на вкладные билеты устанавливаются ежегодно, так же как и на акции, то очевидно, что вкладные билеты вовсе не представляют собою какую-то незыблемую наличность в кредитных билетах, ибо министр финансов не может же ежегодно определять сумму кредитных билетов. Господин прокурор каким-то образом просмотрел это обстоятельство и все время утверждал, будто каждый покупатель, у которого есть такой вкладной билет, убежден, что он покупает наличные деньги. Вот что значит, когда обвинение теряет почву и чувство действительности. Как оно не сообразило, что если бы действительно частные люди покупали эту наличность, то как же они могли давать двугривенный за рубль? Я привожу слова обвинителя, хотя он и в данном случае допустил небольшую неточность: двугривенного за рубль никто не платил, а реализация билетов происходила при потере двадцати, тридцати копеек, что не совсем одно и то же. Ясно, что вкладные билеты покупались как акции банка и котировались различно. Смешав прием на хранение с приемом на вклады, обвинение сочло себя совершенно окрепшим и смело доказывало подложность билетов, помимо экспертизы, так сказать, обходилось собственными, домашними средствами, не стесняясь ни Уставом, ни свидетелями.