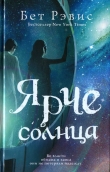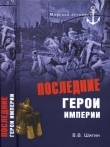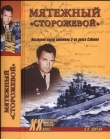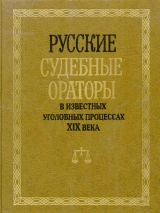
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 90 страниц)
Таким образом, господа присяжные заседатели, если бы Кокорев мог рассчитывать на вознаграждение того ущерба, который понесен им вследствие истребления мельницы, то ему оставалось бы рассчитывать только на совесть Овсянникова. При этом нельзя не остановиться на удостоверении Кокорева, что Овсянников раз уже отступил от своего обязательства: когда ему следовало выдать 400 тысяч рублей, он их выдать отказался. Это обстоятельство я считаю за факт потому, что Овсянников никаких возражений по этому поводу Кокореву не сделал. Если интересы Кокорева обеспечиваются лишь совестью Овсянникова, то шансы Кокорева на соревнование по долгосрочному подряду весьма шатки.
Интересы подсудимого Овсянникова, связанные с мельницей, представляются совершенно в другом виде. Подсудимый Овсянников, очевидно, мельницею не дорожит и никогда не дорожил. Припомните показание поверенного Кокорева, Мамонтова, который указывал на беспорядочное состояние мельницы. Он указывал, что на потолках была течь, что полы были испорчены, что трубы местами перерезаны, что местами подставлялись ведра, что паровые трубы сочились. Кроме того, вы имеете показания Кильпио и Зоммера. По показанию их оказывается, что подземные каналы переполнены были мучною трухою, так что там гораздо было удобнее ходить на лыжах, чем обыкновенным образом, что в основании дымогарной трубы накоплялся уголь в течение полугода, что заслонки от паровых котлов в дымогарной трубе не чинились в течение нескольких лет. На мельнице оказался страшный беспорядок, и это радовало, по-видимому, подсудимого Левтеева. Мало того, что Овсянников мельницею не дорожил, она была ему в убыток. Мельница, как показали некоторые свидетели, устроена была с излишнею роскошью. Расход на мельницу был слишком велик. Мы старались выяснить перед вами осязательным образом цифру этого расхода и воспользовались всеми средствами, какие имели к тому под руками. Расходы на мельнице определены по книгам от 52 до 70 тысяч в год, не включая сюда жалованья Левтееву и погашений капитала в 780 тысяч рублей, уплаченного с января 1873 года по январь 1875 года; к 1 января 1875 года к уплате из 780 тысяч рублей оставалось всего 50 тысяч. Затем, я предъявил вам негласный отчет Овсянникова для того, чтобы судить, до каких размеров простирались расходы на мельнице. Быть может, этого отчета я бы не предъявил вам, если б я не встретил со стороны защиты опровержения относительно того первого протокола экспертов, на который потрачено было так много времени при предварительном следствии, если бы мне не указали на те громадные расходы, которые имел Фейгин на мельнице. Если вы примете в соображение все те цифры, которые я вам указал, то, полагаю, признаете, что стоимость размола на куль была не менее той цифры, которую определял вам Фейгин.
Кроме того, что работать на мельнице было убыточно, кроме того, что мельница была устроена невыгодно в экономическом отношении, мы имеем прямое доказательство того, что работы на этой мельнице и тяготили Овсянникова. Я ссылаюсь на экспертизу, произведенную предварительным следствием. Протокол этой экспертизы был вам прочитан и со стороны защиты не опровергнут. Защита не придает значения этой экспертизе, так как у нас нет главной и кассовой книг, и, следовательно, заключение экспертов как бы не имеет под собою основания. Я очень жалею, что главной и кассовой книг нет, но их так легко было принести на суд и опровергнуть экспертизу. Я нахожу, что главная и кассовая книги не имеют особенного значения для вычисления о том, в каком количестве рожь поступала, как и куда расходовалась. Из сопоставления протокола экспертов с показанием окружного интенданта Скворцова видно, что по операции с 1873 на 1874 год привезено было в Петербург очень много собственной муки с Волги. Это обстоятельство относится к тому времени, когда возникало в интендантстве подозрение по поводу продажи казенного хлеба с судов, когда возникли первые пререкания между Овсянниковым и интендантством, пререкания, окончившиеся тем, что Овсянников на словах, по-видимому, подчинился требованиям интендантства. Вы помните то письмо, в котором Овсянников пишет окружному интендантству, что вполне подчиняется всем распоряжениям относительно ревизии хлеба на прибывающих судах, что он принял на себя подряд единственно потому лишь, что интендант благосклонно к нему относился. Помните также, вероятно, и показание Висконти. Вскоре после того именно письма Висконти захватил Рудометова на выгрузке хлеба из унжака с закрашенным казенным клеймом. Так вот, в то именно время Овсянниковым завезено было в Петербург много муки. Затем, как видно из протокола экспертизы, этой мукой постоянно заменялась казенная рожь. Защита совершенно справедливо заметила, что по официальной отчетности интендантства рожь в магазинах всегда была налицо, но этому нисколько не противоречит и протокол экспертизы, потому что, если рожь заменяется мукою, то до продажи в частные руки она и была всегда налицо.
Из того же протокола экспертизы видно, что в то время, когда, как говорит окружной интендант, наряд был весьма ограниченный, всего в 150 тысяч четвертей ржи, когда рожь была очень дорога и вследствие того истрачено было из казенного запаса на пополнение наряда 40 тысяч четвертей ржи, в то время, как мы видим из протокола экспертизы, Овсянников продавал казенную рожь в частные руки по 8 р. 25 коп. и 8 р. 60 коп. за четверть. Из той же экспертизы видно, что когда Овсянникову приказано было вывезти из магазина излишнюю рожь в количестве 11 тысяч четвертей, то он вместо того вывез ее в количестве 20 тысяч четвертей. Вообще, отношения подсудимого Овсянникова к окружному интендантству были несколько натянутыми. Окружной интендант Скворцов весьма скромно отзывался об Овсянникове, но эта натянутость в отношениях сама собою проглядывает в той официальной переписке, которую вело интендантство с Овсянниковым, как контрагентом. Я не обвиняю Овсянникова в том, что он распоряжался с казною несколько бесцеремонно, но из этого образа действий тем не менее вывожу два заключения: во-первых, ему всегда было выгодно заменять рожь мукою, во-вторых, он должен был прибегать к таким средствам извлечения выгоды, которые интендантством не могли быть одобрены. Я уже сказал, что мельницею Овсянников не дорожил, что мельница не доставляла ему тех прибылей, какие мог бы обещать подряд в 3 миллиона рублей ежегодного оборота. Надеюсь доказать теперь, что Овсянников, кроме того, мельницею тяготился. Эти три несомненные факта приводят, по мнению моему, к заключению, что Овсянников смотрел на мельницу как на средство к долгосрочному контракту, как на ключ к казенным подрядам.
Допустим, что поджога не было. Взвесьте последствия пожара с точки зрения Овсянникова. Случился пожар: на пожаре истреблено до 14 тысяч кулей казенной муки, 100 тысяч рогож, 15 тысяч кулей, 42 тысячи рогожных мешков, так что весь убыток Овсянникова, по показанию его, простирается до 150 тысяч рублей. Если бы интендантство потребовало от Овсянникова поставки того хлеба, который сгорел, то Овсянников имел бы полное право ответить, что ставить хлеб не обязан, потому что вообще по закону страхование грузов по подрядам представляется полному усмотрению казенного ведомства; по контракту же с интендантством хлеб подлежал страхованию в магазинах и на пути, а страхование на мельнице не было выговорено. Казна оплатила уже тот хлеб, который хранился на мельнице; за риск отвечает хозяин; ущерб от сгоревшего хлеба падал на казну. Убытки Овсянникова сводились лишь к тому, что у него сгорело несколько тысяч кулей и мешков, тысяч на 50 по его расчету. Затем, далее убытков никаких не было. Если за истреблением мельницы Овсянников ничего в будущем не ожидал, на долгосрочный контракт не рассчитывал, то ему предстояло в оставшиеся до срока последние 2 года ставить хлеб вместо ржи мукою. Это составляет громадный расчет в интересах Овсянникова. По поводу этих расчетов много было споров. Я приведу вам несколько соображений, в силу которых, мне кажется, нельзя не прийти к заключению, что гораздо выгоднее ставить хлеб в Петербурге мукою. Дело в том, что по сведениям, которые были доставлены нам биржевым комитетом, оказывается, что колебание в разнице цен на рожь и муку весьма незначительно. Оказывается также, что если цены на рожь подвергаются колебаниям вследствие запроса за границу, то цены на муку всегда почти одни и те же; рожь то несколько дороже, то несколько дешевле муки. Рожь привозить гораздо труднее, потому что если она подмокнет, то дает ростки и в продажу не годится. Муку привозить легче; ее, кроме того, можно «сдабривать». Это такое же специальное выражение у подрядчиков, каким было в винном откупе выражение «рассиропливать», т. е. разбавлять водку водою. Подмоченную муку смешивают с хорошей и ставят за хорошую. Кроме того, из переписки Овсянникова с приказчиками вы прямо усматриваете, что до пожара он покупал рожь и муку по одной цене. Если вы примете в соображение, что перемол зерна обходился Овсянникову от 50 до 60 коп. с куля, что после пожара он ставил хлеб мукою с Волги, что за последние два года, по показанию окружного интенданта, предстояло поставить до 400 тысяч кулей муки, то с истреблением мельницы Овсянников выигрывал полтинник на куль, следовательно, 400 тысяч полтинников, или 200 тысяч рублей, а потому, если он и потерял 14 тысяч кулей, то ущерб от пожара вполне вознаграждался. В сущности тут убытка никакого не было, потому что 14 тысяч кулей Овсянников казне пожертвовал, и в этом-то именно пожертвовании я и вижу тот образ мыслей, который объясним лишь в связи с фактом поджога. Когда окружной интендант Скворцов приехал на пожар и увидел там помощника градоначальника, сообщившего ему о поджоге, то Овсянников с пожара исчез. Овсянников рассказывал здесь нам, как он следовал по пятам за генералом Козловым, как с опасностью жизни он пролезал в машинное отделение, причем ему пожарная команда кричала: «Господин, опасно!» Я очень сожалею, что защита не попыталась подтвердить этого факта спросом пожарной команды. Свидетель же Козлов этого факта самоотвержения не подтвердил; он указал только, что к нему обращался кто-то из подсудимых, Овсянников или Левтеев, с просьбою отстоять машинное отделение, но тогда уже, когда ничего, конечно, кроме машинного отделения, не оставалось. Итак, как окружной интендант Скворцов приехал на пожар, Овсянников исчез. А Скворцова интересовал вопрос о том, сколько сгорело муки. Левтеев сказал Скворцову, что она застрахована. Тем не менее весьма понятно было беспокойство генерала Скворцова. Он потребовал справки по страховым квитанциям, но эти квитанции уходят из интендантского управления. Я не могу сказать, чтобы они были украдены; из деликатности я говорю, что они уходят, и это представляется особенно странным, потому что в настоящем деле вообще весьма много чудес. Вода уходит из бака, когда она нужна; вода приходит в котлы, когда она не нужна... Страховые квитанции уходят потому, что собственно в них не значилось страхования в деревянных магазинах, хотя в силу контракта страхование в магазинах было уже для Овсянникова обязательно:
Надо притом принять в соображение отношения Овсянникова к интендантству. Генерал Скворцов относился с некоторым подозрением к деятельности Овсянникова по подрядам. Он подозревал продажу казенной муки с судов; в предупреждение сбыта дурной муки вынужден был накладывать на кули Овсянникова ярлыки с надписью «в войско не отпускать». Генерал Скворцов объяснил, что если бы в магазинах было 300—400 кулей муки излишней, собственной Овсянникова, то не имел бы ничего против этого, но когда мука эта складывалась рядом с казенной, то представлялась опасность, что мука эта низового помола пойдет вместо той, которая перемолота на паровой мельнице. На вопрос, каким образом охранялись магазины, генерал Скворцов объяснил, что они были в ведении Овсянникова, что смотрители не могли целый день быть при магазинах. Наконец, вы сами слышали, как смотрители за магазинами смотрели. Нельзя никаким образом отрицать того, что подозрение окружного интенданта имело свое основание. Таким образом, отношения Овсянникова к интендантству были натянуты, а с пожаром генерал Скворцов должен был неминуемо обнаружить, что Овсянников нарушил и самый существенный пункт контракта, ибо не страховал хлеба в деревянных магазинах. Присоедините к этому еще убыток на 14 тысяч кулей муки, убыток, который падал на счет казны, и вам сделается понятным, почему все эти обстоятельства, вместе взятые, вызвали подсудимого Овсянникова на пожертвование. Пожертвование необходимо было главным образом потому, что он имел в виду надежды на предстоящий с 1876 года долгосрочный подряд, что зависело от усмотрения интенданта. Пожертвование было сделано, и нельзя сказать, чтобы оно было убыточно в таком размере, как представлял это Овсянников. Во-первых, на мельнице 14 тысяч кулей муки и не было ко дню пожара. Судя по показаниям свидетелей, по книге Морозова, по протоколу экспертизы, там было до 8 тысяч кулей. Казна платила 8 р. 31 к. и, конечно, не во столько же мука обходилась Овсянникову. Разницу надо сбросить с убытка. Горелой муки с мельницы продано после пожара до 2 тысяч 567 кулей, и продавалась она по обыкновенной цене. Купец Шушин телеграфировал тогда Овсянникову: «Более горелой муки с маслом не приму». Таким образом, и самое пожертвование раскладывалось на покупателей.
Я должен бы был представить вам расчеты по ущербу от сгоревших рогож, кулей и мешков, но затрудняюсь свести эти расчеты. По книгам Овсянникова цена этому материалу обозначена от 7 до 12 к. Из инструкции интендантства видно, что кулье переходило Овсянникову от казны еще дешевле, а эксперты, чистопольские купцы, вызванные защитой, показали, что цена этому материалу доходила даже до 25 коп. Во всяком случае, гг. присяжные заседатели, убытки от пожара, даже и при пожертвовании 14 тысяч кулей, представляются только кажущимися, если вы признаете правильным тот представленный мною расчет, который указывает на очевидную выгоду от поставки хлеба вместо ржи мукою.
Определив разницу в интересах Кокорева и Овсянникова к мельнице, необходимо определить свойство их взаимных отношений, возникших из спора по поводу мельницы. Защита указывала в своих вопросах на то обстоятельство, что даже после пожара Кокорев был посредником между Овсянниковым и Утиным в покупке дома, что должно как бы свидетельствовать об отсутствии враждебных между ними отношений. Мне казалось бы, что лучшим опровержением такому предположению может служить то, что Кокорев и Овсянников сидят теперь на противоположных друг от друга концах; Овсянников оправдывает себя от обвинения в поджоге, Кокорев же имеет в виду доказывать, что мельница истреблена Овсянниковым. Затем, вообще люди, обладающие большим практическим тактом, и в особенности люди, занятые постоянно крупными финансовыми оборотами, никогда не увлекаются личными отношениями в ущерб дела до внешних проявлений озлобления. Кокорев с улыбкой на устах отбирает у Овсянникова мельницу, Овсянников с улыбкой на устах объявляет Кокореву после пожара, что на мельнице «блины пекли». Незадолго до пожара морское министерство отказало Овсянникову в ходатайстве на подряд. Мельница была отвоевана Кокоревым, а из показания окружного интенданта Скворцова видно, что право собственности на мельницу давало преимущество конкуренции на предстоящий долгосрочный подряд. В 1876 году Овсянникову предстояло удалиться с мельницы, а между тем за 4 года подряда он заплатил 750 тысяч рублей. Вот в каком положении находился Овсянников с переходом мельницы к Кокореву и вот как объясняется то заявление, в котором Овсянников изъявляет интендантству готовность построить новую мельницу. Казалось бы, обвинение должно вам представить в цифрах определение того, что такое этот долгосрочный подряд. Но вам уже известно, до каких размеров простирался ежегодно наряд на поставку ржи, овса, муки. Казна ежегодно платила за поставляемый провиант до 3 миллионов рублей. В бумагах, отобранных при обыске у Овсянникова, есть, между прочим, литературные статьи по поводу того, что такое долгосрочный контракт. Какой-то литератор доказывает, в какой степени подряд этот выгоден для казны и разорителен для подрядчика. Мне кажется, что вопрос разрешается весьма просто. Какой купец откажется от предложения поставлять ежегодно на 3 миллиона товара? Долгосрочный контракт с казною на поставку провианта – это один из тех контрактов, которые принято в коммерческом быту подписывать золотыми перьями.
Овсянников «с материнской колыбели» шел по широкой дороге к хлебному рынку, поддряживаясь крупными интендантскими подрядами. Он действительно пришел к обладанию этим рынком, но в семидесятилетнем возрасте приходилось отказаться от обладания рынком, отказаться от карьеры, от стремлений к казенным подрядам, тогда как стремления эти составляли задачу всей жизни. Это было очень тяжело... И вот каким образом я объясняю себе поджог мельницы.
Позвольте мне, господа присяжные заседатели, представить вам вкратце выводы из всего того, что мною сказано. Я говорю, что свидетели, удостоверяющие о признаках дыма накануне пожара из дымовой трубы, свидетельствуют ложно, что факт поджога налицо, что распоряжения Левтеева относительно выпуска воды из бака представляют собою приготовительные меры к поджогу, что поджог был в интересах Овсянникова, что благодаря лишь поджогу он имел возможность рассчитывать на будущий долгосрочный подряд, потому что трудно было бы ожидать, чтобы кто-либо другой мог конкурировать с Овсянниковым в предложении интендантству устроить новую мельницу. Если пожар тушить было нечем, то тушить его было и некому. Мельница охранялась, как вы можете вывести заключение из судебного следствия, сторожем Рудометовым. Положение сторожа Рудометова в деле крайне щекотливое. Не мне приходится его обвинять, а ему перед вами оправдываться. Он изменил уже одно показание, которое дал на предварительном следствии. Здесь он объясняет, что не был на карауле во дворе, что оставался в квартире. Сначала я не мог себе объяснить причины такого изменения показания, но затем, когда явился свидетель Валдаев, когда оказалось, что труха при сгорании дает сильный запах гари наподобие горящего торфа или леса, то я понял, почему Рудометов должен был уйти со двора в квартиру. Невозможно было бы оставаться во дворе и не заметить в зерносушильне тления трухи, если пожар шел из трубы. Вообще, положение человека, который дает два показания перед судом общественной совести, крайне щекотливо. Одно из показаний непременно должно быть ложно.
Быть может, первое показание дано было под впечатлением испуга на предварительном следствии. Но дело в том, что показание, данное Рудометовым здесь на суде, несомненно ложно, потому что не подтверждается свидетельскими показаниями. Рудометов показывает вам, что разбудил его Кильпио, что он остановил Кильпио и пошел сам будить приказчиков. Свидетель Кильпио это отрицает. Рудометов указывает на то, что Морозов и Валдаев посылали Шишлакова из своей комнаты с извещением к Овсянникову и Левтееву о пожаре, что был разговор о том, есть ли у Шишлакова деньги на извозчика. Все эти лица опровергли показание Рудометова. Рудометов показал, что у него был разговор с швейцаром в десятом часу вечера и что он приглашал швейцара Семенова для обхода мельницы. Но и это показание опровергнуто свидетелем Семеновым. Затем, вы видите, гг. присяжные заседатели, что Рудометов даже не разбудил своей жены. Его жена в беспамятстве сведена была с лестницы дворником. Я допускаю первое впечатление испуга, но полагаю, что за этим первым впечатлением овладевает чувство самосохранения – инстинкт наиболее развитый как в человеке, так и в животных. Следовательно, прежде чем броситься к веялочной трубе, ему предстояло спасти своего ребенка. Между тем он ставит свою жену и ребенка в такое положение, что они сами должны были вытаскивать громоздкие вещи. Я ограничиваюсь этими краткими указаниями на лживость показаний Рудометова и затем предоставляю вам самим разрешить, каково его положение в деле. Если вы признаете, что распоряжения Левтеева клонились к поджогу, если вы признаете, что поджог был в интересах Овсянникова, то придете к заключению, что фактическим виновником в деле поджога мог быть один только Рудометов. К этому заключению я прихожу по соображению тех условий, в которые был поставлен Рудометов на мельнице. Как вы слышали, Рудометова встречают во дворе и на лестнице, но никто не знает, где он сторожил, откуда и куда идет; никто за ним не наблюдал; напротив, он наблюдал за дворниками. Это человек, которому вверяется охранение здания мельницы в продолжение всей ночи, человек, которого служащие рисковали встретить в любом помещении мельницы. Я полагаю, трудно допустить, чтоб кто-нибудь из них рискнул на поджог, не войдя в соглашение с Рудометовым. Если вы примете во внимание отношения, существовавшие между Левтеевым и Рудометовым, вы придете к тому заключению, что из всех служащих на мельнице Левтеев с большим основанием, с большею прочностью мог вверить тайну преступного замысла сторожу Рудометову. Вот все, что я вам скажу относительно положения подсудимого Рудометова в настоящем деле. Ваше дело, господа присяжные заседатели, вывести заключение о свойстве его виновности. В интересах его не было никаких финансовых соображений; он был орудием чужих интересов. Следовательно, и самый вопрос о виновности разрешается на простом сопоставлении свидетельских показаний. Вы заканчиваете вашу сессию, вам приходилось решать дел много не сложных; дело по отношению к Рудометову не представляется сложным.
Я заканчиваю обвинение. Задачи правосудия бывают иногда весьма сложны и трудны. Но если настоящее дело представляется задачею, то, по моему мнению, задачею весьма разрешимою. Во всякой математической задаче представляется обыкновенно ряд внешних условий, из сопоставления которых надо вывести условия внутренние, соединяющие причинною связью все внешние условия, задачею поставленные. Простое механическое сопоставление внешних условий, без соображения с внутренним причинным, никогда не приведет к разрешению задачи. Прошу вас воспользоваться таким приемом анализа. Если вы будете пытаться разрешить те основания, которыми руководствовались Фейгин, Овсянников и Кокорев в сделке, если вы будете пытаться приложить к их расчетам общежитейские взгляды на добрую гражданскую сделку, то труд ваш будет напрасен. Представьте себе всю эту сделку в смысле погони за наживой на счет солдатского пайка – дело совершенно выяснится. Если вы допустите, что ложь в бухгалтерии Морозова объяснима небрежностью, то вы зададите себе вопрос, каким образом небрежность в счетах систематически вела к прибыли в карман Овсянникова? Если вы отнесете распоряжения Левтеева к небрежности, беспорядочности, то вместе с тем натолкнетесь на вопрос, почему по мере того, как на мельнице возрастал мусор, Овсянников увеличивал Левтееву жалованье? Если вы будете пытаться объяснить себе пожар случайностью, вы встретитесь с двумя огнями в двух противоположных концах здания, не имеющих никакого один с другим сообщения. Попробуйте приложить поджог к объяснению причин пожара – все внешние условия сами сложатся в непрерывную цепь причин с последствиями. Я понимаю, что задача ваша гораздо труднее той задачи, которая лежит на сторонах: это такого рода дело, в котором стороны не имеют возможности заявлять о своих правах на доверие к их убеждению.
Вы судите тяжкое преступление. Но когда мы судим об относительной тяжести преступления, то необходимо иметь в виду самое свойство преступного намерения подсудимого. Я нахожу, что настоящее преступление с точки зрения подсудимых Овсянникова и Левтеева не представляется вовсе в такой степени тяжким, каким оно представляется с точки зрения общественного интереса. Что такое поджег подсудимый Овсянников? Он поджег мельницу, но предлагает ее выстроить вновь со всевозможными усовершенствованиями. Защита указывает вам на то, что в мельнице жил брат жены Овсянникова; мне кажется, она с большим правом могла бы указать на то, что брат жены Овсянникова мерзнул от холода вследствие распоряжений Левтеева. Поджог не был сопряжен с посягательством на безопасность людей, проживающих на мельнице. Поджигатель знал, где огонь начнется, откуда и куда огонь пойдет; он знал, что в жилые помещения огонь не проникнет ранее, чем люди не спасутся; имущество же их невелико.
Если преступление это сопряжено с вредом казенному интересу, так как мельница устроена была для солдата, для воспособления его скудному пайку, то эта точка зрения непонятна Овсянникову, и лучшим ручательством того служит приказ военного министерства, в силу которого он был уже отстранен от участия в подрядах. Правительству весьма трудно проводить хорошие стремления через низшие органы и предупреждать их неподкупность. Но оно могло надеяться, что человек, гордящийся своими пожертвованиями, не приложит руки к подкупу. Оно могло надеяться, что коммерческий военный агент будет солидарен с общественными интересами дела.
За мною будут следовать речи гражданских истцов, но главного потерпевшего здесь нет. Он даже и не знает, что его скудный паек может служить средством к эксплуатации для миллионера. Этого потерпевшего вы не забудете!
Гражданский истец Кокорев начал свою речь торжественным обращением к присяжным: «К вам, господа присяжные заседатели, как представителям земской совести, принявшим на себя священную обязанность взвесить и оценить неизведанные побуждения, обращаю мое слово» и заявил, что даже теперь, по окончании следственного процесса, когда выяснились все обстоятельства пожара, он устраняет себя от обвинения. Он имеет в виду лишь свой гражданский иск. Все цифры расчета, выяснившиеся на суде, подтверждены Овсянниковым. Возобновляя в памяти все совершившееся на судебном следствии, по его мнению, нельзя усомниться в том, что пожар мельницы произошел от поджога. Главные причины раскрыты достаточно. Ему, гражданскому истцу, показалось важным показание одного из свидетелей о нахождении маленькой дочери Рудометова в швейцарской, перенесенной туда предварительно чьей-то заботливой рукой. Второе обстоятельство, также довольно подозрительное – это камердинер, будивший Овсянникова, подвергнувшийся во время следствия сумасшествию и ныне находящийся в доме умалишенных,– а также и другие причины приводят его к убеждению, что поджог совершен Овсянниковым.
Защитник Овсянникова присяжный поверенный Потехин предупредил присяжных, что постарается не утомить их «цветистыми фразами, что не поведет их на огнедышащие горы, не будет строить мостов на одних серединных арках, без береговых уставов», а будет говорить об одном лишь деле. «Подсудимых трое,– продолжал он.– Все они обвиняются только в поджоге и ни в чем больше. Прошу вас, гг. присяжные, очистить это дело от всех излишних наростов и утолщений, наложенных обвинителями. Все трое подсудимых связаны между собою крепкой связью. Выделив одного, обвинение падает; не выскочит один подсудимый – все должны остаться; выскочит один – стена разрушится, и они все свободны. Товарищ прокурора обвинял Рудометова так слабо, что казалось, он выпрашивал его». Все дело распадается на две части: достаточно ли удостоверен факт поджога и доказано ли, что поджог совершен именно Овсянниковым. Предоставляя на первый вопрос ответить своим товарищам по защите, защитник в своей речи прежде всего старался разъяснить вопрос, действительно ли Овсянников умыслил поджог? Тут главным образом представляется, имел ли Овсянников выгоду для поджога? Для исчислений всякой выгоды, по мнению защитника, существует два приема: один – a priori прием бюджетный, другой прием исчисления выгод на основании достигнутых результатов. При всяком бюджетном исчислении требуется, чтобы цифра прихода сходилась с цифрою расхода. Обвинение в своих расчетах совершенно упустило из вида расходы, требуемые на превращение ржи в муку. Ведь и на низовьях за перемол надо платить. Второе предположение, будто бы Овсянникову было несравненно выгоднее ставить муку, чем рожь, неверно, так как по документам, представленным обвинением, видно, что цена на муку на приволжских пристанях всегда была выше ржи. Кроме того, выгоду в поставке муки вместо ржи усматривают в возникающей вследствие того упрощенной отчетности. Это неверно. Но главное обвинение сводится к тому, что Овсянников хотел овладеть долгосрочным подрядом. Все это обвинение построено на таком силлогизме: Овсянникову выгоден пожар мельницы – следовательно, он и сжег ее. Но подобная улика имеет такое же значение, как если бы подрядчика, взявшего на себя ремонт по железной дороге, привлекли бы к уголовной ответственности в случае крушения поезда на том-де основании, что ему, подрядчику, придется сделать новые оси, рессоры и т. д. Словом, ему выгодно крушение, ergo – он его и вызвал. Делая такие предположения, можно дойти до абсурда. Соглашаясь с тем, что контракт этот выгоден, защитник напоминает присяжным установленный судебным следствием факт, что долгосрочный подряд без мельницы не мыслим. «Возможно ли допустить, чтобы Овсянников, стремясь к долгосрочному подряду, собственными руками разрушал мельницу и тем парализовал выполнение заветной идеи?» Свидетелям Пелю и Гутману доверять нельзя: факт, что котлы требовали починки, удостоверен. К числу улик относится также пропажа из интендантства страховых квитанций, но каких квитанций, никто не объяснил. Обвинение указывало также, что хлеб не был, вопреки обязательству, застрахованным в деревянных магазинах, но не доказано, были ли вообще продукты в магазинах. Говорят, что, кроме выгоды, поджог мельницы ничего не мог принести, а сгоревшие 15 тысяч кулей муки причисляют к пожертвованиям. Но нельзя, в самом деле, пожертвование считать выгодой. Вообще, определяемые барыши Овсянникова утолщаются, убытки сокращаются донельзя или устраняются вовсе. Впрочем, обвинение назвало экспертизу Зибера плохою. Промах его уже чересчур был очевиден: почтенный эксперт по бухгалтерии ошибся только на 60 тысяч рублей выгод. Защитник, далее, доказывал несостоятельность улик, будто бы Овсянников стремился получить нравственную выгоду от поджога мельницы, что, уничтожая ее, он желал будто бы отомстить Кокореву. Заключая свою речь, защитник выразил присяжным свою уверенность, что у них хватит гражданского мужества очистить настоящее дело от всех наростов. «Прошу вас,– сказал он,– не судите моего клиента как купца, как человека с общественной деятельностью, как семьянина, не за его характер, не за его отношение к семье, а как преступника только по тому вопросу, совершил он поджог или не совершил его?»