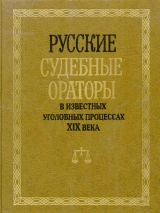
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 90 страниц)
Говорили вам потом, что нельзя похитить то, что находится в ваших же собственных руках, а между тем все в доме покойного Занфтлебена, в том числе и денежные документы, находились в руках Ольги Петровны Занфтлебен, в полном и непосредственном ее распоряжении. Откуда почерпнула защита такие сведения, откуда вывела она такое необычайное заключение об общности имущества супругов, лишающей жену всякой возможности похитить что-либо у мужа, я понимать отказываюсь; во всяком случае, эти сведения и это заключение вытекают не из обстоятельств настоящего дела и не из закона.
Доказывали перед вами, наконец, и доказывали с жаром, достойным лучшего дела, что во всех обнаруженных на суде действиях подсудимых нет ни малейших признаков умысла воспользоваться забранными документами, нет никакой корыстной! цели, никакого преступного намерения. Против этого спорить я теперь не стану; с одной стороны, опровергать такие доказательства и соображения защиты значило бы вновь повторить все те бесчисленные данные, в которых преступный умысел выступает и бьет в глаза на каждом почти шагу, а с другой, по способу аргументации, принятому защитой, возражать ей мудрено. Вопрос о том, можно ли видеть в известных поступках подсудимых признаки умысла на преступление, защита ставит на почву такую шаткую и скользкую, что разрешение этого вопроса является просто делом вкуса. При известном взгляде на вещи, пожалуй, и ни в чем не увидишь умысла. Похититель, забравшийся в дом через взлом окна и схваченный на месте, может сказать, что он просто-напросто пришел в гости; похититель, запустивший руку в карман прохожего и в этом же положении настигнутый, ведь может объяснить, что он руководствовался только чувством любопытства, желанием узнать, что лежит в кармане. Ведь и такие объяснения можно, если хочется, признать правдоподобными, и в таких положениях, при особом к тому стремлении, не видеть и тени умысла на преступление...
Говорили еще, что душеприказчик в силу такого своего звания не имеет никакой ни физической, ни юридической возможности похитить или присвоить себе имущество, оставшееся после смерти завещателя, что настоящее дело чисто гражданское, что... но довольно! Всего не перечтешь! Много юридических вопросов поднимала и победоносно в свою пользу разрешала красноречивая защита, в обширные и глубокие разъяснения и толкования закона вдавалась она, но как-то невольно по поводу всех этих вопросов, разъяснений и толкований, нимало, впрочем, не поколебавших конечный вывод обвинения, на мысль приходят те пророчески-скорбные слова великого преобразователя русской земли, которые написаны там, на зерцале, стоящем на судейском столе: «Понеже ничто так к управлению Государства нужно есть, как твердое хранение прав гражданских, понеже всуе законы писати, ежели их не исполняти, или ими играти, как в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас было, а отчасти и еще есть и зело тщатся всякие меры чинить под фортециею правды!»
После этой речи говорил поверенный гражданских истцов присяжный поверенный Пржевальский. Господа присяжные! Выслушанные вами объяснения защиты ставят меня в необходимость представить вам со своей стороны возражения, которые отнимут, впрочем, у вас немного времени, так как я не стану говорить по поводу всех, иногда более чем странных доводов, которые приводились защитой вследствие, быть может, весьма понятного увлечения целью достигнуть оправдания подсудимых, и ограничусь в своем ответе только самым существенным. Дело идет об имуществе умершего Василия Карловича Занфтлебена. Дети его являются на суде и просят, чтобы им возвратили это имущество, которое у них похитили. Как ни справедлива такая просьба, как ни законно подобное желание, но защита говорит вам, что наследникам Занфтлебена нельзя доверять, потому что это лица, прямо заинтересованные в деле. Пусть будет так; не верьте им. Верьте вашим собственным глазам и вашему здравому смыслу.
Умерший после себя оставил книги, из которых вы сами рассматривали в числе вещественных доказательств его кассовую книгу. Это была несомненно его книга, и что же вы в ней видели? Что в ней значатся проценты, которые получались с генерала Гартунга до последних дней жизни Василия Карловича Занфтлебена, и поступали они в кассу его, а не Ольги Петровны. Вам показывали его алфавитную книгу – и в ней написаны имена его должников, тех самых, векселя которых Ольга Петровна присваивает себе. Но к удивлению нашему оказывается, что книги принадлежат Василию Карловичу Занфтлебену, касса его, деньги давал взаймы он, проценты получал он, а капитал не его. Здесь в объяснениях по этому поводу со стороны Ольги Петровны начинается нечто вроде игры в прятки, причем одна книга служит для нее ширмой при объяснениях другой. Ее спрашивают: как мог Василий Карлович Занфтлебен постоянно, до самой смерти получать в свою пользу проценты с Гартунга, когда капитал и векселя уже не принадлежали ему? Ольга Петровна отвечает, что она подарила ему проценты, а доказательством того, что векселя не принадлежали ему, служит, по ее словам, алфавитная книга, в которой они поэтому и не записаны. После такого объяснения естественно предположить, что, стало быть, алфавитная книга Василия Карловича Занфтлебена служит доказательством принадлежности ему векселей. А между тем из числа векселей, записанных в этой книге, на 81 тысячу 916 рублей оказываются собственностью Ольги Петровны! Будь налицо вексельная книга, то, конечно, такие объяснения были бы немыслимы, так как эта книга совместно с кассовой тотчас бы доказала всю их несостоятельность. Вот почему, повторяю я снова, для подсудимых была необходимая потребность уничтожить эту книгу; но им не удалось скрыть вполне доказательства принадлежности векселей Василию Карловичу Занфтлебену. Для этого нужно бы было уничтожить и кассовую, и вексельную книги; но тогда уже самый факт исчезновения деловых книг покойного Занфтлебена служил бы против подсудимых несомненной уликой.
Какую-нибудь книгу надо было оставить, и оставить кассовую было вполне выгоднее, потому что можно было похитить более, ввиду того, что в кассовой книге отмечались лишь одни текущие платежи. Если вычеркивался вексель из вексельной книги и не переносился на следующий месяц, то по нему необходимо должно было значиться получение денег в кассовой книге; в случае же неплатежа по векселю капитальной суммы и процентов никакого следа этого векселя в кассовой книге не оставалось, и, за уничтожением вексельной книги, доказать документально его существование становилось невозможным. Это объясняет нам, почему в кассовой книге не встречается многих из тех векселей, которые с ответственным бланком Василия Карловича Занфтлебена явились в виде подарка у Ольги Петровны Занфтлебен. Что бланки на этих векселях были выставлены давно для дисконта и взыскания по некоторым из них, это представляется несомненным ввиду показания свидетеля Спиро.
Но особенного внимания заслуживает вексель, выданный этим свидетелем в мае 1876 года и подаренный, по словам Ольги Петровны, ей в апреле того же года. Я предложил защите объяснить нам этот факт, и защита смело и отважно приняла мой вызов. Я, признаюсь, с немалым изумлением ждал подобного рода объяснения и недоумевал, каким образом можно передать из своих рук в руки другого в виде подарка то, чего сам не имеешь и что в действительности не существует. Но в ответе защиты я нашел только, говоря известным выражением, одни «слова, слова, слова!» Вместо ожидаемого объяснения факта, удостоверенного подсудимой, я услыхал собственное сочинение защитника. Смысл его объяснений был, насколько помню, таков, что Ольга Петровна Занфтлебен могла забыть время получения в подарок этих векселей, так как в человеческой памяти удерживаются события, но забывается время. Уже представитель обвинения справедливо заметил, что трудно, невозможно забыть время получения в подарок такой крупной суммы как с лишком 80 тысяч рублей! Я думаю, что не только Ольга Петровна Занфтлебен, но и лицо, гораздо более состоятельное, нежели она, не забыло бы на всю жизнь о времени такого подарка. Но, кроме того, я с особенной силой настаивал при судебном следствии на том, чтобы Ольга Петровна Занфтлебен указала нам, когда именно она получила в подарок от своего покойного мужа векселя на сумму 81 тысячу 916 рублей, в числе которых находится и вексель Спиро, и она не сказала, что не помнит времени, когда это было, но самым точным образом определила передачу ей этого подарка в конце апреля 1876 года.
Я обращаюсь, господа присяжные, к вашему здравому смыслу, который укажет вам, насколько могут заслуживать доверия показания Ольги Петровны Занфтлебен по настоящему делу и насколько они могут быть признаны правдоподобными при существовании того духовного завещания, которое составил Василий Карлович Занфтлебен. Не имел же в самом деле в виду старик Занфтлебен, распределяя между детьми свое имущество, не оставить им из этого имущества ничего! Защита старалась в своих речах, между прочим, доказать, что состояние Василия Карловича Занфтлебена было вовсе не так громадно, как говорят его дети. Но если это верно, то ведь по отношению к разбираемому вопросу это служит скорее в пользу обвинения, нежели во вред ему; здесь можно сказать: чем хуже, тем лучше. Чем меньше было состояние у Василия Карловича Занфтлебена, тем меньше вероятен факт подарка в 81 тысячу 916 рублей Ольге Петровне Занфтлебен. Отдавая ей векселя со своим ответственным бланком, он давал ей право по смерти взыскивать деньги по этим векселям с его детей; и в настоящее время она, конечно, не станет разыскивать должников, но получит исполнительный лист на наследников и будет, по мере взыскания ими денег с других кредиторов, брать эти деньги в удовлетворение своей претензии, пока не выберет всего сполна.
Господа присяжные! Вопрос об этом деле поставлен ребром: или Ольга Петровна Занфтлебен, жившая три года тому назад в одной комнате за 10 рублей в месяц (я говорю это не в смысле упрека ее бедности, я слишком далек от этого, но указываю лишь на факт) и получающая теперь по духовному завещанию 10 тысяч рублей вместе со всею движимостью, помимо того, что ею приобретено уже при жизни мужа или скрыто после его смерти, получит еще с лишком 80 тысяч рублей, а детям отца, считавшего свое состояние сотнями тысяч, не достанется почти ничего, или же каждый получит то, что ему назначено по духовному завещанию согласно воле умершего. Василий Карлович Занфтлебен оставил после себя духовное завещание, в котором он никого не обидел, но сделал, во избежание всяких споров и недоразумений, самые точные указания относительно распределения своего имущества, чтобы каждый пользовался тем, что ему назначено, и не искал захватить того, что ему не следует. В этом завещании, замечательно справедливом по его внутреннему содержанию, сказался отчасти характер того оригинального старика, который, не находя никакой процент высоким, в то же время считал бесчестным взыскивать по дубликатам векселей и, добровольно возвращая их даже тогда, когда о существовании их плательщику не было известно, говорил: «Я не уступлю своего, но не хочу чужого». Да позволено будет мне, являющемуся представителем интересов детей умершего, сказать подсудимым его словами: «Мы не хотим чужого, вашего, но отдайте нам наше, мы его вам не уступим». И думается мне, что суд совести не оставит в руках подсудимых то, что они присвоили себе путем беззакония. Вчера защитник Ольги Петровны Занфтлебен сказал, что мы пришли сюда для того, чтобы раздавать премии за добродетель. Это совершенно верно, да, признаюсь, и немного затруднительно было бы рассуждать о добродетели в смысле защиты Ольги Петровны Занфтлебен. Но, господа присяжные, если мы пришли сюда не для выдачи премий добродетели, то и не для того же, чтобы через оправдание подсудимых раздавать награды за преступление!
Помощник присяжного поверенного Курилов. Возражая защите, обвинитель и гражданский истец говорили вам, что защита неправильно представила факты и, однако, не указали этих неправильностей, а напротив, обвинитель высказал несколько соображений, подтверждающих доводы защиты. Из них более существенное значение имеет указание на то, что вычеркивать в вексельной книге не позволяло время, так как для этого нужно было проверить книгу с векселями; если время не позволяло этого, как же в таком случае обвинитель приписывает подсудимым более сложную работу, говоря, что они составили алфавитную книгу вместо вексельной. Для того и другого нужно векселя проверить и, если на это безусловно нет времени, то, стало быть, алфавитная книга написана при жизни Занфтлебена и может служить для проверки, а из алфавитной мы не замечаем того, что доказывало обвинение по вопросу о расхищении имущества. Что же касается до гражданского истца, то он в конце своей речи высказал цель настоящего дела. Он не возражал против доказательств, а сказал вам, что пред вами явились наследники и просят возвратить, что, по их мнению, отнято. То, что принадлежит наследникам, они получат во всяком случае, но ставить судьбу людей наряду с деньгами и просить присяжных обвинить людей без фактов, без улик нельзя.
Далее, после кратких возражений других защитников, последовали слова подсудимых и резюме председательствующего; затем присяжным заседателям был вручен вопросный лист с 61 в нем вопросом. После 4-часового совещания присяжные заседатели вынесли вердикт, в коем признали виновными генерала Гартунга и О. П. Занфтлебен в тайном похищении вексельной книги с целью получить через то выгоду, и в таком же похищении некоторых векселей по предварительному уговору с другими лицами; Алферова в присвоении векселя Николая Занфтлебена, переданного ему покойным для взыскания. Ланского и Мышакова признали невиновными.
Обвинительный приговор, вынесенный присяжными заседателями Гартунгу, Ольге Занфтлебен, только подтвердил, что жить с этим больше нельзя, и, выслушав его, генерал Гартунг тут же, в суде, застрелился.
Понуро расходилась из суда и публика, видимо, сожалея о тех овациях, которые за три часа перед тем она так шумно и восторженно расточала перед жестоким талантом молодого обвинителя.
Смерть с лихвою искупила грех обвиняемого, и по отношению к нему осталось только сожаление.
Угнетающим образом подействовала эта смерть и на суд, и объявление резолюции было отложено до следующего дня.
На другой день приговор Алферову и Ольге Занфтлебен был объявлен в совершенно пустом зале. Никому уже не пришло в голову отягчать их положение всенародным позором, да и присуждены они были к сравнительно кратковременной ссылке: Занфтлебен – в Сибирь, а Алферов – в Олонецкую губернию. Граф же Ланской и Мышаков были оправданы.
А впоследствии Сенат кассировал не только приговор, но и самое предание суду по тому делу, находя, что в данном случае нет состава преступления.
Процесс интересен блестящими выступлениями обвинителя П. Н. Обнинского и защитника Ф. Н. Плевако, которые сумели достойно повести себя в достаточно щекотливой ситуации, вызванной непродуманным поведением членов суда.
ДЕЛО КАЧКИ
Заседание Московского окружного суда с участием присяжных заседателей, 22 и 23 марта 1880 г.
По обвинению в предумышленном убийстве посредством выстрела из револьвера дворянина Байрашевского суду предана дворянка Прасковья Петровна Качка, 19 лет.
Председательствовал товарищ председателя Д. Е. Рынкевич, обвинял прокурор окружного суда П. Н. Обнинский, защищал присяжный поверенный Ф. Н. Плевако.
По открытии судебного заседания были введены врачи-эксперты Левенштейн, Державин, Добров, Булыгинский и Гиляров, которые и остались присутствовать при судебном следствии.
Из свидетелей не явились по законным причинам: Мария и Ольга Пресецкие, Мисенчевич, Синькевич – по жительству в другом судебном округе, Перо и Александра Качка – по болезни.
Содержание обвинительного акта заключается в следующем:
15 марта 1879 года, около 7 часов вечера, в меблированных комнатах рижского гражданина Шмоля, в доме Квирина, в квартире, занимаемой студентом Технического училища Гортынским, дворянка Прасковья Качка выстрелом из револьвера убила дворянина Байрашевского.
Показаниями свидетелей, очевидцев этого убийства, выяснено следующее. В этот день, около 6 часов вечера, в квартиру Гортынского, занимавшего в доме Квирина только одну небольшую комнату, кроме упомянутых Качки и Байрашевского, собрались его знакомые, студенты Технического училища Савич, Мисенчевич, Тянгинский, Перо, Виленский и Малышев. Все они пели сначала хором, а потом вследствие просьбы некоторых из присутствующих Качка стала петь одна. Поместившись против Байрашевского, который сидел за столом в расстоянии одного или двух шагов от нее, Качка пробовала петь несколько песен и романсов, но голос ее дрожал и обрывался; во время пения последнего романса она внезапно прервала его и, вынув из кармана револьвер, выстрелила в Байрашевского. Это произошло так неожиданно, что никто из присутствующих не имел возможности предупредить случившегося. Пораженный пулей в правый висок Байрашевский не успел произнести ни одного слова, упал со стула и тотчас же умер. Качка после сделанного ею выстрела опустилась на стоявшую подле кровать, около которой впоследствии свидетелями был поднят револьвер с пятью зарядами.
По прибытии полиции, тотчас же приглашенной на место происшествия самими свидетелями, Качка заявила, что причины, побудившие ее совершить убийство, она объяснить не желает, добавив при этом, что собиралась убить Байрашевского уже давно.
При первом допросе у судебного следователя, признавая себя виновной в убийстве с заранее обдуманным намерением, Качка показала, что решилась еще за месяц перед тем покончить с Байрашевским. Далее она объяснила, что револьвер она приобрела за неделю до убийства в Москве, в магазине «Центральный склад оружия» (что и подтвердилось при следствии) и накануне убийства зарядила его шестью пулями; убив Байрашевского, она хотела убить и себя, но не успела этого сделать, так как револьвер выпал у нее из рук. На вопрос о причинах, побудивших ее совершить преступление, она ответила: «Мы любили друг друга; любить нам мешало постороннее обстоятельство, в силу которого я и убила его. Обстоятельство это разъяснить я не желаю, потому что нахожу его не относящимся к делу».
Дальнейшим следствием было выяснено, что с августа 1878 г. Качка поселилась в Петербурге, где она слушала университетские курсы и близко сошлась со слушателем Медико-хирургической академии Брониславом Байрашевским, с которым еще раньше была знакома, живя с ним в Москве на одной квартире. В Петербурге это знакомство перешло в любовную связь. Байрашевский дал обещание Качке жениться на ней, но под разными предлогами постоянно уклонялся исполнить это и в последнее время, видимо, стал избегать встречаться с ней. Причиною такого поведения Байрашевского была любовь к другой женщине, подруге Качки – девице Ольге Пресецкой, которой он также дал слово сделаться ее мужем. Качка, заметив охлаждение к ней Байрашевского и любовь его к Пресецкой, изменила свои дружеские отношения к последней. Стараясь безуспешно возвратить к себе любовь Байрашевского, впала в состояние раздражения и однажды на вопрос Марии Пресецкой (сестры Ольги Пресецкой), что бы Качка сделала, если б человек, которого она любит, полюбил другую, Качка ответила, что убила бы себя и его для того, чтобы оставить третье лицо одно наслаждаться. Пресецкая передала эти слова Байрашевскому, посоветовав ему остерегаться Качки.
26 февраля 1879 года Байрашевский уехал в Москву, предполагая пробыть здесь несколько дней и затем, дождавшись приезда из Петербурга Ольги Пресецкой, ехать вместе с последней к своим родным. Об отъезде Байрашевского Качка узнала в тот же день и со следующим поездом отправилась также в Москву. Прибыв сюда, она первоначально остановилась в Северной гостинице, близ вокзала Николаевской железной дороги. Затем, через два месяца, переехала в Бригадирский переулок, в д. Мартынова, в квартиру Марии Пресецкой, где остановился Байрашевский. Пробыв у Марии Пресецкой дня три, Качка переехала в меблированные комнаты Шмоля, где и прожила до последнего времени. Отсюда дней за десять до совершения убийства она написала и отослала по городской почте в Московское губернское жандармское управление письмо следующего содержания: «Спешите арестовать очень опасную молоденькую пропагандистку, которая намеревается в это лето много навредить вам. Ее фамилия – Прасковья Качка»; затем следует адрес ее квартиры.
15 марта утром приехала в Москву Ольга Пресецкая и остановилась у своей сестры в доме Мартынова. На вокзале она была встречена Байрашевским, который, пробыв с нею вместе в квартире ее сестры до 5 часов вечера, отправился к Гортынскому, где и сообщил Качке о приезде Ольги Пресецкой.
По предъявлении Качке показаний свидетелей, она дала более определенное объяснение о причинах, побудивших ее убить Байрашевского, причем объяснила, что страдающее самолюбие заставило ее прежде молчать о бесчестном поступке Байрашевского относительно ее, и затем подробно рассказала о своем внутреннем состоянии в то время, когда впервые у ней явилось сомнение в любви к ней Байрашевского, которому она отдалась, рискуя сделаться матерью; о тех душевных страданиях, которые испытывала она, когда окончательно убедилась в отсутствии этой любви и узнала о любви его к Пресецкой; как затем ее собственное чувство любви к Байрашевскому смешалось с чувством ненависти к нему же и как, наконец, она, подавленная отчаянием, решилась убить последнего. «Страданий чаша переполнилась,– говорит она в своем показании,– и я решилась убить себя» и затем, как бы оправдываясь, что не сделала этого, продолжает: «Чтобы лишить себя жизни, нужно иметь много и много присутствия духа. Купила я револьвер, думая не сегодня, так завтра покончить с собой. Он (Байрашевский) не верил этому, смеялся над моим решением, смеялся, как я узнала, с этой женщиной (Ольгой Пресецкой), ставшей нам поперек дороги. Вообще, от ненависти до любви один только шаг. И вот минутами я начала ненавидеть его, ненавидеть и в то же время любить больше жизни». По поводу выше приведенного письма, посланного в жандармское управление, Качка объяснила, что, отправляя это письмо, она хотела, чтобы какая-нибудь посторонняя сила удержала ее от убийства.
По инициативе брата и матери обвиняемой при производстве предварительного следствия был возбужден вопрос о психическом состоянии Качки во время совершения ею преступления. Поводом к этому послужило заявление брата ее, студента Горного института Александра Качки, который в заявлении своем, поданном прокурору, утверждал, что Качка беременна, и просил произвести освидетельствование ее умственных способностей. Предположение о беременности Качки оказалось ложным, и хотя приглашенный для первоначального освидетельствования исполняющий должность главного врача Преображенской больницы Державин, основываясь главным образом на объяснении самой обвиняемой, признал достаточно доказанным, что Качка совершила свой поступок в припадке умоисступления, обусловленного поражением центральной нервной системы, и что после совершения убийства она впала в тоскливое возбужденное настроение духа с наклонностью к самоубийству, в каковом находится и до настоящего времени (15 июня 1879 г.), но дальнейшее продолжительное наблюдение врачей над Качкой обнаружило неосновательность такого заключения: врач Рубинштейн, посещавший Качку во время содержания при Басманном доме, старший врач тюремных больниц Булыгинский, наблюдавший Качку в течение более месяца в больнице, и, наконец, врачи, производившие освидетельствование Качки в присутствии Московского окружного суда – начальник Московского врачебного управления Кетчер, непременный член того же управления Добров и врач Пятницкой части Гиляров нашли, на основании подробно изложенных в заключении своем выводов и соображений, что Качка умственно здорова и что во время совершения ею убийства она не была лишена сознательной воли.
Наконец, и сама обвиняемая при заключении следствия, в последних своих показаниях между прочим говорит в этом отношении следующее: «Что доктора признали меня не сумасшедшею, так иначе и быть не могло, ибо я действительно нормальна в умственном отношении». «Никогда не будет примирения совести, потому что я в своих собственных глазах, помимо суда, людей и Бога вполне виновна пред собой, пред вами и обществом. Преступно мое прошлое, бесполезно настоящее – судите беспощадно!»
В словах этих нельзя не видеть прямого указания на то, как сознательно относится сама обвиняемая к совершенному ею преступлению.
Вследствие чего поименованная дворянка, Прасковья Качка, 19 лет, обвиняется в убийстве и подлежит суду с участием присяжных заседателей.
На судебном следствии подсудимая признала себя виновной в убийстве Байрашевского и рассказала, что родилась в Оренбургской губернии и при жизни отца, который умер, когда ей было пять или шесть лет, жила в деревне. После смерти отца мать ее вышла во второй раз замуж за гувернера Битмиди, когда ей было лет 9, она была увезена в Петербург, где воспитывалась до 4 класса в гимназии. Когда семья ее переехала в Москву, она училась в гимназии в Москве до 16 лет. Не окончив курса, по настоянию матери выйдя из третьего класса, она уехала в деревню, в имение отчима, в 'Тульскую губернию, где прожила с полгода, и с отчимом приехала снова в Москву, а мать ее осталась в деревне. В Москве познакомилась с Ольгой Пресецкой, которую она очень полюбила. Не желая возвращаться в деревню и несмотря на неудовольствие отчима, она осталась жить в Москве и поселилась вместе с Ольгой Пресецкой, которая жила в меблированных комнатах. Приблизительно через месяц после того они встретились и познакомились с Байрашевским, которому было в это время 20 лет. Это было весной 1878 года. Пресецкая уехала на лето в Полтавскую губернию, а она в деревню к матери. В конце июля ее мать вследствие разлада с мужем уехала в Варшаву, а она с отчимом в Москву, где у Марии Пресецкой, которая была на курсах, встретилась снова с ее сестрой, Ольгой Пресецкой и, прожив с ней до августа, уехала с ней в Петербург к Байрашевскому, с которым они и поселились в квартире на Петербургской стороне. Здесь она жила не прописанной, так как опекун не давал ей вида на жительство. Когда приехал в Петербург ее отчим, он хотел поселиться вместе с ними, но помещение, состоящее из двух комнат, было слишком тесно. Она с Ольгой Пресецкой переехала на Бассейную улицу, где была прописана только одна Ольга Пресецкая, а ее отчим жил вместе с Байрашевским. Байрашевский сначала был студентом Технического училища, затем перешел в Медико-хирургическую академию в Петербурге, из которой впоследствии также вышел, думая поселиться в деревне. Отчим ее был арестован и выслав за границу. В Петербурге она ничем определенным не занималась и ходила читать книги в Публичную библиотеку. Из Петербурга она приехала в Москву в тот же день, в который и Байрашевский, и остановилась сначала в Северной гостинице, а потом дня четыре жила у Марии Пресецкой.
От Марии Пресецкой она переехала в номера Квирина, где жил Гортынский, товарищ Байрашевского по Техническому училищу. Здесь к ней раз или два заходил Байрашевский. Накануне убийства она разочлась за номер и раздарила все вещи, а ранее того снималась в фотографии и раздавала карточки. Многое из подробностей, предшествовавших убийству и сопровождавших его, она совершенно не помнит: тогда она себя чувствовала как в лихорадке. В продолжение целого месяца она думала то убить Байрашевского, то себя, и намерения эти постоянно перемежались.
Из свидетельских показаний представляют интерес следующие:
Свидетель Савич, подтвердив обстоятельства события, изложенные в обвинительном акте, заметил, что на основании разных мелочей он заключил, что подсудимая была не вполне нормальна.
Свидетель Гортынский, между прочим, сообщил мнение, которое он составил о подсудимой. Он находил ее женщиной весьма умной, не ставящей себе узкой цели в жизни; она не думала о нарядах, смотрела на жизнь серьезно, хотела трудиться, следила за текущей журналистикой, занималась политической экономией и общественными вопросами. За несколько дней до убийства подсудимая часто заходила к свидетелю и постоянно говорила о Байрашевском и о своих к нему отношениях, прежних, более дружественных, и новых, когда Байрашевский стал безразлично, холодно относиться к ней. То она восхищалась Байрашевским, восхваляя его, то бранила его. Часто она приходила в отчаяние и говорила, что покончит с собой. Однажды она Байрашевского увидала куда-то уезжающим, с чемоданом в руках. Это обстоятельство на нее так подействовало, что она провела всю ночь в самых ужасных истерических припадках. Ненормальное ее поведение заставило свидетеля предложить ей положить револьвер, которым она запаслась заранее, в его комод, на что она согласилась, но через несколько времени стала просить его отдать ей револьвер, говоря, что в магазине револьверов много, что она может купить другой, если решит покончить с собой, и что подобные меры ее остановить не могут. Видя логичность этого рассуждения, свидетель отдал ей револьвер. 15 марта Качка была заметно возбуждена, ходила по комнате и пела, но пение ее часто обрывалось. Комната была узкая, было в ней человек десять и места оставалось очень немного. За несколько минут до убийства она остановилась перед Байрашевским, который сидел за столом и пил чай. Тут же стоял комод, так что расстояние до Байрашевского было в один шаг. Качка продолжала петь. Затем пение ее оборвалось, песню подхватили другие. В этот момент раздался выстрел, и Байрашевский упал. Вслед за выстрелом она также упала на кровать, и с нею началась истерика: она смеялась, плакала и затем сказала, что жалеет, что не убила себя, что револьвер выпал из ее рук. Истерика продолжалась беспрерывно, и началась галлюцинация: она говорила, что Байрашевский жив, он под снегом, под покрывалом, что он явится и они заживут вместе. Свидетель ее навещал после того в Басманной части; она относилась ко всему бессознательно, ничто ее не интересовало, и продолжала казаться ненормальной.
Свидетель Малышев рассказал, что Качка, которую он видел в Петербурге месяца за два до убийства Байрашевского, показалась ему очень странной, была молчалива, в ней заметны были признаки человека, который не может найти себе места, голос ее был какой-то особенный: не то просящий, не то молящий.








