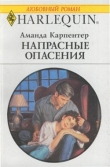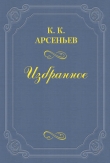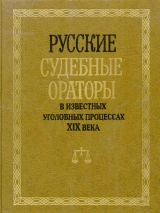
Текст книги "Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века"
Автор книги: И. Потапчук
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 90 страниц)
Господа присяжные! Когда обвиняют человека в каком-либо преступлении, то судья требует прежде всего фактов, на которых это обвинение основывается. Если закон и совесть даже самый факт, возбуждающий сомнение, велят истолковывать в пользу подсудимого, то тем более странным для совести судьи является обвинение, лишенное всяких фактов, которые бы служили ему доказательством. Таким положительным отсутствием фактов блистает обвинение Либермана по делу об обмане Попова. Чувствуя всю шаткость почвы, обвинитель старается заменить такое отсутствие данных к обвинению смелостью предположений, выводя их из области фактов, не имеющих: никакой связи с обманом Попова. К числу таких фактов обвинительная речь относит прежде всего близость Либермана к Давидовским и частое посещение Либерманом Протопопова. Для объяснения этого обстоятельства, выставляемого обвинителем уликой преступления, я считаю нужным обратиться к рассказу самого подсудимого. Подсудимым, гг. присяжные, на суде позволяют очень много говорить и в то же время обыкновенно им очень мало верят. Но бывают личности, которые возбуждают к себе невольную симпатию своей искренностью и правдивостью; им веришь, где бы они не находились,– будут ли они среди нас в самом утонченном светском костюме или же за решеткой подсудимых в сером арестантском халате. Они внушают к себе доверие даже там, где им менее всего склонны верить. Такой правдой, глубокой, неподдельной искренностью дышал, как вы, вероятно, помните, небольшой по словам, но богатый по содержанию рассказ подсудимого Либермана, за которым не мог не признать правдивости и искренности даже сам обвинитель. Из этого рассказа мы узнаем, что Либерман начал свое знакомство с Давидовскими еще во 2 классе гимназии, и здесь он подружился с ними, в особенности с Петром Давидовским. Шесть лет гимназического ученья и четыре года университетского скрепили их дружбу. Кому из нас неизвестна эта дружба со школьной скамьи, память о которой свято хранит в себе каждый человек и с которой бывает жаль расстаться, потому что такая дружба уже не приобретается в жизни впоследствии? Эта-то дружба, гг. присяжные, которая заставляет слепо верить в человека, закрывать глаза на его недостатки, объяснять по-своему его слабости и дурные дела, та дружба, которая любит честно, бескорыстно, беззаветно и умеет многое прощать,– такая-то дружба связала Либермана с Давидовскими. По выходе из университета Либерман расстался с ними, и каждый пошел своей дорогой. Но они сохранили в себе прежнее чувство и, расставаясь, дали слово друг другу в случае приезда в тот город, где будет жить кто-либо из них, останавливаться один у другого. Либерман получил место на каменноугольных копях в Тульской губернии и уехал туда. В Туле он познакомился с Протопоповым и даже жил с ним вместе некоторое время; он знал Протопопова за человека, бывшего богатым, но затем потерявшего все свое состояние. В самом конце июля или начале августа Либерману нужно было съездить в Москву по своим делам. Приехав в Москву, он, согласно данному слову, отыскал Давидовских и остановился у них. Несчастная звезда его привела в этот дом Любимова.
Спустя некоторое время явился в Москву и Протопопов, хорошо знакомый также и с Давидовскими. По приезде Протопопов сообщил, что у него умер богатый дед Коноплин, помещик Тамбовской губернии, и оставил ему богатое наследство в недвижимых имениях, не оставя, впрочем, никакого денежного капитала. Никто не усомнился в справедливости этого рассказа, настолько он оказался правдоподобным; по крайней мере, Либерман искренно верил в богатое наследство Протопопова, как верил тому же свидетель Симонов и другие. Вот каким простым образом, гг. присяжные, объясняются как близкие отношения Либермана к Давидовским, так и посещения им Протопопова. Точно так же, как и приводимый обвинителем второй факт, служащий, по его мнению, уликою против Либермана в деле Попова, т. е. взятие Либерманом двух векселей на свое имя. Весьма естественно, что Либерман, не имевший в Москве никого знакомых, кроме двух братьев Давидовских и Протопопова, мог часто посещать этого последнего. Весьма естественно также, что считая Протопопова богатым человеком, только временно не имеющим наличных денег, он не считал преступным оказать как ему, так и Давидовским товарищескую услугу, согласившись, чтобы два векселя, дисконтированные потом у ростовщиков Султан Шаха и Пономарева, были написаны Протопоповым на его, Либермана, имя. Сами ростовщики, как вы слышали, просили об этом. Тут не было и не могло быть с его стороны никакого обмана, и имя Либермана, ставившего на этих векселях безоборотные бланки, не имело никакого значения в смысле состоятельности или несостоятельности его к уплате, так как верили не ему, а Протопопову и Давидовскому, что ясно видно из свидетельских показаний упомянутых ростовщиков. Может быть, это было неосторожно со стороны Либермана, и знай он, что впоследствии этот факт будут выставлять против него уликою в совершении преступления, он наверно бы этого не сделал; но он никогда не мог предполагать ничего подобного. Да и какое, в самом деле, может иметь отношение выдача Протопоповым означенных веселей, из которых один даже оплачен, на имя Либермана к делу об обманной покупке лошадей у Попова? Точно так же, какою уликою в этом деле может быть последнее из указанных обвинителем в подтверждение виновности Либермана обстоятельств, а именно, передача хозяину гостиницы Шеврие Вавассеру Либерманом векселя Протопопова в 225 рублей с указанием будто бы ложного адреса Протопопова, на Садовой улице, в доме Белкина? Либерман, пришедший к Протопопову в то время, как он собирался уезжать из гостиницы Шеврие, действительно исполнил просьбу Протопопова передать Вавассеру за долг в гостинице вексель, по которому потом и были заплачены деньги, но ложного адреса никогда не указывал, а передал Вавассеру со слов Протопопова адрес помощника присяжного поверенного Симонова, к которому, как он думал, Протопопов действительно переезжает на квартиру. Итак, вы видите, господа присяжные, что ни один из фактов, приводимых обвинителем как доказательство виновности Либермана в покупке лошадей у Попова, не имеет положительно ни малейшей связи с этим делом. А между тем Либермана обвиняют в попустительстве к обману Попова!
Я даже, признаюсь, не понимаю, в какую фактическую рамку событий можно уложить подобное обвинение? В теории, в идее закона такое преступление, как попустительство к обману в имущественной сделке, существует, но в действительности оно представляет неуловимые черты по свойству самого преступления. Обман в имущественной сделке есть преступление, стоящее на грани прав гражданского и уголовного: один шаг в ту или другую сторону – и дело становится или уголовным, или чисто гражданским. Не всякая невыгодная или убыточная сделка по имуществу составляет обман, точно так же, как ряд действий, состоящих в неисполнении принятых на себя обязательств и в обыденном смысле называемых зачастую обманом, не имеет в себе ничего уголовного. Попустительство предполагает по закону знание об умышленном преступлении; но невозможно доказать попустительство там, где до последнего момента нельзя определить свойство самого факта, в смысле гражданской сделки или уголовного преступления. Так, в данном случае, сделка, совершенная Поповым 9 ноября 1871 года, не заключала в себе еще никаких признаков обмана, потому что лошади, оставленные под присмотром конюхов Попова без права отчуждения этих лошадей Протопоповым до уплаты денег, служили во всяком случае полнейшею имущественной гарантией для Попова. Чтобы обвинять Либермана в попустительстве к обману Попова, нужно доказать, что Либерман знал не только об условиях сделки 9 ноября, но и о том, что и 11 ноября Попов сделает надпись на запродажной расписке в окончании по ней расчета; что лошади будут переведены к Крадовилю; что будут совершены фиктивные акты о продаже лошадей Крадовилю, и что, наконец, Крадовиль присвоит этих лошадей себе. Но ни единым словом, ни единым намеком в деле не имеется к этому никаких указаний. Все обвинение Либермана держится только на тех голословных показаниях, которые были даны свидетелем Симоновым и потерпевшим Поповым против Либермана на предварительном следствии; только вследствие непростительной, по моему мнению, доверчивости обвинительной власти к этим показаниям и привлечен Либерман к делу Попова в качестве обвиняемого. Свидетель Симонов на суд не явился без законной к тому причины, и потому показаний его касаться я не могу; но пред нами на суде был достойный друг его и доверитель Николай Ардалионович Попов. Странная судьба этого свидетеля! Как лелеяли и берегли во время предварительного следствия, сколько заботливой работы и труда вложил он в это следствие, в каких разнообразных ролях он не являлся в нем! То он помогает следователю в розысках, то подписывает показания за неграмотных, то присутствует в качестве понятого при обысках; все дело испещрено его многоречивыми свидетельскими показаниями, дополнениями к ним, различными заявлениями, прибавлениями к этим заявлениям и т. д. Много помощи оказал он следователю, много потрудился по делу; и какою же черной неблагодарностью заплатила ему за все это обвинительная власть! Явился он на суд и сразу был переведен обвинителем из излюбленных свидетелей обвинения, каким был при предварительном следствии, в разряд свидетелей сомнительных! На нем оправдалась та старая истина, что есть люди, которыми можно пользоваться, но которых не захочешь иметь своими союзниками. Обвинитель не поскупился на мрачные краски, чтобы нарисовать портрет этого свидетеля: «О нем не знаешь, что сказать,– говорил он на суде,– не то это свидетель, не то подсудимый». Да, господа присяжные, бывают в уголовных процессах такие свидетели, которые одной ногой стоят на свидетельском месте, а другою – за решеткой подсудимых. Это те двуликие Янусы, которые одною своей стороною обращены к белому свету, а другою смотрят на острожные стены. Бедный отставной поручик Николай Ардалионович Попов! Захотелось ему по старой привычке сбыть за двойную цену своих лошадок – не удалось; выручил он их кое-как при следствии предварительном. Явился он затем по зову обвинительной власти на суд – и здесь не посчастливилось: сколько нелестных комплементов пришлось ему услыхать от того, кто сам его призвал. Как же не пожалеть о нем: он вдвойне потерпел – и при следствии предварительном, и на следствии судебном... Но, тем не менее, он является по закону лицом потерпевшим и, следуя объяснению обвинителя, таким свидетелем, который яснее всего должен помнить обстоятельства дела. Что же ответил Попов на мои вопросы о Либермане? Что он Либермана «к этой компании», как он выразился о подсудимых, никогда не причислял; что Либерман никакого участия в деле покупки лошадей не принимал и при заключении сделок не присутствовал; что он ни попустителем, ни пособником к его обману не был и на вопрос о состоятельности Протопопова ответил: «Кто его знает, музыка у него есть»! Вот, все данные, господа присяжные, которые имеются в деле к обвинению Либермана в попустительстве к обману по делу Попова! Я полагаю, что мне нечего прибавлять еще что-либо к сказанному мною, потому что несостоятельность подобного обвинения несомненна и очевидна для всякого непредубежденного судьи. Обвинение это не выдерживает ни малейшей критики, не имеет для себя никаких прочных оснований; это какой-то карточный домик, который стоит только толкнуть пальцем для того, чтобы он развалился.
Еще более мифическим, так сказать, характером отличается, господа присяжные, обвинение Либермана по Еремевскому делу. Впрочем, сам обвинитель счел долгом отказаться от этого обвинения, указав на обнаружившуюся на суде ошибку в показании свидетельницы Еремеевой, на основании которой Либерман был привлечен к этому делу. Дело, видите ли, в том, что при предварительном следствии или следователю не достало времени, или по каким-либо другим соображениям, но Либерман не был оказан Еремеевой, и она по фотографической карточке приняла Фохта, содержателя номеров в доме Любимова, за Либермана. Здесь же на суде Либерман предварительного следствия оказался Фохтом. Я вполне согласен с обвинителем в том, что предание Либермана суду по этому делу есть ошибка; но я думаю, что эта ошибка открылась не на суде, а существовала уже с того времени, как появился на Божий свет тот обвинительный акт, в котором имя Либермана значилось в списке обвиняемых. Какое может иметь, спрашивается, значение в смысле обвинения в пособничестве ко взятию векселей с пьяного Еремеева ответ, данный Глафире Еремеевой, что ее муж уехал с Давидовскими, был ли этот ответ дан Либерманом или Фохтом? Заметьте, что Еремеевой не говорят, что мужа ее вовсе нет или не было,– тогда бы еще можно было видеть в этом желание скрыть его,– но отвечают, что он уехал с Давидовскими, т. е. то, что и было в действительности. Что Клавдия Еремеева в то время, когда за ним приезжала его жена, т. е. 14 августа 1871 года, не могло быть в номерах в доме Любимова, это несомненно доказано по делу. Выходит, следовательно, так, что нужно было солгать, сказать, что Еремеев здесь, когда его не было, для того, чтобы избежать впоследствии обвинения в уголовном преступлении. А между тем, кроме этого ответа, данного Еремеевой, обвинительный акт не приводит положительно ни одного из фактических признаков действительного участия Либермана в преступлении как пособника ко взятию с Клавдия Еремеева в пьяном виде безденежных векселей. Для защиты Либермана даже нет дела до того, в каком состоянии находился Еремеев в описываемое время: был ли он пьян или нет, находился ли в состоянии беспамятства или был в своем рассудке. Чтобы доказать невиновность Либермана, я готов верить на слово обвинительному акту, я беру его целиком, каков он есть, и буду бороться с обвинителем его же собственным оружием.
Три фактических момента указывает обвинительный акт как доказательство преступной деятельности обвиняемых в нем лиц по Еремеевскому делу. Во-первых, спаивание Еремеева в гостинице «Тверь» и взятие там с него вексельных бланков; по указанию обвинительного акта, там были: Петр Давидовский, Ануфриев, а также приезжал и Шпейер. Как вы слышите, господа присяжные, Либерман, по мнению самого обвинителя, в гостинице «Тверь» не присутствовал. Затем, далее следует взятие безденежного векселя в 20 тысяч рублей на имя Алексея Мазурина в конторе нотариуса Подковщикова, где, по словам обвинительного акта, находились, кроме самого Еремеева, Шпейер, Иван Давидовский и Ануфриев. И здесь также о Либермане не упоминается. Наконец, третий и последний, так сказать, завершающий все дело, момент– это дележ денег, добытых Шпейером от Мазурина по векселю, совершенному Еремеевым у Подковщикова: из этих денег, по обвинительному акту, получают от Шпейера по 200 рублей Иван Давидовский, Ануфриев и Бабашев, причем последний требует еще 1 тысячу рублей. О Либермане же и в этот раз не говорится ни слова. Итак, ни в первом, ни во втором, ни в последнем случае Либерман в деле Еремеевском не принимает ни малейшего участия и ни одним своим действием не выражает того преступного пособничества, которое приписывается ему по обвинительному акту, так что все выводы обвинительного акта по этому предмету являются результатом одних только произвольных соображений обвинительной власти, не подкрепленных никакими фактическими данными. Припомните при этом, что сам умерший ныне Клавдий Еремеев нигде в своих показаниях о Либермане не упоминает, и что жена его Глафира Еремеева и поверенный Еремеевых Петров на судебном следствии удостоверили, что не только не знают Либермана, но даже и имени его не слыхали. После этого, гг. присяжные, для вас, без сомнения, станут вполне понятными слова, сказанные подсудимым Либерманом пред вами на суде по поводу предложения г. председателя разъяснить обстоятельства участия его, Либермана, в этом деле, что он находится в полном и печальном недоумении относительно того, за что его привлекли к суду по настоящему делу. И я полагаю, что теперь, выслушав обстоятельства дела, вы не можете не разделять с подсудимым высказанного им недоумения. Да и сам обвинитель должен был признать, что привлечение Либермана в качестве обвиняемого к Еремеевскому делу произошло по ошибке. Ошибка несомненная, бесспорная; но думается мне, ужели отказ обвинителя в настоящую минуту от обвинения Либермана по этому делу может вознаградить его за все то, что он уже вытерпел и перенес благодаря несправедливому обвинению? Привлекут человека к уголовному следствию, произведут это следствие по фотографическим карточкам, назовут безвинно «червонным валетом», ведут на публичный показ в арестантском халате, и затем после всей этой пытки скажут: «Извините, это ошибка!» Неужели с таким фактом можно спокойно примириться?!...
Но, господа присяжные, я скажу вам еще более того: я утверждаю, что все предание уголовному суду Либермана, как по Еремеевскому делу, так и по делу об обмане Попова, есть ни что иное, как один грустный результат прискорбной ошибки правосудия. И вот что в особенности меня удивляет: как обвинительная власть не могла заметить того, что весь образ жизни Либермана, вся его деятельность состоит в полнейшем противоречии как с содержанием обвинительного акта, так и с той характеристикой дела, которая представлена в этом акте? На сотне страниц читаем мы в обвинительном акте рассказы о том, как один подсудимый путем кражи получил известную сумму денег, другой для приобретения денег совершил подлог, третий добыл их через мошенничество и т. д.; уже на первой странице обвинительного акта указывается, как на одну из характеристических черт этого дела, величина суммы, добытой преступлениями и доходящей, по словам обвинителя, до 280 тысяч рублей серебром. Я спрашиваю у обвинителя: пусть докажет он мне, получил ли подсудимый Либерман из этих двухсот восьмидесяти тысяч рублей хотя одну медную копейку? Я обещаю обвинителю вперед, если он докажет мне это, что я ни одного слова не скажу в защиту Либермана. Но обвинитель не может этого доказать, потому что этого не было. Судите же теперь сами, насколько подобное положение подсудимого вяжется с представлением о червонном валете, этом рыцаре легкой наживы, не останавливающемся ни перед каким обманом ради корысти, не стесняющимся никакими нравственными принципами для «золотого тельца», по собственному выражению обвинителя? Насколько идет имя «червонного валета» к человеку, в руках которого во время его заарестования находилась касса с лишком в триста тысяч рублей, которою он заведовал самым честнейшим образом в продолжение почти трех лет? Нет, каким бы позором не было покрыто настоящее дело, я смело, положа руку на сердце, могу сказать, что Либерман в этом деле остается чистым! Его сердцу и уму чужды те преступные замыслы, те беззаконные стремления, которые ему приписывает обвинительная власть; его руки не замараны ни кровью убийства, ни грязью корысти! Мы с любовию останавливаемся на образе Либермана в настоящем деле, мы нравственно отдыхаем при виде этой личности. Не жажда корысти, не алчность добычи, не кража, подлог или мошенничество привели его на скамью подсудимых, но дружба к товарищу детства, которая ввела в обман обвинителя и была единственною причиной того, что Либерман попал в число лиц, обвиняемых по делу клуба червонных валетов. Эта дружба принесла ему с собой в его жизни слишком тяжелое испытание; и это не фраза, не пустые слова. Не пустые слова – его бледное, изможденное лицо в тридцать с небольшим лет от роду; не пустые слова потеря места и общественного уважения, которым пользовался подсудимый; не пустые, наконец, слова – лишение свободы и восьмимесячное заключение в одиночной камере тверского частного дома, в стенах которой не удастся, смею думать, благодаря суду вашему, господа присяжные, обвинительной власти схоронить честь подсудимого, но зато уже вполне удалось схоронить навеки его цветущее до сего времени здоровье! И за что же, за что все это?
Кто-то сказал, что раз разбитая жизнь уже не склеивается более. Если это правда, то единственное утешение для подсудимого осталось теперь в том, чтобы услышать от вас, гг. присяжные, приговор, которым вы публично засвидетельствуете его невинность по настоящему делу. Этот приговор будет ему служить нравственною опорою и утешением до конца его жизни. Вместе с ним прозвище «червонного валета» отойдет для подсудимого навсегда в область страшного прошедшего, и возвратится ему снова его прежнее человеческое имя. В ту последнюю минуту, когда вы будете писать ваш приговор, который решит участь подсудимых, остановитесь со вниманием на имени Эрнеста Либермана и отнеситесь к нему не только с холодным беспристрастием судей, но с теплым, сердечным человеческим участием, которого он вполне достоин. Вы люди, и я глубоко уверен в том, что вам, выражаясь словами древнего человека, не чуждо ничто человеческое. Когда вы вспомните все сказанное мною о Либермане и восстановите в вашей памяти его деятельность по настоящему делу, то я полагаю, что ни у кого из вас в душе не сыщется для него слова осуждения, но что совесть ваша, ни на минуту не задумываясь, ни минуты не сомневаясь, подскажет вам произнесть о нем приговор оправдания, которого он поистине заслуживает. Произнося такой приговор, вы, господа присяжные, не только сотворите правый суд, но вы, вместе с тем, сделаете и великое благое дело, дело ваше, святее которого, быть может, не знает людская деятельность,– вы спасете невинного гибнущего человека...
Защитник Подковщикова присяжный поверенный Харитонов, начав с указания на то, что обвинение против Подковщикова явно неосновательно, опровергал существование в этом деле организованного преступного сообщества, находил лишь отдельные преступные данные, искусственно соединенные волею обвинительной власти в одно общее уголовное дело в ущерб интересам подсудимых, в особенности Подковщикова, который впервые увидал многих подсудимых на суде и не имеет с ними ничего общего, и перешел к детальному рассмотрению предъявленного против Подковщикова обвинения. Все обвинение сводится к тому, что нотариус Подковщиков 14-го августа 1871 г. засвидетельствовал документы Еремеева, находившегося будто бы в бесчувственно-пьяном состоянии. Это обвинение основано на оговоре Шпейера и на показании самого покойного потерпевшего Еремеева. Но оговор Шпейера вполне опровергается показанием другого обвиняемого, Давидовского, а показаний Еремеева, данных следователю, было два, причем, давая второе показание, Еремеев отказался от первого. Между тем г. прокурор ссылается на первое показание, от которого сам Еремеев отказался, и утверждает, что Еремеев был в конторе в бесчувственно-пьяном состоянии. Если Еремеев был в конторе нотариуса в таком состоянии, то он и не мог помнить того, что с ним там происходило, между тем как его поверенный Петров писал заявление Мазурину о безнадежности векселей со слов самого Еремеева, значит, Еремеев все помнил и сознавал и не был в бесчувственном состоянии. Приведя еще несколько данных в пользу невиновности Подковщикова, защитник перешел к экспертизе и сличению почерков Еремеева, произведенных учителями чистописания. Теория и практика уголовного процесса ясно доказывают всю невозможность ставить исход уголовного дела в зависимости от решения вопроса ненаучного характера, как в данном случае. Тем не менее, результаты экспертизы, произведенной учителями чистописания на предварительном следствии, говорят всецело в пользу обвиняемого. Но на суде эксперты также подтвердили, что сделать одиннадцать подробных подписей, какие сделал Еремеев в конторе Подковщикова, не мог он не только в бесчувственно-пьяном состоянии, но и просто в пьяном. Эксперты отрицали возможность предположения, чтобы кто-нибудь поддерживал в это время руку Еремеева, и отметили, что, делая эти подписи, Еремеев строго держался едва заметных линеек, приведенных в книге нотариуса.
Защитник Протопопова присяжный поверенный Пагануцци, рассматривая преступления, в которых обвинялся Протопопов, находил, что во многих случаях этот последний был сам обманут, являлся орудием в руках более ловких людей: Шпейера, Крадовиля, которые пожинали плоды его усилий, и просил у присяжных заседателей снисхождения к нему.
Защитник Соколовой присяжный поверенный Куперник. Господа присяжные! Я защитник мещанки Соколовой, обвиняемой в пособничестве по делу о краже у Артемьева. Уже эта необходимость рекомендации показывает вам, какую важность имеет соединение в одном процессе такой массы лиц и преступлений и такого числа лет, какое мы видим в этом препрославленном деле валетов. Обвинитель указал вам, что это соединение очень выгодно для обвинения. Я с ним совершенно согласен и нахожу нужным прибавить только, что это выгода, не вытекающая из деяний каждого из подсудимых, и что это очень невыгодно для них. В таких делах часть «славы», часть преступности одних падает на всех других без всякой их в том вины и окрашивает в особый цвет их личность и поступки. Это опаснее в настоящем процессе, потому что большая часть дел, в нем рассматриваемых, принадлежит к категории дел так называемых «грязных». Нередко мы видим случаи, когда лицо, совершившее безусловное нарушение закона положительного, тем не менее, пользуется участием, уважением и сочувствием общества. Таковы нарушители законов о печати, политические преступники и т. д.; ничего подобного нет в этом деле. В делах, подобных настоящему, положение защиты рядом с обвинением труднее обыкновенного. Вообще, нельзя не остановить вашего внимания, господа, на различии положений обвинителя и защитника вообще и в особенности по делам, подобным настоящему. Обвинение является во всеоружии закона, оно опирается на столь любезный людям принцип возмездия, оно является представителем общественной самозащиты, выразителем того презрения и негодования, какое общество питает к преступлениям и преступникам. Совсем другое дело защита. Ее задача понять, объяснить преступление, восстановить, оправдать человека,– дело трудное, неказистое, но зато глубоко человеческое. Доказывать наперекор всеобщему презрению и негодованию, что преступник – человек падший, глубоко падший, все-таки человек, что в нем не все погибло, что в нем еще есть искра божества, что нельзя окончательно отвернуть лицо свое от него, что можно найти для него в сокровенной глубине человеческой совести слово любви, утешения и прощения – какая это трудная, но какая высокая задача! Обвинять, топтать, позорить и клеймить падшего человека легче, чем протянуть ему руку помощи, гораздо легче, но, по-нашему, не лучше.
Приглашая вас, господа, последовать за мной, хотя на некоторое время, по тому пути, по которому, в силу вещей, должна идти защита, я не могу не указать еще и на то, что в настоящем деле, кроме трех изложенных общих свойств обвинения, многое должно быть отнесено на счет особенных качеств выслушанной вами обвинительной речи. Автор ее, наш даровитый противник, имеет в своем таланте весьма много художественного, поэтического. Очень многие места обвинительной речи отличались такой образностью, таким изяществом, что казалось вот-вот – и польются рифмы. Рисуя перед вами картину преступления, образ преступника, обвинитель, как нам кажется, иногда увлекался художественной стороной дела, клал краски погуще и поярче, дополнял одни штрихи, топил в фоне картины другие. Типичность, рельефность образа и цельность впечатлений от этого всегда и безусловно выигрывали, но суд уголовный требует гораздо более реальности, фотографической, а не художественной, верности изображения. К делу о краже у Артемьева это относится более, чем к другим отделам процесса.
Начав свой рассказ об Артемьевском деле, обвинитель сразу остановился на художественном контрасте и мастерски противопоставил личность Артемьева – жертвы – личностям подсудимых. Артемьев, по словам обвинителя, тихий, скромный, правдивый старик, долголетним трудом скопивший маленькое состояние и т. д. Я далек от мысли порочить личность г. Артемьева, но на две черты не могу не указать. Во-первых, на то, что ввиду трехдневного непробудного пьянства я плохо верю в тихость и скромность г. Артемьева, и во-вторых, на то, что у г. Артемьева было много долговых документов на разных лиц. Думается мне, что г. Артемьев занимался отдачей денег за проценты, т. е. был немножко ростовщик. Если бы г. Артемьев был такой тихий и скромный, каким его рисует обвинитель, то он бы не напился в первый день и не стал бы повторять этой операции три дня кряду, после того как он все же таки хоть немного высыпался. Незначительная степень ростовщичества снимает с г. Артемьева тот ореол, которым его окружил обвинитель.
Далее, рассказывая, каким образом была совершена кража у г. Артемьева, обвинитель останавливается на том моменте, когда Калустов запустил руку в сундук, взглянул на Дмитриева-Мамонова, и Дмитриев-Мамонов кивнул головой. Ужасный кивок! восклицает обвинитель. С точки зрения художественной, картинной – да! Но с точки зрения уголовной, этот кивок гроша медного не стоит. Я не знаю, кивал ли г. Дмитриев-Мамонов; может быть, будучи несколько выпивши, он просто, что называется, клюнул носом, но для обвинителя, утверждающего, что Дмитриев-Мамонов и Калустов в начале всех начал были членами шайки, тут не должно быть никакого нового ужаса. Если обвинитель ужасается, то, естественно, тому, как быстро состоялось соглашение на преступление между Дмитриевым-Мамоновым и Калустовым, на то, как легко одобрил один действия другого, вместо того чтобы остановить его. Но если они составляли шайку, то это согласие и одобрение существовали заранее. Чему же ужасается обвинитель? Тут одно из двух: или ужас, или шайка; одно противоречит другому, исключает его. Очевидно, что это только художественность.
Излагая действия Дмитриева-Мамонова и Калустова, обвинитель говорит, что в ночь кражи они сначала поехали в Стрельну и оттуда вернулись к Соколовой, «откуда шло начало дела, откуда шла обещанная помощь». Я желал бы знать, каким образом обвинитель дошел до этой мысли? Слышно ли было что-нибудь здесь или на предварительном следствии о том, что от Соколовой шло начало дела, что от нее шла обещанная помощь? Она ли задумала это дело, она ли узнала Артемьева? Принимала ли она хотя малейшее участие в кутежах с ним, употребляла ли она какие-нибудь средства, чтобы завлечь его? Я особенно прошу вас обратить внимание на ответы г. Артемьева на вопросы, которые я ему предлагал о Соколовой. Он сказал, что Дмитриев-Мамонов жил с какой-то дамой, которую он мало видал, что Соколова в попойках не участвовала, что она от них отстранялась, что она с ним не сидела. Можно ли сказать, что от нее шло начало дела? Еще менее можно сказать, что от нее шла обещанная помощь. Прежде всего надо было сказать, в чем эта помощь состояла или должна была состоять. Но обвинитель, по нашему мнению, отнесся и просил вас отнестись у этому делу несколько огульно. Он заявил, что для него не имеют важного значения отдельные личности. Я же прошу вас наипаче избегать такого взгляда. Для каждого подсудимого его личность и доказательства, относящиеся к нему, имеют очень и очень важное значение. Итак, обвинитель не сказал нам, в чем состояла помощь Соколовой, и это осталось секретом.