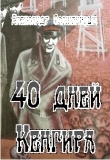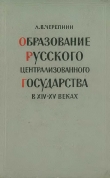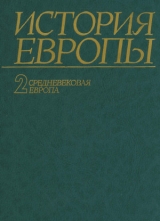
Текст книги "История Европы. Том 2. Средневековая Европа"
Автор книги: Александр Чубарьян
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 79 страниц)
Феодальная война 1425—1446 гг. затормозила экономическое развитие ряда княжеств. Враждующие рати оставляли после себя полосы обезлюдевшей земли, брали в плен и обращали в холопов своих соплеменников и единоверцев. Именно с этого времени распространилась раздача земли в держания на условиях заселить («ожилить») запустевшие земли. Разорение крестьянских хозяйств, рост числа холопов послужили одной из предпосылок страшного голода 1434—1436 гг. Мелкие феодалы, быстро разорявшиеся в условиях феодальной войны и стихийных бедствий, вынуждены были закладывать земли и, в случае неуплаты долга, теряли свои владения, что толкало их на путь коммендации или даже превращения в холопов. Массовыми были передачи монастырям значительных денежных вкладов и земельных пожалований в обмен на право жить при монастырях. За их высокими стенами мелкие и крупные вотчинники надеялись сохранить и жизнь, и имущество. Облегчалась и покупка земель, где располагались мелкие ктиторские монастыри, владельцы которых не надеялись удержать их в период столь длительной смуты. В связи с этим на 30—50-е годы XV в. приходится время быстрого роста крупного монастырского землевладения. Несмотря на сопротивление крестьян, монастыри захватывали много «черных» земель, внедрялись в районы промыслов, прежде всего солеварения.
Феодальная война понизила и международный авторитет княжеств, на время ослабила их обороноспособность. В 1438 г. хан Улуг-Мухаммед, ставка которого находилась в Белеве, совершил грабительский набег на Московское княжество. Казанское ханство, выделившееся из Золотой Орды, стало постоянной угрозой для Северо-Восточной Руси. Окончание феодальной войны облегчило дело обороны, и в 1454, 1455, 1459 гг. московским войскам удалось отразить нападения ордынцев.
Сложной была обстановка и на западных рубежах. Хотя со смертью Витовта литовская агрессия перестала быть столь опасной, но и в 40-е годы его преемник Казимир Ягеллон стремился продолжать его политику, хотя по договорам с Василием II и Борисом Тверским от 1449 г. формально признавал равноправие Литовского и Московского княжеств.
К 1462 г. была ликвидирована большая часть уделов на территории Северо-Восточной Руси. Сохранились лишь уделы белозерско-верейского князя Михаила Андреевича и созданный в 1455 г. удел Юрия Васильевича. Упрочились позиции московского князя в Новгороде, с которым в 1456 г. был заключен Яжелбицкий договор, предусматривавший вмешательство великого князя в решение судебных дел в Новгороде. В 1462 г. под верховную власть московского князя перешла и Псковская республика. Пределы Московского княжества расширились на востоке, где была захвачена Вятка. Успехи централизации страны дали себя знать уже в 60-е годы. Хотя великокняжеское правительство по-прежнему предоставляло монастырям широкие податные льготы, Василий II и его сын Иван III (1462—1505) значительно ограничили их судебный иммунитет: из ведения монастырских властей были изъяты важнейшие дела о «душегубстве, разбое и татьбе с поличным» (т.е. об убийстве, разбое и грабеже). В начале княжения Ивана III дела об убийстве перешли в компетенцию центральной власти, что несомненно содействовало укреплению единовластия великого князя. В 60—70-е годы приостановилось интенсивное в годы феодальной войны возрастание монастырских владений.
Уже в середине XV в. возникли литературные произведения, идеологически обосновывавшие необходимость объединения страны: «Слово похвальное» инока Фомы возвеличивало тверского князя Бориса Александровича, которого автор сравнивал с византийским цесарем; «Слово о житии и преставлении Дмитрия Ивановича, царя русьского», написанное до 40-х годов XV в., поднимало авторитет Дмитрия Донского как величайшего государственного деятеля, достойного преемника киевских князей и первых русских святых Бориса и Глеба. Патриотическое историческое мышление формировало и «Сказание о Мамаевом побоище», созданное около 1480 г. Это сочинение оказывало воздействие на национальное сознание русского, украинского и белорусского народов вплоть до начала XIX в. «Вся Русь» в 70-е годы мыслилась обязательно с Новгородом, а в 90-е годы и с Киевом, центром древней и традиционной культуры, одним из наиболее почитаемых религиозных центров страны. Понятие Русской земли как единства сохранялось вопреки длительному разделению славянской территории Восточной Европы на различные государства.
Складывание единого Русского государства вступило в завершающую стадию в 60-е годы. При Иване III под сюзеренитет московского князя перешли на разных условиях княжества Ростовское, часть Белозерско-Верейского, Ярославское (где князья еще долго сохраняли часть суверенных прав в области суда).
Значительным событием в истории Восточной Европы было образование в 1471—1478 гг. единого Русского государства на базе Московского княжества и Новгородской республики. Это произошло в результате частично военных, частично мирных акций Ивана III. В 1471 г. Иван III совершил поход на Новгород, закончившийся поражением новгородских войск на Шелони и заключением Коростынского договора. Вырождение на протяжении XV в. феодальной демократии Новгорода в откровенную олигархию привело к тому, что городские низы не поддержали боярское правительство. Это и обусловило поражение республики. Походы Ивана III на Новгород «миром» в 1475 и 1477—1478 гг., которые не сопровождались военными действиями, завершили его присоединение. Новгородская республика перестала существовать, в знак чего вечевой колокол был снят и увезен в Москву. Псковская республика сохраняла независимость дольше – до 1510 г. В 1485 г. потеряла независимость Тверь. Возник новый государственный организм – по терминологии того времени Русь или Руссия. Глава государства именовался великим князем всея Руси и всех тех земель, которые в нее входили.
Новое государство имело огромную территорию – оно включало центр Восточной Европы и ее север, поскольку границы Новгородской земли на севере омывались водами Северного Ледовитого океана, а на востоке доходили до Уральского хребта. Если в начале правления Ивана III территория Московского княжества составляла примерно 430 тыс. кв. км., то при нем, по праву названном Великим уже его современниками, и при его сыне Василии III территория выросла более чем в 6 раз. Плотность населения была, однако, невелика – 5—6 человек на кв. км. В рамках единого Русского государства к концу XV в. складывалась новая великорусская народность, составлявшая в нем большинство населения. Однако с самого начала Русское государство формировалось как многонациональное, в него входили многочисленные угро-финские народности: мордва на юго-востоке, карелы, саамы, коми, ханты и манси на севере.
Создание Русского государства сделало возможным окончательное освобождение страны от монголо-татарского ига. Через несколько лет после прекращения Иваном III выплат в Большую Орду дочернее ханство, сложившееся на базе распавшейся Золотой Орды, предприняло грандиозный поход на Русь в надежде возродить даннические отношения, установленные после похода Батыя. При этом хан Ахмед рассчитывал на обещанную помощь короля польского и великого князя литовского Казимира IV. К началу похода Ивана III не было в Москве. Он находился в Новгороде, а затем организовывал псковско-московский поход против Ливонского ордена.
Ахмед отправился в поход в июне 1480 г. с большим войском. Его попытки перейти Оку были отбиты русскими войсками из Москвы, Белоозера, Вологда во главе с великим князем и его старшим сыном Иваном Ивановичем Молодым. Однако советники Ивана III требовали прекратить сопротивление. Возвратившегося с Оки в Москву Ивана III встретили негодующие горожане, требовавшие более активных и наступательных действий. Князю пришлось вернуться к войску, занявшему оборону на левом берегу Угры, притока Оки, куда направился Ахмед, ожидая литовской помощи. С призывом мужественно встретить врага к Ивану III обратился ростовский архиепископ Вассиан Рыло. В течение нескольких дней русское и ордынское войско стояли друг против друга, вступая в отдельные стычки, но ордынцы так и не посмели перейти Угру. Наступили холода, помощь из Литвы не шла. Татары бежали, «никем же не гонимы». Так «стоянием на Угре» завершилось освобождение Русской земли от монголо-татарского ига.
Выход Руси «из кровавой грязи монгольского ига» стал возможным благодаря объединению русских земель в единую сословную монархию. Возникновению государства этого типа на Руси, как и в других странах Европы, способствовали преодоление хозяйственной замкнутости отдельных земель в период развитого феодализма и обострение классовой борьбы крестьян и горожан. Но на Руси первый из этих факторов имел меньше значения, чем в Западной Европе. Из-за более низкого уровня развития городов и незавершенности процесса феодализации в масштабах всей страны – различавшейся по уровню социально-экономического развития разных ее частей – русская великокняжеская власть в своей централизаторской политике опиралась не столько на города, сколько на основную массу феодалов. Им объединение страны было нужно для дальнейшего успешного развития феодального землевладения и укрепления крестьянской зависимости. Все же немалую роль и на Руси играли выступления горожан, имевшие своей целью активизацию сопротивления иноземным захватчикам. В большей степени, чем в других странах, образование централизованного государства на Руси было связано с потребностями обороны. Благодаря этому ускоряющему фактору складывание такого государства здесь произошло приблизительно одновременно с сословными монархиями в других более развитых экономически странах Европы: в Англии, Франции, Пиренейских государствах. Ведущая роль Московского княжества в освободительной борьбе от иноземной зависимости и предопределила его роль как центра Русского государства.
Во главе его стоял великий князь, государь, верховный владелец всех земель, с конца XV в. именовавший себя самодержцем. Ему принадлежала вся полнота законодательной власти. Совещательные функции при князе выполняла Боярская дума – совет, постоянно действующий государственный орган. Во главе управления стоял «Дворец», крупнейшим и важнейшим ведомством которого была казна, превратившаяся со временем в главный орган централизованного управления финансами. Наряду с казначеем выделились должности печатника – хранителя великокняжеской печати, дворецкого, ведавшего княжеским дворцовым хозяйством. Вспомогательные функции по управлению поручались дьякам, выходцам из низших слоев феодалов, назначавшимся великим князем и Думой.
Местное управление в городах и волостях традиционно осуществлялось кормленщиками – наместниками и волостелями. Посылавшиеся туда, как правило, на год, они ведали сбором различных налогов, судили и рядили местное население. Низшие звенья местной администрации – доводчики и другие судебные исполнители также получали вознаграждение натурой; в их пользу, как и в пользу наместников, отчислялась часть судебных пошлин.
Образование Русского государства сопровождалось весьма существенными изменениями социальных отношений. Складывался правящий слой; бывшие независимые князья, в прошлом владельцы собственных земель, превратились в служилых князей, обязанных военной службой великому князю. Вассалы его – некоторые из них были членами Боярской думы и имели соответствующие думные чины боярина или окольничего – участвовали в качестве воевод в военных предприятиях страны. Бояре некогда независимых князей покидали их дворы и шли на службу к великому князю всей Руси. Таким образом, ломалась прежняя иерархическая структура господствующего класса. Формировался новый слой детей боярских, составлявший двор великого князя всея Руси. Названия «дети боярские» и «дворяне» подчеркивали их более низкое по сравнению с боярами положение и особо тесную связь с верховным государем страны и его двором. Наряду со старой боярской аристократией, статус которой поддерживали крупные земельные владения, появляются и новые могущественные фамилии, связанные с великокняжеским двором. Все они, а в первую очередь – дети боярские, организованные и объединенные по территориям, составляли русское войско.
В конце XV в. в наиболее освоенных землях Русского государства на первый план выдвинулись процессы перераспределения земельных владений, в том числе и дробление крупных феодальных вотчин. Наряду со старым вотчинным землевладением все более распространяется условное – поместья военных и административных слуг великого князя. Именно эти непосредственно подчинявшиеся главе государства помещики, условные держатели земли, и стали играть значительную роль в стране. В связи с распространением этой формы землевладения особую остроту приобрел вопрос о земле. Несмотря на расширение великокняжеского домена за счет удельных владений, в целом фонд государственных и дворцовых земель был очень дробен, разбросан и отчасти расхищен (в первую очередь монастырями) в годы феодальных войн. В 90-е годы, пользуясь стремлением великокняжеской власти расширить государственные земли, «черные» крестьяне выдвигали претензии на земли, которые они осваивали еще в 20-е годы. Производимые в это время поземельные описи имели не только фискальные цели, как это было раньше, но и установление прав на землю отдельных владельцев, разбор земельных споров, измерение и межевание земель.
Проблему расширения государственных земель великокняжеское правительство решило за счет конфискаций во вновь присоединенных территориях, особенно большой размах эта политика приобрела в Новгороде.
Во второй половине XV в. был совершен переход от системы выводов зависимых людей из одних территорий в другие с целью обеспечения хозяйства рабочими руками, характерной для времени демографического кризиса XIII – начала XIV в., к системе выводов привилегированных или имущих слоев населения (в том числе купечества) из вновь присоединяемых земель. Они получали старые освоенные земли, снабженные рабочей силой, в пределах прежнего Московского княжества. Выводы и переселения были направлены на подрыв местных традиций землевладения, на разрыв исконных связей вассалов великого князя с их субвассалами. На Руси система многоступенчатого вассалитета вообще была развита слабо, в XV же столетии ее сменила система непосредственного вассалитета великокняжеских слуг – будь то в ранге князя, боярина или дворянина – государю. Наиболее массовые переселения были произведены после присоединения Новгорода, когда произошла передача земель, конфискованных у местных бояр и «житьих людей» (в три этапа, на протяжении 1476—1499 гг.), монастырей и владыки (в 1499—1505 гг.), в состав дворцовых и великокняжеских оброчных земель. На них были испомещены не только бояре, но и по преимуществу неродовитые служилые люди, холопы-послужильцы, поднявшиеся до уровня землевладельцев, из Северо-Восточной Руси.
Поместной реформой конца XV – начала XVI в. завершился процесс специфического развития русской иерархической системы, начавшийся в XIV в. Причины ее особенностей по сравнению с западноевропейской коренились, во-первых, в широком распространении холопства, которое делало ненужной сложную иерархическую подчиненность княжеских слуг, во-вторых, в большом значении колонизационного фактора: освоение земель на вновь присоединенных территориях создавало предпосылки для возникновения и новых феодальных владений, зависимых непосредственно от великого князя. Таким образом, расширение феодализма «вширь» несколько тормозило его развитие «вглубь», замедляло созревание многоступенчатой иерархической структуры.
Процесс централизации распространился и на сферу финансов. При Иване III в казну русского государя поступала вся тамга, часть которой раньше доставалась удельным князьям московского дома. Великокняжеские доходы пополнялись и с помощью других торговых пошлин: мыта (проездной), пятна (за клеймение лошадей), явки (за предъявление товара). В связи с переводом натуральных повинностей на деньги доходы великого князя увеличивались. Основной прямой налог в пользу государства перерастал в денежный платеж, составлявший централизованную ренту. Правда, в отдаленных и промысловых районах она сохраняла натуральную форму – в вотчинах Борецких в Новгороде, например, беличьими шкурками. На севере Новгородской земли сохранялись пережитки раннефеодального полюдья – поклоны, дары, перевары, постоянья. В других районах основные поборы в пользу великого князя, кормленщиков и волостелей взимались деньгами. На государственных крестьянах «черных» волостей лежали и другие подати и повинности, в частности ямская, которая, впрочем, в конце столетия также переводилась на деньги. Обременительное городовое и посошное дело (строительство укреплений, военно-инженерная повинность – прокладка дорог, строительство мостов, перевозка грузов) в условиях и мирного, и военного времени надолго отрывали крестьян от сельского хозяйства.
Положение «черных» крестьян напоминало положение аллодистов в Западной Европе, они распоряжались своей надельной землей, частью волостной общинной территории по собственному усмотрению, вплоть до ее продажи (с согласия государя), совместно пользовались угодьями. О падении социальной значимости государственных крестьян свидетельствует появление в конце XV в. уменьшительно-уничижительного термина «мужик» (вспомним равноправных членов общины – «мужей» Русской правды), сначала в Великом княжестве Литовском, а затем и в Русском государстве.
От выполнения ряда податей и повинностей в пользу государства (как правило, кроме дани) были освобождены крестьяне привилегированных светских и духовных феодалов. У церковных землевладельцев, не имевших холопов, в центре страны преобладала барщинная форма эксплуатации; на окраинных землях к ней добавлялась и рента продуктами. Ведущее место среди форм эксплуатации частновладельческих крестьян в целом занимала натуральная рента. Даже в Новгороде, где уровень развития товарно-денежных отношений был выше, чем в Северо-Восточной Руси, основной была продуктовая рента в виде определенной доли урожая (издолья), к которой добавлялась денежная рента. В северо-восточных землях наблюдался постепенный рост удельного веса барщины.
В конце XV – начале XVI в. по-прежнему в сельскохозяйственном труде было занято много холопов, и число их не уменьшалось, а увеличивалось. С 1479 г. известны «кабальные холопы», которые временно отдавали себя в «кабалу» за невыплаченные долги. Однако это явление не приобрело массовых размеров.
Поземельные отношения, судебные споры и прочее регламентировалось правовыми документами конца XIV – второй половины XV в. – уставными грамотами (Двинской, Белозерской, Новгородской, Псковской), закрепившими местные особенности управления в этих землях. Развивая положения Русской правды, эти памятники отражали новый этап развития правовой мысли Руси. Однако новые условия конца XV в. требовали упорядочения процесса судопроизводства и регламентации компетенции каждой из судебных инстанций. Этим целям отвечало создание в непосредственном окружении Ивана III Судебника 1497 г., который подвел итоги социального и политического развития страны к исходу XV в.
Судебник провозглашал обязанность судить «праведно», не брать «посулов» – взяток, устанавливал нормированные пошлины в пользу судьи – боярина и великокняжеского дьяка. Регламентировалась компетенция разных типов судей – высшей инстанции (великого князя и его детей), бояр и окольничих (которым были «приказаны» – поручены – те или иные дела) и, наконец, наместников и волостелей. Вводился, хотя и непоследовательно, контроль за деятельностью местных органов управления. В компетенции церковного суда остались по-прежнему все дела духовных лиц и тех, «которые питаются от церкви божией».
Судебник защищал жизнь и имущество бояр, помещиков, духовных лиц. Статья 9 предписывала беспощадную расправу с теми, кто осмелится покуситься на жизнь своего господина, на церковное достояние, поджечь чужое имущество вместе с каким-либо «ведомым» (известным по показаниям 5—6 свидетелей) «лихим человеком». Государство, таким образом, взяло твердый курс на решительную борьбу с преступлениями. К этой борьбе должно было привлекаться не только дворянство, но и верхушка крестьянства – «добрые крестьяне целовальники», «лучшие люди». Судебник предусматривал сохранность ограждений пашен и покосов, запрещал уничтожение межевых знаков. Устанавливался единообразный срок подачи жалоб по земельным делам (трехлетний в случае споров между частными лицами и шестилетний – в случае спора с великим князем). Тем самым санкционировался захват крестьянской или «черной» земли феодалами, произошедший за три-пять лет до создания Судебника.
Знаменитая статья 57 вводила единый срок для всего государства, когда крестьянам разрешалось покидать своего господина, – неделя до и после Юрьева дня осеннего (26 ноября), после окончания полевых работ (при этом следовало уплачивать особую пошлину – «пожилое» за пользование двором). Этим был сделан шаг по пути прикрепления всех частновладельческих крестьян к земле.
Судебник подтвердил правило, сложившееся еще в XIII в., что покупка холопов, женитьба на холопке и тиунство остаются главными внутренними источниками холопства. Напротив, холоп, «выбежавший» из иноземного плена, отпускался на волю. Судебник ограничивал источники полного холопства и в городе: городские «ключники» (приказчики) холопами отныне не становились. Дети холопа, рожденные до порабощения их родителей и живущие независимо от них, также должны были оставаться свободными. Это свидетельствует о невыгодности применения холопского труда в заметно развившихся городах. В целом, однако, судебник не содействовал смягчению холопьего бесправия.
Степень централизации, предусмотренная Судебником 1497 г., показывает, что на конец XV в. приходится один из важнейших этапов, который подготовил завершение централизации государства в середине XVI в. В течение XV в. на Руси, как и в других странах Европы, не были еще ликвидированы остатки феодальной раздробленности. Существовал и удел митрополита. По завещанию Ивана III была воссоздана удельная система. Новгород, сохранивший право чеканки собственной монеты (новгородок), не полностью лишился своей экономической обособленности. Существование там собственной единицы обложения – обжи (составлявшей примерно треть московской сохи), права новгородских наместников заключать договоры с соседними государствами говорят об остатках политической самостоятельности Новгорода.
Успехи централизации позволили молодому Русскому государству уже в первые десятилетия своего существования проводить активную внешнюю политику. Успешно проходила защита целостности Северо-Западной Руси, в том числе и Пскова. Строительство Ивангорода на реке Нарове в 1492 г. создавало стратегическую и экономическую базу на Балтике. Однако главной внешнеполитической задачей в то время было возвращение Смоленска, а также будущих украинских и белорусских земель (Киева, Чернигова, Витебска и др.). В основу этой политики легла идея киевского наследия.
Создание единого Русского государства было враждебно встречено в Великом княжестве Литовском и Короне Польской. Наличие глубоких социальных, религиозных, культурных и этнических противоречий между литовскими магнатами, католиками по вероисповеданию, имевшими право представительства в Раде панов, и белорусско-украинской шляхтой обусловливало непрочность Великого княжества Литовского. Невозможность участвовать в управлении страной толкала православную знать, и прежде всего владетелей пограничных земель, к союзу с единоверческим Русским государством. Первыми «отъехали» к Ивану III князья Воротынские и Белевские, вместе с которыми к Руси отходили верховья Оки. Начиная с 1487 г. переход на сторону Руси верховских князей принял массовый характер. Мценск, Любутск, Серпейск, Мезецк при поддержке русских войск вошли в состав Русского государства. По перемирию 1494 г. к этим территориям присоединилось и Вяземское княжество. Отсюда открывался и прямой путь на Смоленск.
Соглашение 1494 г. не урегулировало всех спорных вопросов. В 1498 г. Великое княжество Литовское прервало сношения с Русью. Был наложен запрет на вывоз на Русь соли, благородных и цветных металлов. В условиях экономической блокады война становилась неизбежной. Она разразилась на последнем этапе так называемого «династического кризиса». Сын Ивана Ивановича Молодого (сына Ивана III от первой жены Марии Борисовны Тверской), скончавшегося в 1490 г., Дмитрий-внук, венчанный на княжение в 1498 г., попал в опалу. На следующий год Василий Иванович, первенец второй жены Ивана III – Софьи Палеолог, поручил Новгород и Псков. А еще через два года – в августе 1501 г. он титулуется «великим князем всея Руси». В апреле 1502 г. Дмитрий-внук с матерью Еленой Волошанкой, дочерью молдавского господаря Стефана Великого, были заточены.
Русско-литовская война началась в 1500 г. Русские войска заняли ряд северских городов в бассейне Десны, направились к Великим Лукам и через Дорогобуж к Смоленску. 14 июня на реке Ведроше под Дорогобужем литовские войска потерпели сокрушительное поражение. Обращение Литовского княжества за помощью к Ливонскому ордену и вступление последнего в военные действия в августе 1501 г. не принесли перемен. Победа при Гельмеде недалеко от Дерпта (современного Тарту) и поддержка местного населения – эстов обеспечили продвижение русских войск в глубь Ливонии. По миру с Литовским княжеством 1503 г. к Русскому государству перешла значительная территория по течению Сожи и Десны с городами Черниговом, Стародубом, Гомелем, Новгород-Северским и Рыльском, а также верхнее течение Десны и Угры с Брянском и далекими пригородами Смоленска (сам Смоленск вошел в состав Русского государства только в 1514 г.). В ходе войны произошли существенные сдвиги и в международной обстановке. Союзный Руси Менгли-Гирей, глава образовавшегося в 40-е годы XV в. Крымского ханства, в июне 1502 г. разгромил орду Ахмедовых детей, покончив с основным преемником Золотой и Большой Орды, по-прежнему претендовавшим на власть над Русским государством. Однако Крымское ханство, восприняв вместе со знатью Большой Орды и ее традиции внешней политики, перешло на враждебные к Руси позиции. Потеря этого союзника компенсировалась приобретением другого. Народы Северного Кавказа, адыги (черкесы), страдавшие под игом Золотой Орды, а в конце XV в. ставшие объектом крымской агрессии, с надеждой смотрели на северного соседа, давно демонстрировавшего свою мощь в борьбе с захватчиками.
В конце XV в. международное положение Русского государства значительно упрочилось. Были заключены союзы с Венгерским королевством при Матьяше Хуньяди, Молдавским воеводством при Стефане Великом, со Священной Римской империей германской нации при Фридрихе III Габсбурге, Датским королевством. Целью этих союзов – антиягеллонских или антиганзейских – было решение главных внешнеполитических задач – воссоединение земель Киевской Руси, создание благоприятных условий для развития внешнеторговых связей, укрепление международного престижа страны. Последнее осуществлялось путем расширения титула великого князя: европейские державы признавали за Иваном III право на титул князя или короля всей Руси, а не только Московского княжества (Московии), как это делали правители Литвы.
Унаследовав от отдельных русских земель задачи в области развития экономических, политических и культурных связей, Русское государство преобразовало их во всеобъемлющую программу равенства всех русских земель в торговле, беспрепятственного проезда купцов как по суше, так и по морю, свободного привлечения на Русь специалистов во всех областях тогдашней науки и ремесел. Правительству Ивана III удалось добиться пересмотра условий торговли с другими странами Европы. Монополии ганзейского купечества на поставку цветных и благородных металлов был нанесен сокрушительный удар. Закрытие Немецкого двора в Новгороде в 1494 г. облегчило развитие внешней торговли русских, перенесших центр тяжести своей торговли в ливонские города.
Крепли и культурные связи молодого государства с передовыми странами Европы эпохи Возрождения, в первую очередь с Италией. Итальянские специалисты в области монетного и литейного дела, артиллерии, строительства – гражданского и крепостного – призваны были способствовать развитию техники на Руси.
Конец XV в., как отмечалось, был богат кризисами – и политическими, и экономическими. Не миновали они и общественную мысль того времени. Особую известность получила ересь антитринитариев. Судя по утверждениям главных противников ереси новгородского архиепископа Геннадия и Иосифа Волоцкого (в миру Санина), основателя названного его именем монастыря, ее последователи отрицали не только догмат о троичности бога, но и святость богоматери, необходимость поклонения иконам и, наконец, необходимость самого института церкви для общения человека с богом. Выступали они и против церковного землевладения. В идеологии этого еретического направления отмечают и черты мессалианства, дуалистической ереси раннего средневековья, и отзвуки реформационных настроений с присущим для них признанием авторитета Библии, в частности Ветхого завета.
Ересь распространилась в начале 70-х годов XV в. сначала в Новгороде, где большинство ее последователей принадлежало к низшему духовенству и простонародью, а затем в 80-е годы в Москве. Здесь ее поддержали и более влиятельные лица из окружения Ивана III (например, дьяк Федор Курицын). На церковном соборе 1490 г. еретики были подвергнуты проклятью. Для новгородских и особенно московских еретиков характерна гуманистическая направленность их взглядов. Члены московского кружка вольнодумцев, как и их глава Федор Курицын, дипломат и широко образованный человек, проявляли особый интерес к богословским и философским произведениям, утверждавшим свободу воли, рассматривавшим человека как мерило всех ценностей.
Внимание образованных читателей и из мирян, и из духовенства постепенно все сильнее привлекали переводные светские сочинения, обращавшиеся на Руси еще в XII – начале XIII в., такие, как «Александрия» (жизнеописание Александра Македонского, весьма популярного в средневековье), «Повесть об Акире Премудром» (ассиро-вавилонское сочинение VII в. до н.э., содержащее множество афоризмов), «Иудейская война» Иосифа Флавия и др. В конце XV в. корпус переводных светских сочинений пополнился переводами с немецкого «Прения живота со смертью» и др.