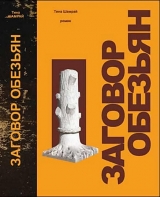
Текст книги "Заговор обезьян"
Автор книги: Тина Шамрай
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 54 страниц)
Почему так долго нет дождя? Дождь не пойдёт, а ему надо идти, и с дороги он не свернет. Должна же она, в конце концов, куда-то вывести его? Пусть это будет маленькое село, а там обязательно будет какой-нибудь заброшенный амбар, или как там эти строения называются, и он там поспит… Нет лучше переночевать в стогу. Да, да, забраться в пахучую и колючую глубину и спать, спать, спать. Но прежде надо добыть воды. Так, мечтая о мелких бытовых радостях, он медленно, но верно продвигался на восток.
И, поднявшись в очередной раз на пригорок, еле удержался, так хотелось сбежать – там, внизу, как раз и лежало небольшое сельцо, и до ближнего дома было всего метров десять. Но растерявшись, он прижался к срезу сопки и замер, и стал всматриваться. Здесь гряда отступала влево, подковой замыкая пространство вокруг серых строений. Он видел дома, слышал петушиные голоса, чуял запах печного дыма и ещё какой-то острый запах – навоз? Особенно мирным казался дым из трубы ближнего дома, и он удивился – лето ведь. Но, наверное, печи топят не для тепла, а для готовки. И вот явственно потянуло запахом еды! «Не свисти! Это ведь далеко! – уличил он сам себя. – Нет, нет, точно пахнет едой!» Может, у него и впрямь развился звериный нюх, но он чует, чует сытный запах лука и укропа, ещё бы, ведь голодный, как собака, как десять собак!
Так, рыская глазами, он выискивал какой-нибудь сарайчик на отлёте и колодец поблизости, но объектов в таком сочетании не находилось. Обнаружилось другое – снова какой-то гул, теперь в небе. Вертолёт, самолёт? Далекая точка и белый творожный след ясно указывали: самолёт. Ну, это не страшно, не будет же самолёт бросаться на него с такой высоты. Но тишина вокруг была такая, что, заслышав слабый рокот в небе, залаяла сначала одна собака, потом другая. Лаяли на самолёт в небе! Вот так же они залают, обнаружив его, чужака, и всполошат всё село. А тут ещё глаз выхватил крытую машину, она медленно продвигался по единственной улице откуда-то с юга и остановился у дома с блестевшей на солнце оцинкованным железом крышей, над фасадом что-то там ещё висело, флаг? Там что, сельсовет или как там теперь это называется? Придётся обойти село стороной.
И это было разумное решение. Маленькое село Победа, а это было именно оно, встретившееся на пути беглеца, было ничем не примечательно, кроме одной топографической особенности. Селение стояло в просвете потерявшего монолитность всё того же Цугольского хребта на перекрёстке четырёх дорог, что шли во все стороны света, а значит, были открыты разнообразным ветрам.
Он соскользнув с дороги и, свернув влево, стал осторожно пробираться вдоль гряды. И когда оказался на другом краю села, и уже была видна дорога, что вела на восток, тут-то и обнаружилось новое препятствие – аборигены здешних мест. Двое мужиков с поклажей за спинами возвращались по этой дороге в село, за плечами у них были мешки. Пришлось метнуться назад в кусты и там скрючиться и замереть, и не дышать. А мужики, подойдя к ближней изгороди, вдруг остановились и затеяли разговор, всего в пяти метрах от беглеца. Тоже мне, нашли место!
А мужикам что, они, видно, по дороге не наговорились, вот и не могут расстаться. Солировал высокий молодой парень, он что-то невнятно говорил другому, постарше, но как ни вслушивался беглец, не мог понять его шепелявой скороговорки. И тут ещё рядом залаяла собака, и он лег на землю, боясь, что песик почувствует чужой запах и выдаст, выдаст… Спас визгливый женский голос, он позвал издалека: «Серёня! Ты где тама? Мы уже все за столом. Ходи во двор, картоха стынет!» И тот, молодой и высокий, выматерился и таким же пронзительным голосом отозвался: «Счас иду! – и уже тише и внятно добавил: – Надоела, лярва, со своей картошкой! И главное, слышь, на водку не дает. А мне её бражка уже поперёк горла. Водки хочу! Вот хочу – и всё тут». И снова, захлёбываясь и посмеиваясь, продолжал что-то рассказывать, рассказывать, рассказывать…
«Глупый ты, Серёня! Не можешь понять своего счастья: вода, картошка, да ещё и женщина – никакой водки не надо…» – бормотал беглец. Понял, видно, что-то и Серёня: голоса стали удаляться, становились всё глуше и глуше, а скоро снова сделалось тихо. Но пришлось ещё минут пять вслушиваться, а потом, так и не распрямившись, на полусогнутых рвануть к дороге. И, ступив на укатанную колею, беглец пошёл, уже не таясь.
Не заметил только, как дорога несколько сместила направление и пошла на северо-восток. А если бы и заметил, что он мог изменить? Бегать по сопкам уже не было сил, собственно, не было сил ни на что, он и дышал-то с трудом. Хотелось упасть прямо на дорогу и лежать бревнышком: пусть переступают! Самое время было искать место для ночлега, но пришлось пройти ещё километра два, прежде чем сопки расступились и показалась ложбина. Надо только отойти подальше от дороги, а там он где-нибудь приткнётся. Где-нибудь нашлось через пятьсот метров, за большим скальным выступом.
Первым делом он снял кроссовки – пусть ноги отдохнут. От кроссовок отвратительно пахло, но и запах от носков был не лучше, а на смену осталась одна пара – это в них он прятал руки прошлой ночью. Собственно, он был грязен с ног до головы, к тому же тело чесалось то в одном, то в другом месте, и досаждали растёртые места, а тут ещё руки грязные. Сейчас бы под душ! Даже такой, что был в колонии – обыкновенный душ с грязным, в ржавых подтёках кафелем по стенам, щербатым цементным полом, но с водой, что льётся сверху. И как хорошо поворачиваться под этим дождиком то одним, то другим боком, и пить, пить теплую воду. А потом нырнуть бы в теплую постель, и чтобы рядом лампа с абажуром. И под этой лампой читать и грызть яблоко, как в детстве!
Он любил настольные лампы, в его кабинете стояла высокая, с большим белым колпаком, стояла так, для антуража. Как ему не хватало света лампы в камере! В тюрьме он катастрофически начал терять зрение. Но с книжкой подходить к окну возбранялось, и в последнее время он не мог читать, даже забираясь на верхний ярус, поближе к тусклой лампочке под потолком. А если это был мелкий шрифт, то и подавно. Ему ведь только и оставалось, что читать, читать до одури, до серой мути в глазах, когда буквы превращаются в мелкие чёрные точки, и нельзя собрать эти точки в буквы, а буквы в слова…
А в первый заезд в колонию у него не сразу, но появилась настольная лампа. Нет, не в жилом корпусе – в библиотеке. Её где-то раздобыл библиотекарь Костя. Этот парень попал на придурочную должность, заехав на зону с баулом книг. Читать Костя любил, но библиотекарь из него был никакой. И поначалу он не мог понять систему его распределения книг на полках и попытался было разъяснить парню: мол, в библиотеке практикуется алфавитная расстановка, по отраслям знаний. Но тот резонно возразил, что расстановка у него тематическая, и потому Толстой должен стоять рядом с Гюго потому, что оба относились к художественной литературе, а справочник тракториста и учебник русского языка для пятого класса – к учебникам.
В этом была действительно какая-то своя система, но логику её понимал, и то не всегда, только сам Костя. Но у заместителя начальника колонии по воспитательной части капитана Будилина к Косте замечаний не было. Тот неукоснительно выполнял требование капитана: книги на полках должны стоять ровно. А книги так и стояли: большая с большой, маленькая с маленькой. Смешно, но поначалу Костя заподозрил, что он, богодул, хочет занять его место. Он-то, может, и хотел, только ему, нераскаявшемуся врагу государства, такое золотое место не могло достаться по определению, это он и объяснил парню.
В библиотеке, у него было что-то вроде кабинета, там он читал, вёл записи. За стеллажами, сухими и шероховатыми, сколоченными в незапамятные времена, стояла застывшая, пахнущая книжной пылью и деревом тишина. Там ему никто не мешал. Это поначалу солагерники валом валили туда и по несколько человек садились вокруг стола с подшивками газет, самой ценной была местная – «Слава труду». И, не читая, посмеивались, поглядывая в его сторону, и кто-то подходил, заводил разговор. Библиотекарь во время таких консультаций исполнял роль разводящего, по своему разумению определяя, действительно ли человеку нужен совет, или он так, придумав заделье, зашёл поговорить за жизнь с недоступным заключённым.
Но он и сам жестко предупреждал: мол, мало времени, говорить нужно коротко, сразу излагая суть дела. И, не стесняясь, жевал шоколад, угощал и визави, но зэки, как правило, от сладкого отказывались. И поначалу охотно консультировал, когда видел: человеку действительно нужна помощь. Именно из тех бессвязных жалоб и понял: произвол – обыденная и неотъемлемая часть жизни на российских просторах. И не потому, что за решётку попадали сплошь невиновные, нет, но наказание часто было несоразмерно содеянному. Вот только жители зоны воспринимали это как данность, не более. Тот же Костя рассказывал: «Ну, захомутали, адвоката дежурного пригласили, а тот видит, с меня взять нечего и прямо так говорит: если, мол, я тебе нужен, тогда, мол, давай три тысячи. А откуда у меня деньги, я и своровал-то, чтоб бабками разжиться. Нет, говорю, не нужен адвокат. Ну, дяденька и рад, подпиши, мол, бумаги, что от адвоката отказываешься, ну, я и подписал. А на суде-то был какой-то другой, назначенный, но сидел молча, а главное, сволота, всё кивал, когда прокурор речь толкал…»
Но библиотечные посиделки скоро прекратились. Кто-то из дежурных офицеров доложил о нарушениях режима – зэки собираются кучей! И стали вызывать в оперативную часть всех, кто хоть словом перемолвился с ним, требовать показаний, и запугивать: не смейте подходить! А если, мол, был какой разговор, то докладывать в подробностях: что буржуй говорил, о чём спрашивал…
Профилактика пошла на пользу, и как-то молодой зэк, увидев его поблизости, намеренно громко и, неизвестно к кому обращаясь, выкрикнул: «Строит из себя делового, а сам как чалился, так и чалится… И никакие кенты ему не помогут… Мне, слышь, базарил: вам надо нанять хорошего адвоката… А где у меня лавэ на доктора? Вот же, фраерок, не хочет понимать, что…»
Только он сам к тому времени убедился: многое в том чуждом мире не поймет и не примет, только книги были спасением, у него даже появилось искушение отказаться от работы – имел такое право, только вышло бы ещё хуже. Днем неработающих зэков выводили на дополнительную проверку, а в бараке, чтоб жизнь не казалось сладкой, отключали электричество, а то зэки станут баловаться, варить чифирь. Да и библиотека днем была закрыта. Нет, дурацкой работой в швейном цехе он зарабатывал своё право сидеть с книгами, когда целых три часа, когда всего час. И обрадовался, когда Костя раздобыл для него настольную лампу. И помнит, как, придя с мороза, грел под её чёрным жестяным абажуром руки…
Да, мерзнут руки, мерзнут ноги, мерзнут мозги. Солнце уже зашло, небо стало синеветь, вот-вот и всё задышит холодом: и камни, и земля, и воздух. Вот только прыгать и бегать, как прошлой ночью, он не сможет, нет, не сможет… А если разжечь костёр? Но никаких дров поблизости нет, а идти искать не было никаких сил. Казалось, в него вселилась вселенская апатия, и он может уже не подняться, так болело всё тело.
Эмоциональная лабильность наступила давно, но добило странное происшествие с конвоирами, вот откуда и депрессия, и апатия. Должна быть и раздражительность, но чего нет, того нет. На раздражительность нужна злость, а она давно кончилась… Нет, нельзя было садиться, расслабляться, надо было сразу искать хворост. Костёр – верх неосторожности, но ещё одну холодную и бессонную ночь он не переживёт. Если он не поспит, то не сможет идти, и побег закончится ничем. Он и так, не сомневайся, закончится ничем! Но если положение так безнадёжно, то не лучше ли провести последние часы на свободе у огня?
Пришлось со стоном и скрежетом обуться, а потом через силу встать и тащиться на поиски того, что может хоть как-то гореть. Как на грех, сухой древесины не было совсем, так, какие-то жалкие сухие ветки. Но хотелось не хвороста, хотелось настоящих дров. И вот он видит какую-то рощицу, видит большую высохшую берёзу… Это прибавило сил, но когда он кинулся к дереву и попытался толкнуть, берёза только насмешливо затрясла ветвями, а ствол даже не шелохнулся. И в отчаянии он стал озираться: что делать? Ветви высоко, он не допрыгнет, не обломает, нечего и пытаться.
А это что, увидел он какой-то плотный завал справа. Оказалось, спиленные кем-то и брошенные обрубки деревьев. Видно, кому-то позарез понадобилась ровная часть ствола, а пеньки и верхушки без надобности. И, не раздумывая, он поднял сначала одну верхушку с ветвистой кроной, зацепил другую, и потащил на стоянку. Ветки были длинными, они, сухо треща, волочились за ним по земле, но в горячке он не сразу почувствовал, как тяжела была ноша. И только метров через пятьдесят чуть не рухнул, когда задело веткой по битой спине. И, отдышавшись, потащил уже не так ретиво, время от времени опускаясь на колени передохнуть, хватая ртом прохладный воздух. И само собой, какая-то мошка влетела-таки в рот: а нечего раззевать! Только мошка застряла в сухом горле камешком и не хотела ни глотаться, ни выплёвываться. Он тащил топливо для костра так долго, что стал беспокоиться: не заблудился ли, и как теперь найдёт свои пожитки. Но через один передых прямо перед собой увидел тёмно-синее пятно – сумка.
И, дотащив берёзовые обрубки до места, удивился: физические усилия так до конца и не согрели, кровь будто навсегда застыла и отказывается бежать по жилам. Да и самому не хочется двигать ни рукой, ни ногой, только стали донимать комары. Хорошо бы устроить бездымный костёр, но для этого надо копать яму, а ещё отводы… Какие ямы, какие отводы! Обойдёшься!
Неловкими пальцами он стал ломать веточки для растопки, и они, тонкие, с хрустом, легко поддавались. Из этой фиолетовой паутины получился целый холмик, и для растопки вполне хватит. Веточки он сложил колодцем, вовнутрь набросал невесомых обрывков коры, но они отчего-то дали слабое пламя. И пришлось достать один из блокнотов и вырвать листы. На белых линованных страницах хорошо была видна грязь на руках, а под ногтями так и вовсе траур по китайской императрице. И тогда, не глядя, что там за запись, он стал страница за страницей рвать блокноты и бросать белые листочки в костёрчик. Бумага горела весело, но недолго, и берёзовые веточки не хотели откликаться на нестойкое бумажное тепло.
И, только изорвав весь блокнот, потом ещё один, он смог разжечь полноценный костёр, и, когда огонь набрал силу, накрыл его большими ветками, сверху пристроил ещё и берёзовый ствол. Оранжевое пламя забирало глаза, и казалось, за его пределами и нет ничего. Только синий воздух стоял стеной. И пусть эти ощущения обманчивы, но тепло было живым и настоящим. И он ещё живой.
И почему-то не беспокоило, что кто-то обнаружит костёр, да если бы и обнаружил, то ничего примечательного не увидел, ведь так? Небритый, пришибленный жизнью мужичок, вот сидит греется, что такого? Однако пришлось вяло обкатать версию на случай неожиданного появления любопытных. Кто он – охотник, рыбак, бомж? Хотя какой охотник или бомж в очках, разве только рыбачок. Но вот незадача – никакой речки поблизости не было.
И когда дым костра стал совершенно прозрачным, он и почувствовал: согрелся, наконец, согрелся. Значит, пора укладываться спать, надо только укутаться и так же тщательно, как и прошлой ночью. Но теперь его будет греть и огонь! И стал поворачиваться то спиной, то лицом к костру, набираясь тепла на долгие ночные часы. Только, как ни старался, не мог угодить спине, всё было больно. Что собачка, в соломе лежу на брюхе: на спине-той нельзя было. Чьи это слова?.. Да ведь протопопа! Точно, протопопа. И про дебри непроходимые и утёс каменный, что стеной стоит! Аввакум будто не только о своей судьбе писал, но и его обстоятельства предвидел…
А он сам? Разве трудно было предугадать всё то, что случилось? Ведь от всех рисков страховался: похищение, убийство, арест, одного только не предполагал, что чужая жестокость может быть такой долгой и лютой. И у каждой жестокости есть лицо, есть имя. Вот за что воевода Пашков так ненавидел Аввакума? Но, может, эта ненависть и помогла протопопу выстоять… Вот и он ещё немного побегает, надо только чуточку поспать. И почему не идет сон здесь, на воле? Сон расстроился давно, ещё в первый год заключения, потом в лагере бессонница только обострилась. А всё от беспрестанного ожидания опасности. Там он ждал удара ежеминутно, ждал от каждого, от того, кто смотрел ненавидяще, и от того, кто сочувственно улыбался. Было бы легче, если бы он стал как все. Наполеона в изгнании из себя не корчил, но и своего парня изображать не пытался, знал, выйдет ненатурально.
Он был поперёк горла и зэкам, и вертухаям, и ему прямо давали понять: мол, ужесточили режим в колонии из-за него. И в самом деле, красноозёрская колония считалась свойской, многие заключённые знали друг друга на воле, а тут он, хрен с горы, поломал им тихую жизнь. Впрочем, какая там тихая заводь, когда на одном пятачке собрано до тысячи озлобленных мужиков! И хоть разделена эта масса на мелкие кусочки, и отделена друг друга решётками, но время от времени в людях что-то вспыхивало и, казалось, ещё немного, и всё пойдёт нразнос. Общий режим недаром называли спецлютым. На таком режиме не так вертухаи, как сами зэки доводят друг друга До исступления драками и унижениями. И его пытались вывести из себя и карцерами, и тем же ночным нападением. Он помнит, как его тогда утешали солагерники: ножом, мол, черканули – так это ерунда! А вот когда писанут по-настоящему, нож входит в тело как в капусту, точно, точно, с таким же хрустом…
После нападения к нему и приставили охранника. «Это делается для вашей же безопасности!» – кажется, это говорил ему всё тот же Чугреев. Но охранник был не для защиты – для сбора компромата. Он понял это сразу и ответил тем же. Стал вести записи: кто подходил, что спрашивал, что ответил он сам. Все ждали, что ужесточение режима, тотальный надзор выведет его из себя и он задрожит, и попросит поблажек. И он был близок к этому, совсем близок. Что удержало? Упрямство, обычное упрямство! Сам себя брал на слабо.
Он так и не понял, кто были те неизвестные, что через разных посредников – не постеснялись и через его читинских сторонников – предлагали своё покровительство: мол, всё у тебя, мужик, будет. Хочешь телефон? Без проблем! А травку? Будут и выпивка и любые наркотики! И женщины на выбор! И, судя по тому, сколько запросили за услуги, то были не уголовники. Уфсиновская шпана? Но скорее всего, разрабатывали его спецслужбы, и таких мероприятий было до чёрта! Чем он мог ответить? Только отстранением от всего и вся. И был вынужден загонять свои мысли, свои чувства так глубоко, и покрываться таким панцирем, что и самому себе казался замороженным.
Не мог только позволить себе бояться и презирать окружающий его народ. Помнил чётко: не презирать! Однажды утром парень на соседней койке, то ли забывшись, то ли намеренно, онанировал, даже не прикрывшись одеялом. «Маленькое животное», – подумал он тогда. И долго не мог без брезгливости смотреть на эти руки, что ежедневно мелькали у него перед глазами, они то застилали кровать, то перебирали что-то на тумбочке, то просто нервно щелкали пальцами… Но однажды, услышав тяжёлый вздох, поднял глаза и всмотрелся: это был совсем ещё юнец с детскими беззащитными глазами. Увидел те же руки с тонкими, в цыпках, смуглыми пальцами, круглую стриженую голову, и пожалел.
Собственно, чем он лучше этого мальчишки, тем, что может переключаться? И если припечёт, то обязательно прикроется? Так ему ведь и не двадцать лет. О! Давно не двадцать, давно. Потом узнал, сидит парень за какую-то мелкую кражу, родители на свидание не приезжают, посылок не шлют. Он ещё держится, но за грев из чужих рук будет готов на многое. Но потом наверняка получит ещё не один срок. Другой дороги у него просто нет. Ведь ни один университетский курс не отпечатывается так в молодых мозгах, как уроки зоны. Колония – это безотходное производство по выработке человеческого материала, из которого и получатся жестокие и опустошенные существа, и Фуко не прав, нет, не прав: заключённые – не народ в народе – это и есть народ. Но если и можно за что-то презирать жителей зоны, то за рабскую покорность! Большинству всё равно, у кого просить мелкие подачки, и за жалкое послабление режима они будут сносить любые унижения. Им всё равно, какой режим на воле и кто там правит. Они живут в своём островном государстве и за лишнюю пайку готовы растоптать не только других, но прежде себя, себя!
К чёрту всё! И колонию, и зэков! Что его всё ведет туда? Но ведь дом, семья – далеко, а эти обступили, стоят рядом, прикидывают, насколько его хватит. Он и сам бы хотел это знать. Человек ведь многое о себе не знает. Так, может, лучше и не знать, а то разочарование в себе – самое непереносимо в жизни. Брось формулировать пошлости! Брошу, брошу, вот только подкину дровишек. И подкинул. И по белому берёзовому стволу побежали красные язычки пламени, и дымом потянуло в его сторону, и дым был такой пахучий, такой жаркий, что захотелось сбросить куртку, а с курткой и свитер…
И вот он уже видит себя на залитой солнцем площади, её надо только пересечь, и он найдёт нужный вход в терминал аэропорта, кажется, это был нелюбимый JFK – аэропорт Кеннеди. Там, в Нью-Йорке, близко друг от друга три аэропорта. И непонятно, как самолёты на них расходятся при взлёте и посадке. А взлётная полоса Джи-эф-кей и вовсе обрывается у самой воды, и поэтому кажется, самолёт обязательно плюхнется в Гудзон. Один борт туда и приводнился, но это, рассказывали, было так красиво!
Кккррр, кккррр, кккррр – скрежещут по бетону колеса его кофра, а рядом бегут знаменитые джи-эф-кейевские кошки. Они забегают вперед, заглядывают в глаза, а он боится, что заденет какую-то из этих зверушек, и останавливается, но кто-то грубо толкает его в спину. От толчка спину пронизывает боль, а его всё толкают и толкают, а он не может повернуться, посмотреть – кто это. И отчего-то делается страшно, но не понимает этого страха, знает только, что ему надо в Лондон, и он опаздывает на посадку. Он бесконечно долго идёт по пустому терминалу, только где-то далеко у стен, у огромных окон какие-то высокие чёрные фигуры. А потом по взлётному полю к одному-единственному самолёту, и там легко взлетает по трапу рейсового «Боинга». На верхней ступеньке его встречает смуглый стюард-филиппинец, почему-то он уверен, что именно филиппинец, а не малазиец, и провожает его в салон, и усаживает в кресло. Хорошо, ни справа, ни слева от него не было никаких пассажиров, только впереди возвышались какие-то головы, одна, совсем белая – седая, другая, блестящая – лысая.
Он долго ёрзал, устраивался, всё казалось, из кресла торчат пружины, они давили в спину, и было так больно, что пришлось сжать зубы: стонать нельзя. Если обнаружат раненого на борту самолёта, могут и с рейса снять. Он заводит руку назад, и осторожно щупает себя, пытаясь понять, есть ли кровь под пиджаком, и подносит руку к глазам – рука чистая, но почему под пиджаком нет рубашки, как-то неприлично… И тут на соседнем кресле он замечает кошку. Кошка была большая, с красивой шерсткой, он видел каждый волосок – один белый, другой чёрный – настоящая лиса-чернобурка. У матери было пальто с таким воротником и ещё шапка. Внутри она легко пахла духами, а сверху, если зарыться в мех, запах был отчётливо звериным.
Как кошка забралась в самолёт и куда собралась лететь? Но вот она запрыгнула на колени и стала недовольно топтаться, улечься ей мешал привязной ремень. Пришлось отстегнуть, и это получилось так размашисто, что привлекло внимание стюарда, теперь это был англосакс. Он пересадил на пустое кресло кошку и пристегнул его к креслу, но и пристегнув, почему-то не отходил, всё суетился: то поправлял ремень, то салфетку под головой, то гладил кошку. И когда он собрался уже пожаловаться на боль в спине, парень, услышав сигнал, стремглав побежал на чей-то вызов.
Но тут из пилотской кабины вышел некто – высокий, гибкий, в белом кителе с золотыми пуговицами и шевронами. Командир? Только кого ему напоминает это красивое странное лицо? Молодого Магомаева? И вот летчик рядом, и он приготовился открыть рот и попросить помощи, но тот, улыбнувшись и подняв красивую бровь, наклонился и стал щекотать кошке за ухом. Что им всем не дает покоя его кошка? Ухоженные руки, с длинными сиреневыми ногтями совсем близко и, кажется, они вот-вот пройдутся и по его голой груди. «All right?» – отчего-то шепотом спросил летчик. – «Will you help me… please. I am cold» – ответил он. – «You will be helped. Don't worry» – улыбнулся напоследок подвижным лицом авиатор и пошёл, покачиваясь, назад к кабине. И вдруг остановился и, повернувшись, погрозил пальцем: «Don't feel too special» – «Да не считаю я себя особенным!» – хотелось крикнуть ему, но человек в белом кителе уже исчез. А он стал озираться по сторонам, и понял: это вовсе не «Боинг», а салон бизнес-джета. И в открытую дверь видна пилотская кабина, и она совершенно пуста, и только приборы светятся, как ёлочные игрушки, зелёными и красными глазками. Но летчик, где летчик? Куда он подевался? А ведь обещал помочь, запаниковал он. Но тут из-за спинки кресла вдруг откинулась рука: белый манжет, сверкающая запонка, сигарета в смуглых пальцах…
И он успокоился и улёгся на белый замшевый диванчик у большого овального иллюминатора. И тут же из воздуха образовалась кошка. Что-то определив для себя, она вскочила ему на грудь и, потоптавшись, подвернула под себя лапки и застыла серой тушкой, сосредоточено глядя ему в глаза. Стерегла?
Так, с кошкой в руках, он и появился в «Дочестере». Он любил этот отель, любил этот лондонский район Парк-Лейн у самого Гайд-парка. Никого из персонала не удивили ни кошка на его руках, ни и отсутствие багажа. И он сам только в роскошном номере, где, как его убеждали, останавливался сам Черчилль, понял, что кофр остался в Нью-Йорке. А ему через несколько часов предстоит важная встреча! И бог с ним, с костюмом, главное, под рукой нет лептопа. Там важные документы, он должен был ещё поработать, прежде чем представить свой план. Всё было странно: его никто не провожал, никто не встречал…
Но в шкафу была приготовлена одежда: костюмы, рубашки, стояли итальянские туфли – несколько старомодные и широкие – он такие любил. Это что же «Ail inclusive» и это предусматривает? Он долго перебирал костюмы, но, как назло, это были смокинги. Не надо ему никаких смокингов! Он ещё помнит, как, застёгнутый на все пуговицы, потел в этой обязательной униформе на приёме у Буша-юниора, помнит, как мешали длинные рукава, но ещё больше раздражала бабочка на шее…
И вот он видит себя в одном из залов отеля, и, оказывается, там только его и ждут. Со всех сторон к нему кинулись разнообразные персонажи, но всех опередил Хартман. И, взяв под локоть, повел к камину с огромным зеркалом, отражающим сверкающие люстры, цветы, нарядных людей, и взглядом показал на столик в углу. Там, сияя высоким лбом, венчавшим длинное лицо, сидел Ротшильд, лорд Джекоб Ротшильд. Сдвинув на нос массивные чёрные очки, он что-то там читал. Очередной каталог Sotheby's?
Но он, стараясь не вертеть головой, пытался понять, есть ли в зале Киссинджер? Седую голову сэра Генри он увидел у окна. Рядом с ним дама, она была выше на две головы, и это выглядело так комично. Почему он разговаривает с ней стоя? Да потому, что не страдает комплексом неполноценности из-за небольшого роста, в отличие от некоторых особ… А улыбчивый Хартман уже представляет ему высокого красавца в фиолетовом пиджаке и голубых джинсах. И за спиной слышится женский шепот: Дарси, Дарси… Не успел он перекинуться парой слов с этим Дарси, как его потянули в другую сторону. И это уже не Хартман, а Гейтс, Уильям Генри Гейтс блестит рядом очками. Они переходят с ним от одной группки гостей к другой, сколько знакомых лиц – и они все здесь… А это что за господин с ироническим видом посматривает в его сторону? Бжезинский? Они церемонно здороваются, и Бжезинский что-то спрашивает, и он что-то готов ответить, только в просвете между двумя тёмными пиджаками увидел голую женскую спину.
Спина была слегка загорелой и даже на взгляд шелковой, и по этой шелковой спинке спускалась длинная нитка крупного жемчуга, завязанного в узел между лопатками. Ну да, есть такие украшения, специальные украшения для оголенной спины… Светлые волосы женщины были высоко забраны, как это иногда делала Лина, но это была не она. Но, вот как далеко была оголена спина, не видно, мешал чей-то локоть… Он слегка переместился вправо, повернулась и женщина, но зачем ему этот красивый профиль, его интересовала спина, такое же произведение искусства, как… Дальше не формулировалось.
Перед ним двигалась челюсть Бжезинского, его сухие губы ритмично шевелились, он что-то тихо втолковывал ему, новичку их клуба. А он всё косил взглядом и видел только жемчужные капли на нежной коже, две полоски зелёной переливчатой ткани, выбившиеся завитки легких волос на затылке, заколку с бриллиантом. И до зуда захотелось дернуть за бусы. Жемчужины посыпались бы горохом, раскатились во все стороны, и гости, посмеиваясь, стали бы подбирать их по всей зале… Нетерпение длилось и длилось, пока он не увидел себя лежащим на кровати, рядом на шелковой простыне лежали те самые бусы, и слышно было, как в ванной лилась вода. Он сбросил невесомое одеяло – жарко, и притянул к себе жемчуга и они едва уместились в его ладонях. От перламутровых горошин исходил какой-то удушливый аромат.








