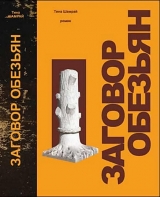
Текст книги "Заговор обезьян"
Автор книги: Тина Шамрай
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 54 страниц)
Справа от будки охранников и турникета – киоск, там принимают заказы на визитки, ламинируют документы, возле киоска можно постоять, делая вид, что разглядываешь образцы, и понаблюдать за работой охраны. А что за ней наблюдать? Как действует механизм, и так понятно. Нет, торчать здесь нельзя. К тому же это совсем не подходящее место для того, чтоб кидаться на шею давним знакомцам, и ждать придётся на улице. Что, ходить взад-вперед вдоль дома? Нет, надо переместиться, но куда? Если он далеко сдвинется, то запросто пропустит человека, эх, если бы знать, с какой стороны он появиться… А может, пойти к Муратову? Пойти пешком к Чистым прудам в Потаповский переулок, там и родной человечек… Вот поэтому и нельзя! Так и здесь нельзя – улица-то режимная! Да ему везде – один большой строгий режим.
Но и на старый Арбат не пойдёт, не будет рвать сердце, только завернет за угол и посмотрит дом с тыла. И посмотрел, и обнаружил: рядом с грузинским рестораном въезд на подземную стоянку, перегороженный лёгким шлагбаумом. Как он мог забыть об этом? Ну, конечно, эховцы ставят машины здесь, а не на улице! Он ещё стоял и прикидывал: а что, если пройти вот так, через стоянку? Но тут подъехала длинная машина и остановилась у въезда в туннель, и на её сигнал выскочил подобострастный мужчина в форменной жилетке. Он принял что-то из рук человека за рулем и резво кинулся к шлагбауму, и машина, как серебристая рыба, медленно въехала в туннель и тут же скрылась за поворотом. Нет, и здесь нельзя стоять, надо вернуться туда, к центральному входу. Он немного прогуляется, посмотрит на людей, себя покажет. Или ему покажут.
И медленно двинулся вдоль улицы, стараясь держаться края тротуара, искоса сканируя прохожих, как вдруг зацепило картинкой в витрине, и он притормозил, и всмотрелся. Всмотрелся и замер, и задохнулся: за стеклом была Лина! Ее распахнутые глаза, её приоткрытый сиреневый рот, её нежная шея! Вот и встретились. Теперь не надо передавать как через третьи руки: ((Скажите ей, не надо плакать, скажите ей, всё будет класс…» Теперь он и сам скажет: «Ну, здравствуй!» Лина не ответила, смотрела прямо в глаза и не видела, была занята делом, её тонкие пальчики что-то там держали/предлагали, какой-то флакон… Он, не отрываясь от дорогого лица, придвинулся к стеклу и разочаровано выдохнул: не она! Она бы ответила. Но чьё это отражение рядом? Пришибленное, сгорбленное, унылое… Вот таких никогда и не узнают! И пришлось оторваться, отступить, сделать несколько шагов в сторону. Но, не сдержавшись, обернулся: женщина на постере удивленно подняла красивые брови.
Нет, он больше не будет прохаживаться, и встанет под каштаном напротив входа, у него и газета есть, почитает. Но в Толиных очках читать было невозможно, а снимать нельзя. Но сколько придётся здесь мыкаться, он уже наверняка привлёк чьё-то внимание. На уличные камеры наплевать – это ерунда, только каждый второй на этой улице – сотрудник службы охраны, а сколько топтунов смежного ведомства. Они привычно косят под туристов, под уборщиков и под кого там ещё? Вот этот улыбчивый товарищ ещё издали показывает: «Есть закурить?» И надо развести руками: нету! А спина похолодела: сейчас подойдут сзади и дадут прикурить ему. Нельзя стоять на месте, нельзя. Но и отойти нельзя. А что, если он уже упустил человека? Нет, нет, не мог он пропустить такого приметного, колоритного, такого арбатского. Почему не мог? Очень даже мог, не надо было перемещаться за угол…
И когда нетерпение достигло запредельных градусов, что-то знакомое неожиданно появилось в компании других людей, чьи полузабытые теперь лица он когда-то так часто видел. Но тот, кого он так ждал, был почему-то не рыжим, а совершенно седым. Белыми были и волосы, и усы, и бородка клинышком, будто совсем другой человек. А вдруг, и в самом деле, другой? Да нет, тот же, тот! Такой же лохматый, с лицом проповедника – главный по «Эху» Венедикт Первый!
И вот трое, попрощавшись, пошли дальше, а двое других: большой с седым ёжиком и невысокий, лохматый, в красной клетчатой рубашке, направились к белой машине, что стояла у тротуара, в небольшом кармане. Сейчас журналист откроет дверцу, скроется там и уедет. Уедет!
Он стремглав бросился к машине, но тут на тротуар выплыла чёрная «ауди» и перегородила дорогу. А машина с журналистом уже медленно выруливала на мостовую, сейчас она вольётся в поток – и всё! Он успел выкрикнуть: «Подождите!», и Венедиктов недовольно повернул голову и тут же бросил человеку за рулем: «Езжай! А то какой-то сумасшедший рвётся поговорить!» И тогда он рванул из последних сил, и достал, и стукнул по стеклу: «Стойте!»
– Мы знакомы? Кто вы? Излагайте быстрее!
– Я… тот, кого ищут, – выдохнул беглец.
– У нас тысячи людей, знаете ли, находятся в розыске, – нетерпеливо перебил журналист. Но что-то заставило его всмотреться, и через секунду растеряно выкрикнуть: «Серёга, стой! Сдай назад! Ничего не спрашивай! А вы садитесь в машину! Быстро, быстро!» И эту команду беглец рад был выполнить, как никакую другую.
Когда он втиснулся в салон, с передних сидений на него настороженно, узнавая и не узнавая, уставились две очень разные физиономии. Человек с седым ежиком на голове, что был за рулем, никак не мог понять, зачем нужно было подсаживать в его машину этого… Постой, постой! А беглец, не обращая внимания на взгляды – это даже хорошо, пусть рассматривают! – лихорадочно выдёргивал из рюкзачка паспорт, свой паспорт, но, прежде чем подать его в чужие руки, достал очёчник и, переменив очки, снял каскетку: а теперь узнаете? Бородатый растеряно раскрыл документ, но тот, второй, выхватил и, едва взглянув, присвистнул: ёпаньки!
– Не может быть! – расхохотался он и тут же привычно представился: Доренко, Сергей Доренко!
– Откуда вы? Откуда здесь, в Москве? – сверкал очками Венедикт Первый.
– Слушайте! Я пишу роман, один из персонажей – это вы… Оху… упоительный роман, скажу вам, должен получиться! А какой сюжетный поворот вы мне сейчас подарили! – веселился Доренко.
– О своём литературном творчестве расскажешь потом! А сейчас выходим и дуем наверх! И быстро, очень быстро! Сергей, ты прикрываешь человека, первый иду я!
Охрану миновали влёт. Венедиктов, вплотную подойдя к окошку охраны, предупредил: «Со мной!» и что-то там шутливое сказал охраннику, и тот благодушно рассмеялся в ответ. И у беглеца отлегло от сердца: вот теперь – всё! В лифте его близко рассматривали, крутили головами, подбадривающе улыбались. Доренко, от которого исходил сложный аромат дезодоранта и табака, радостно скалясь, играя круглыми глазами, состроил рожицы и, ощупав рукав пиджака, хохотнул: «Это там такие выдают? Классный клифт, классный! Я такой тоже хочу».
А беглец, поглаживая усы, прикрывал лицо: прямо передним был глазок камеры. И всё не мог дождаться, когда лифт, наконец, доедет до нужного этажа. У него там внутри всё поднялось, только не от волнения – от скоростного подъёма. На четырнадцатом этаже, у самого входа в радиостанцию, с ними столкнулся некто большой и лысый, и у стеклянной двери сразу образовалась заминка. И как только большой человек заговорил, по хорошо поставленному голосу, по отменной дикции беглец определил – Ганапольский!
– Веня, ты не забыл, у тебя встреча? Её что, отменили?
– Отменили, отменили, Мотя! Быстро в кабинет!
– А что так? Встреча ведь на таком уровне…
– Какая на хрен встреча! Сейчас тебе будет встреча!
И пока главный редактор давал какие-то указания охраннику, Ганапольский не унимался:
– Да что случилось, ты можешь объяснить? А этот конкурент зачем здесь? Его что, в очередной раз попёрли, и ты берёшь его обратно? Веник, ты берёшь его обратно?
– А ты сам давно вернулся, фрилансёр? Как прошли твои римские каникулы? – весело парировал Доренко.
– Матвей Юрьевич, ты можешь потерпеть? Всё в кабинете! – отмахнулся Венедиктов и стремительно, под звуки трансляции понёсся по коридору с красной дорожкой. И коридор этот был весь увешан портретами известных лиц, и этих лиц было так много, что висели в четыре ряда. «И ваш здесь!» – бросил на ходу хозяин и остановился у двери, там сбоку большим таким прибамбасом висел бронзовый колокол. В кабинете с четырьмя работающими мониторами на стене гостя усадили у окна с тяжёлой зеленоватой шторой, хозяин кабинета плюхнулся в чёрное кожаное кресло и, тут же схватив пульт, приглушил звук.
– Матвей, закрой, пожалуйста, дверь!
– Да что, наконец, случилось? – наливался яростью Ганапольский, и прикрыв дверь, повернулся и, взглянув исподлобья на незнакомца, тихо выматерился. И расхохотался Доренко, и Венедиктов напустил строгость:
– Ну, Матвей! Веди себя прилично! – и, повернувшись к гостю, пояснил: – Вы знаете, среди нас нет ни умных, ни образованных, а воспитанных и подавно…
– Абааалдеть! Господи, откуда вы? Как удалось? – не слушая, вертел круглой головой Ганапольский.
– И сам, Матвей Юрьевич, не понимаю, как смог добраться до Москвы. Добрые люди помогли, – улыбался от окна гость.
– Но откуда, откуда? Мы тут такого дерьма наелись за эти дни… Вы и убиты, и на ковре-самолёте за границу перебрались… По последним слухам, находитесь в городке Кэмп-Спрингс, и пользуют вас американские врачи…
– Как видите, я пока здесь, и ещё долго буду… здесь. Вот к вам добрался рассказать, как всё было на самом деле.
– Ну, прям Три дня Кондора! – всё не мог поверить Ганапольский.
– А вы, стало быть, не больше, не меньше Нью-Йорк таймс? – язвил Доренко.
– Нет, Лёшка, ты мне скажи, какого хрена он здесь делает, а?
– Не заводись! Вот интересно нашему гостю слушать о наших дрязгах. В эфире блистайте остроумием, а не в кулуарах! – И, улыбнувшись, главный редактор развёл руками: что с них взять!
– Нет, нет, я внесу ясность! – теперь уже завёлся и конкурент. – Ваш, как вы выразились, гость сел в мою машину! Это понятно? И не забывайте, я уже вписан в анналы вашей маленькой, но злой радиостанции!
– Всё, мужики, хватит! Что вы как дети! Можете хоть минуту помолчать? – прикрикнул главный и, подняв трубку, распорядился: – Срочно найдите Бунтмана! И кофе принесите, кофе! – И, положив трубку, оглядел присутствующих. – Для непонятливых объясняю: наш гость, да, да, наш гость на нелегальном положении. И у него, и у нас совсем мало времени… Ты понял, Матвей? Давай, действуй! Предупреди девчонок! Пошли машину в Орлово, кого-нибудь из ребят поставь на входе. И никого посторонних! Заявленных гостей – кто там у нас сегодня? – окружите заботой и вниманием. Повторяю – вниманием! Правда, здесь есть люди, не являющиеся сотрудниками радиостанции, а потому их перемещения по редакции будут ограничены.
– Я надеюсь, ты шутишь, коллега? – усмехнулся Доренко.
– Нет, Сергей Леонидович, какие шутки! Ты же понимаешь, я не могу тебя выпустить до окончания записи. Закрыть тебя в курилке, что ли?
– Издеваешься? – навис над столом конкурент.
– Извини, но ты сам понимаешь, насколько всё архисерьёзно! И крайне важно до определённой минуты сохранить такую новость в тайне. И оставьте нас хотя бы на пять минут одних. Матвей! – остановил коллегу редактор и очертил рукою круг. – Посторонних окружите контролем! Ты понял?
Когда кабинет опустел, Венедиктов вышел из-за стола и сел рядом с гостем на стул.
– Давайте обсудим подробности нашего мероприятия. Сначала вы сделаете заявление, так? Потом вопросы… Часа нам хватит? Жаль, придётся давать в записи, но сделаем это максимально широко. Телевизионная версия пойдёт по RTVi, видеофайл и текстовик будут выложены на нашем сайте тут же…
– Я прошу вас взвесить всё, и тогда…
– Такого рода решения принимаю я один. А что касается коллег, то эта рота без царя в голове, чего им бояться?
– Ну, если без царя, тем дороже эти головы.
– Ай, да не о нас речь! Мы можем максимально затянуть с выходом в эфир, но не больше, чем на два часа. К сожалению, приходится действовать с оглядкой на свидетелей. Но что потом, потом?
– Потом – Малая Дмитровка…
– И ничего нельзя сделать?
– Теперь уже нельзя…
– Да, да, понимаю… Ну что ж, машину и эскорт до прокуратуры мы вам обеспечим, подтянем и коллег… Попробуем и родителей привезти. На днях уже была предварительная договоренность с ними об интервью. Родители у вас – люди понимающие, и если не будет пробок, то через час они будут здесь. Хоть повидаетесь без конвоя! А получится, так и вашу жену вызвоним… Чёрт возьми! Какой-то библейский сюжет… Давайте-ка по пятьдесят грамм коньячку, а?
– Если можно, то чаю. И хорошо бы… – провёл рукой по щеке гость.
– Да, да, разумеется! – и, обернувшись, главный поднял телефонную трубку: «Оля, где там обещанный кофе? И чаю, чаю заварите, крепенького такого, настоящего! Бунтман не подошёл?» – ещё вопрошал он, когда в дверь постучали.
– Минутку! Минутку, я сказал!
– Какая минутка? Зачем тогда звал? – протиснулся в дверь усатый черноволосый очкарик. – Лёш, народ начал волноваться, с чего это у тебя дверь закрыта?
– Ладно, ладно, народ поймёт… Знакомьтесь – это мой заместитель Сергей Александрович, а это…
– А это, я так понимаю, – двойник? А ведь и в самом деле похож, очень похож. Прямо брат-близнец!
– Да нет, Серёжа! Близнецы у нашего гостя дома бегают. А здесь перед тобой он сам, собственной персоной…
– Ничего не понимаю! – растеряно всматривался Бунтман. – Разыгрываете, черти? Такого в принципе не может быть… Вот это, я понимаю, сюрприз, так сюрприз!
– Бунтий, остынь! Давай, пиши анонс! И такой, чтобы народ ничего не понял, но взбодрился. Ты это можешь! У нас час на запись, и… И час на встречу с родственниками. Жаль, предварительно тему разогреть нельзя. Сначала дадим в режиме хед-лайна, а потом… Потом будет жарко, потом новость сама разнесётся по сетям…
Они всё говорили, говорили и что-то спрашивали у него, а он переводил взгляд с одного на другого и только улыбался. Все эти полчаса, что он находился в редакции, его не оставляло какое-то особенное чувство, его будто обволокло благожелательной пеленой из сочувственных взглядов, улыбок, подбадривающих жестов. И потому не особенно понимал смысла слов, всю эту весёлую суету, которую сам и вызвал. Но радоваться сил не осталось. Он смертельно устал, как устает марафонец на финише. И боялся только одного: в ответ на приязнь изойдёт какими-то лишними словами…
Зря переживал! Там, где собрались вместе три журналиста да ещё монстры эфира, постороннему человеку трудно вставить слово. Ну, если только этого человека не надо расспросить…
И скоро Ганапольский повел его по коридору, и у одной из дверей остановил и предупредил:
– Запахи здесь соответствующие, пахнет мужским туалетом. А это, как вы знаете, запах звериный, его ничем перешибить нельзя. Но здесь и полотенце, и бритва… Действуйте!
Меж тем атмосфера кабинете главного редактора стала накаляться. Ворвавшийся туда конкурент попытался без свидетелей восстановить паритет.
– Так! Теперь слушайте меня! Пока вы здесь окончательно не очумели от своей удачи, выставляю свои требования – двадцать минут эксклюзива для Русской службы новостей. Нужен диктофон и свободный компьютер!
– Эти двадцать минут, Сергей, будешь не у меня просить, а у ньюсмейкера… А диктофон – пожалуйста, будет тебе аппарат! Но вот к компьютеру, извини, допустить тебя не могу. Ты хитрый, я ещё хитрее. Вот тебе бумага… Ручку дать?
– Я же и ответить могу!
– Кто бы сомневался! Но потом, потом, Сергей, будем разбираться, кто кому достоинство прищемил. А теперь извини! – и, обернувшись к возникшему в дверях Ганапольскому, потребовал:
– Матвей, надо ехать в Орлово, привезти родителей, и под каким-нибудь весомым предлогом жену…
– Веня, машина давно ушла! Девчонки сидят на телефонах! Вот только не переполошим ли мы своей активностью наших кураторов?
– Боитесь, что вас, как последнюю канарейку гласности, накроют портянкой? – хихикнул конкурент, подпиравший шкаф.
– Смотри, как бы тебе самому рот не зашили…
– Матвей, угомонись! – устало бросил Венедиктов. – Сергей Леонидович, а вы что же, от портянок уже избавлены? Все, все! Хотим мы этого или нет, но должны действовать вместе. Такая вот ирония судьбы! Это я для тебя, Матвей, говорю! Можем мы из конкурентов хоть на время стать соратниками? Или для вас журналистская солидарность – пустой звук? И ещё, когда машина подъедет к Орлово, дайте знать, я всё объясню по телефону сам…
– И где будете устраивать кафе Элефант? – ухмылялся Доренко.
– Это только такие комми, как ты, устраивали всякие там садистские свидания в «Элефантах», где муж с женою в гляделки играли…
– Причём тут коммунисты? Кино снимала женщина с романтическими представлениями о мужчинах, ну, то, что они во имя великих целей годами могут жить без женщин… Настоящий Штирлиц завёл бы крепкую, сисястую немецкую бабу и…
– Нашли время обсуждать половую жизнь Штирлица! – разозлился Венедиктов, но тут же, сменив интонацию, кротко попросил:
– Серёжа, дай свой телефон, – протянул он руку к Доренко. – Позарез надо сделать один звонок.
– Но почему с моего телефона? Да у вас своих, как грязи.
– Но тебя-то, надеюсь, теперь не слушают? Ведь не слушают, а, Сергей Леонидович?
– Да за мной два топтуна ходят! – обиделся конкурент, но телефон нехотя протянул. Венедиктов тут же положил его в ящик стола и, подняв руку, остановил взрыв протеста.
– Это, чтобы соблазна не было! Я же понимаю, как тебе тяжело, как мучительно, имея такую новость, не выдать её первым. Очень даже понимаю, сам такой… Да, поздновато изъял, но, надеюсь, ты ещё не успел раззвонить всему свету по секрету. Всё, всё! Закончим с этим… И прошу: попридержите свои языки, человек в таком положении, а вы… Как там наш гость?
Через десять минут гостя завели в какой-то зальчик и главный давал пояснения: «Это наша телевизионная студия, вы её ещё не видели… А это, видите, веб-камера, теперь прямо отсюда в интернет… Жаль, в нашем случае это невозможно, придётся сделать запись…» А беглец всё вертел головой и не верил, не верил, что яркий логотип на всю стену, и бликующее стекло звукорежиссёрской, и огромный светлый стол с микрофонами и какими-то далеко выступающими дизайнерскими штучками, и экраны, и осветительные приборы, и казавшийся бездонным потолок, и оттуда тоже светило, как в пилотской кабине – и всё это наяву!
Вокруг было столько людей, кто-то возился с осветительными приборами, другие проверяли микрофоны, стояли у камер. А он не очень понимал, зачем его пересаживали несколько раз, а тут ещё какая-то девушка с какими-то баночками, кисточками стала суетиться вокруг него, и он, как мог, отбивался: зачем, не надо! «Ну, смотрите, какие у вас синяки и под глазами… Как же с такими синяками? Алексей Алексеевич!» – взывала девушка к главному. Тот устало махнул рукой: «А что ты хотела после дальней дороги? Да всё нормально!» И, повернувшись к гостю, стал настраивать:
– Я сяду вот здесь, рядом с вами, не волнуйтесь – это ведь не прямой эфир. К сожалению, не прямой! Здесь микрофонов много, но ваш вот этот! Когда зажжётся красная лампочка, значит, включён… Я же просил принести нам по мензурке коньячку, неужели это так трудно… Ну что, аппаратура готова? Или в самый неподходящий момент забарахлит? Смотрите, головы оторву!
И что-то поднесли в маленьком стаканчике, и беглец выпил, и защипало во рту и почему-то в глазах. Странно, он ведь совсем не волнуется, что ж теперь волноваться…
– Всё будет хорошо! Родители уже выехали, вот-вот будут здесь, – неосторожно сообщил Венедиктов и, отвечая на немой вопрос, повысил голос:
– Да-да, я – зверь! И не надо мне говорить об этом! Но сначала запишемся, а потом, потом всё остальное. Иначе не только вы рассиропитесь, но и я вместе с вами изойду слезами… Всё, всё! Приготовились… приготовились… Вы как?
И прежде чем ответить, беглец перевёл взгляд на людей, набившихся в студию и молча стоявших за камерами у противоположной стены, будто пытался кого-то рассмотреть среди них, но яркий свет бил в глаза и ничего было не разобрать. И человек рядом отдавал последние распоряжения:
– Всех лишних попрошу выйти из студии, от вас только интершум и никакого интима! – Но студийный народ не шелохнулся, только понимающе примолк.
– Ну, что, начнём шокировать? Готовы? – уже жёстче спросил тот же голос.
– Да, – хрипло выдохнул он и придвинулся к микрофону.
Через несколько месяцев вечером его неожиданно выдернули из камеры и повели, ничего не объясняя, длинными коридорами. Он отнёсся к этому спокойно, голова была занята другим: никак не складывался простенький абзац в тексте. Формулировки получались расплывчатыми, а хотелось отточенности и афористичности. Он уже вошёл во вкус построения словесных конструкций, что сродни животворящему акту, и теперь не хотел прерываться на постороннее и чуждое.
И только у кабинета начальника следственного изолятора удивился: что за срочность в такой час, да слегка обеспокоили гражданские лица, что немо сидели на стульях вдоль стен. Полковник был мрачен, торжественен: «Сейчас вас доставят…» – замялся он. – «Меня что…» – «Да, да! К нам, надеюсь, претензий нет?» И он, как опытный заключённый, ответил: нет, нет, никаких претензий. Его тут же попросили что-то подписать, он сделал это механически и спрашивать «зачем, почему» не стал. Полковник кивнул головой, и его тотчас вывели.
Машина была обычной «газелью» без всяких металлических стаканов, не было и наручников, только с боков его тесно прижали двое служивых в масках. Он и этому не удивился, и только мелькнула мысль: как же вещи, книги? Но особенно не напрягался и, прикрыв глаза, снова вернулся к прерванной смысловой работе. И проявил некоторое любопытство лишь, когда машина притормозила у высоких ворот, и приготовился к долгому ожиданию и проверке. А машина, молниеносно миновав охрану и немного попетляв, снова остановилась, но где? В свете фар из темноты выступали только стволы деревьев: секретная тюрьма за городом?
– Вы свободны! – сказал кто-то с передних кресел и протянул ему тонкую папочку и какой-то пакет.
«Свободен? Что за шутки?» – не поверил он. И, только выбравшись из машины, понял: привезли к дому, его дому. Он возвышался рядом, тёмный и безучастный, неярко светились только два верхних окна. И в тишине было слышно, как падали редкие капли с крыши. Оттепель! Он сделал несколько шагов и растерянно остановился. Машина за спиной тоже медлила, будто ждала, не запросится ли узник обратно. Потом он долго помнил эту свою нерешительность: автобус уехал, а он всё стоял у двери и не мог нажать на белую кнопку. Как он явится вот так, без предупреждения?
Нажимать кнопку не пришлось, в холле неожиданно зажёгся свет, дверь будто сама собой открылась, и на пороге встал человек в тёмной униформе. Тут же появилась какая-то женщина и прошелестела: проходите, проходите. В доме было тихо, ничего не стукнуло, не звякнуло, никто не сбежал по лестнице, не кинулся на шею… Он стоял посреди холла в своём нелепом пальто и стариковских ботинках и не знал, что делать дальше. И, вздохнув, оглянулся в поисках телефона: помнится, должен стоять где-то здесь. Аппарат был на месте, и он, нажав несколько кнопок, только и смог сказать отцу: «Приезжайте, я дома».
И ещё минуту стоял, держа руку на телефоне, когда почувствовал за спиной шорох и обернулся, и увидел Лину. В какой-то косыночке, с кулачками у рта, она непонимающе смотрела на него и молчала. Надо было успокоить: «Не бойся, я не сбежал – отпустили», но выговорилось лишь: «Извини!» Только обнять и прижать к себе, тюремному, так и не решился. Нельзя заставать женщину врасплох, даже, если это собственная жена. А всё из-за того, что кому-то там не хотелось ажиотажа вокруг его освобождения, но и ему не нужно никакой шумихи. А когда узнал, что и Антон дома, так и вовсе отключился от всего внешнего.
И утром заново знакомился с сыновьями. Мальчики церемонно поздоровались, чинно уселись на стулья, что-то рассказывали, а он рассматривал детей и ни о чём не спрашивал. Зачем? И так хорошо. Только мальчишек хватило ненадолго, и через полчаса они привычно носились по дому и стихали, только когда пробегали вблизи взявшегося ниоткуда отца. Оказывается, папа – это не портрет за стеклом, а вот этот дяденька, что теперь будет жить с ними в одном доме. И все спрашивали: «Ты больше не уедешь, не уедешь?»
С дочерью было проще, но и она была вся в своих молодых делах. Наверное, и правда, с какого-то времени дочка становится отрезанным ломтем, но отрезали его так рано! И теперь только оставалось смотреть, любоваться – выросла такой красавицей, слушать девичье щебетанье и принимать как должное недолгое внимание. И, когда в разговоре у неё проскользнуло жаргонное словцо, лишь поморщился, но сделать замечание не посмел – все сроки для воспитания давно пропустил.
И когда улеглась суматоха от встречи/узнавания, стало казаться: и мальчикам, и жене не по себе от его внезапного возвращения. Они так долго жили без него, что он поневоле перешёл в разряд лишнего, необязательного, непонятного. Вот и родителям не верилось: неужели всё закончилось? Они приезжали утром и возвращались к себе вечером, и прощались каждый раз как навсегда. Он и сам смотрел на всех издалека, будто ещё не вернулся. И старался занимать меньше места – пусть привыкнут. Привыкнут ли?
Всё это время шел снег, и он подолгу сидел на балконе, и бездумно смотрел на верхушки деревьев, и вдыхал острый воздух, и пил кофе, и стучал одним пальцем по клавишам лептопа, так, ерунду. И горячие коричневые капли падали в снежное кружево… И прилетали птицы, и без боязни садились рядом, и внимательно рассматривали его: откуда, мол, взялась эта лишняя деталь, эта тень на привычной картинке. И пришёл кот и сел рядом на диванчик, но тот ли это кот, что жил здесь раньше? Этот серый, будто седой, спокойно смотрел на птиц, наверное, был старым, и потому, как собака, давал себя гладить незнакомому человеку.
Никто не доставал в эти первые дни – ни близкие, ни дальние, но долго скрывать новость о перемене его участи не дали сами освободители. На пятый день разными голосами разнесли весть: освободили! Не заслужил, но освободили, вот мы какие милостивцы!
И в тот же в доме затрезвонили разом все телефоны. И хоть он не откликался на эти звонки, но стало не до тихих семейных радостей. Собственно, радостей было мало, дома было что-то не так, только разбираться со всем тем, что накопилось за эти годы, не хотелось. В одну из ночей он потянулся к жене, она не откликнулась, лежала, отвернувшись, плакала. И его как отбросило. Надо было обнять, утешить, ещё раз попросить прощения, а он не мог заставить себя сделать ни того, ни другого, ни третьего, и сам не знал почему.
Утром Лина была оживлена и всё порывалась показать, как она сама теперь водит машину, но ему надо было сделать несколько важных звонков. Он и в самом деле должен был позвонить и Толе, и Алексею Ивановичу. О его освобождении уже трубили вовсю, а он неприлично молчал. У Пустошиных было всё в порядке, у Юры росла дочь, очередное дело против Алексея Ивановича было прекращено, как и против других пикетчиков. Он, правда, так и не разобрал, против чего протестовали там, в Хабаровске, только слушал, как Алексей Иванович веселым голосом кричал ему в трубку: «Испугались власти, испугались! Жаль, дело не дошло до суда…» А телефон майора Саенко молчал. Может, у него теперь другой номер, но почему не сообщил? Толя прислал ему в изолятор два смешных послания, у него оказался красивый, летящий почерк, но на его последнее письмо не ответил, наверное, очень занят. У него самого Толя отодвинулся вглубь сознания, и забайкальские события уже покрылись дымкой, перекрылись другими днями, иными лицами, но он ничего не забыл. Не хотел забывать.
Пришлось заказывать разговор по адресу, и уже представлялось, как озадачит майора вопросом: «И когда тебя ждать в Москве?» – А Толя удивится и спросит: «А зачем?» Нет, нет, он спросит: «А на гада?» Так у него ответ готов: «Приезжай, возьмём напрокат вертолёт, полетаем». И тогда майор обязательно процитирует одну из своих летных шуточек, может быть, вот эту: «Тот, кто хочет стать пилотом, видно, очень смелый тот, потому что только смелый сам полезет в самолёт». Ну, так и он подденет Тольку: «Вот и посмотрим, какой ты пилот, какой ас!» И в предвкушении разговора рот улыбался сам собой, и отчего-то казалось: нет, нет, всё не так плохо! Но к телефону подошла женщина и на вопрос: «Нельзя ли пригласить к телефону Анатолия Андреевича?», глухо ответила, как отрезала: «Нельзя», и почему-то сразу бросила трубку.
Тогда он попросил читинских знакомых найти заведующую детским садом, что звалась Дорой, вряд ли там есть другая с таким же именем. И через двадцать минут ему продиктовали номер телефона, но не успел он представиться, как Дора перебила: «А вы кто ему, просто знакомый или друг?» и он, не задумываясь, ответил: «Друг!» и тогда женщина затараторила: «Какой же вы друг? Все друзья приехали, провожали… А он такой лежал…» – «Что – сердце? Он в больнице?» – «Какая больница! Вы что же, ничего и не знаете? Умер Толечка, два месяца, как умер… Джип у ворот поставил, успел только выйти – и не вскрикнул, не охнул, раскинул так руки, упал на снег – и всё!»
Прибитый этой новость, как гвоздем к стенке, он только и смог сказать: «Извините, я перезвоню». А в ушах ещё долго слышалось: «Ой, мы так его хорошо проводили, так хорошо… Такие поминки были… И народу было, народу… И такой хорошенький лежал, такой беленький, вот как заснул…»
Он хотел пережить всё это в одиночку и закрылся в кабинете, и пил всю ночь. Поздним утром в дверь постучали – это была мать. Он вернулся на диван и укрылся пледом с головой, сейчас он не хотел видеть даже ее. Но мать ничего не спрашивала, только положила на голову теплую руку. И тогда он заплакал. Обо всем сразу. Она восприняла это спокойно: «И правильно, и хорошо, и поплачь…», а потом испугалась и всё повторяла: «Ну что ты, сын, что ты… Скажи, где болит? Может, врача вызвать?»
– Нет-нет! Ничего не надо! Мама, ты помнишь, тебе звонили тогда, в августе? Помнишь, что этот человек сказал тогда?
– Как не помнить? Там и помнить нечего, он сказал всего одну фразу: «Мадам, вы меня не знаете, но должны верить – ваш сын жив и скоро сам объявится». Я кричу ему: «Скажите, что с ним?», а он снова повторяет: «Мадам, вы меня не знаете…» Видно, боялся говорить…
– Это Толя… И ничего он не боялся! Он проехал пятьсот километров только для того, чтобы сказать тебе это… Умер он… Понимаешь, зимой умер, а я только сейчас об этом узнал… Давай помянем его, мама.
– Обязательно, сыночек, обязательно. Но потом, потом… Сегодня ты уже напоминался…
Он вышел к обеду, и все были предупредительны и сторожили каждое его движение, каждый взгляд, каждое слово. Но он, погруженный в себя, молчал и потому не сразу понял, что разговор за столом затеян был для него:








