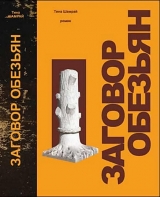
Текст книги "Заговор обезьян"
Автор книги: Тина Шамрай
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 54 страниц)
Старлей усмехнулся, но промолчал. Тогда Балмасов переменил тему: «А что там отцы-командиры?» – «Командиры отдыхают», – щелкнул себя по горлу Братчиков. Но здесь он несколько преувеличивал. Чугреев, и правда, как только поезд тронулся, достал бутылочку, хотел пропустить стопарик, но Фомин резко отказался от выпивки и потребовал у проводницы крепкого чая. Так и отобедали, запивая колбасу трезвым кипятком. Но потом подполковник всё-таки соблазнил майора перекинуться в картишки. И время от времени из купе, где резались Чугреев с Фоминым, доносились возгласы: заносчивые – выигравшего, и досадливые – проигравшего.
– Ну, хрен с тобою! – решил, наконец, Балмасов. – Токо ты это… как штык, – ткнул обработанным ногтем в циферблат огромных часов на своей руке капитан.
– Замётано… А твой плеер где?
– Ты хочешь эту лахудру драть под музыку? На, бери! – вытащил из ранца музыкальную штуковину Балмасов. – Токо она тебе может ещё и не дать! – Ревниво переживал чужой мужской успех капитан. И, выскочив из купе, крикнул вдогонку напарнику: «Скажи там, пусть чаю ещё принесёт!» Время отобедать настало и для него, Балмасова. Свой паёк он собрался употребить в соседнем купе справа, но, не дождавшись проводницы, потопал за кипятком сам. Возвращаясь со стаканами, вспомнил, что не пристегнул хмыря, и, вернувшись через минуту, звякнул наручниками, привлекая сидевшего с опущенной головой арестанта. И тот, очнувшись от своих мыслей, попросился на оправку.
Конвоир, пропустив заключённого вперед, двинулся следом и у открытой двери туалета встал за спиной. А тот сначала вымыл лицо, потом, расстегнув джинсы и постояв с минуту, застегнулся: ничего не получилось. Пришлось мыть руки, а потом снова лицо. И это, на взгляд капитана, было преднамеренным издевательством.
– Что, пройтись захотелось? Следующий раз выведу вечером. Понятно? Ве-че-ром! Так что завяжи узлом и сиди тихо, – раздраженно внушал Балмасов по дороге в купе. И, приковав заключённого, смог, наконец, приступить к трапезе, и через перегородку было слышно, как капитан шумно втягивает в свою утробу кипяток. А потом, не дожидаясь обещанных напарником четырёх часов кряду, капитан начал отдыхать заранее. Заснул он быстро и спал тихо, только отчего-то вдруг сильно взрагивал, и тогда бил ботинками о перегородку.
Оставшись без охраны, арестант ещё долго прислушивался, пытаясь определить, как надолго и эта тишина, и это нежданнодолгожданное одиночество. За последние несколько лет он считанные разы оставался один. И это существование в режиме максимальной публичности было самым непереносимым в подневольной жизни. И как только конвоир там, за перегородкой, затих, он придвинулся к окну и, придерживая рукой занавеску, уткнулся в мутное стекло. Но ничего живого за окном не было, только белёсая степь, такая же унылая, как и его положение. Ему долго пришлось привыкать к подконвойной жизни, но теперь он научился сидеть, не шевелясь, лежать, не ворочаясь, казалось, ещё немного, и сможет по-йоговски влиять на ритм сердца.
Самое трудное научиться не ждать освобождения, не ждать часами, неделями, годами. В первое время после ареста он ещё надеялся, что, напугав, ему предложат сделку и, разорив, заставят уехать. Он ещё помнит, как тогда убеждал себя: нет, добровольно не сядет в самолёт. Пусть высылают силой, как Солженицына, как Буковского! Выслали, как же!
Да, не ждать и не выказывать нетерпения, захлёстывающей тоски и слепящей глаза ярости. Знал бы кто-нибудь, чего стоили ему и это спокойствие, и эта невозмутимость, и эта улыбка для разглядывающих. Особенно тяжело далось публичное одиночество на первом процессе. Сознание никак не хотело мириться с клеткой. Приходилось следить за собой, а то ненароком забудешься и начнёшь жевать галстук. И рисовать в тетради или блокноте кружочки, и в те часы, когда в зале не было ни матери, ни жены, рисовал их бесконечно. Из кружков плелись гирлянды, человечки и разные другие фигуры. Это Антон, порывистый и нетерпеливый, чертил что-то остроконечное. Иногда они писали друг другу и обменивались тетрадями, так и переговаривались. Когда на какой-то особенно нелепый прокурорский пассаж Антон шепотом, глядя с улыбкой на синий мундир, маячивший напротив клетки, витиевато выматерился, он написал для него в тетради: «Ты, как никогда, прав!» Но так иронически воспринимать судебное действо удавалось не всегда. И долго убеждал себя относиться к происходящему, как к спектаклю, где сюжет разыгрываемой пьесы обязательно закончится свадьбой главных героев.
Всё несколько оживилось, когда в процессе настала очередь адвокатов. И казалось, вот сейчас, сейчас они врежут, докажут и суду, и всем – обвинения не стоят и ломаного гроша. Нет, он понимал, точно знал, его обязательно признают виновными. Только надеялся, что их с Антоном приговорят к условному сроку с выплатой огромных штрафов. Он ещё прикидывал, каким будет этот срок, таким же смешным, как бывшему министру юстиции? Но насмешил только себя!
И когда закончилось бесконечное и нечленораздельное чтение, и судья дошёл до слов: суд постановил, он только тогда осознал, что всё всерьёз и надолго. Но и потом, вопреки очевидному, ждал пересмотра дела. Действительно, пересмотрели и решили: маловат срок, маловат! И тут же подоспело новое бессмысленное обвинение. А под видом следствия – ужесточение режима Читинским централом, а потом снова Матросской Тишиной. И были ещё два года выматывающих, оскорбительных допросов, а потом долгие месяцы нового судилища.
Оставалось только одно – упереться лбом в стенку и держаться. Вот только брать в руки себя, осыпающегося, с годами становилось всё труднее и труднее, да и стенка-срок отодвигалась всё дальше и дальше. И ярость то затухала и покрывалась пеплом, то вновь что-то горячилось внутри, и тогда он срывался. Да, срывался, а потом долго выговаривал себе: нельзя так распускаться, стая только этого и ждет! Но это уже было на втором процессе, где с шизофреническим упорством ситуацию довели до полнейшего абсурда. И даже тогда он пытался противопоставить всей той галиматье логику, отбивался от каждого пункта обвинения…
А ведь когда повезли на суд в Москву, да ещё самолётом, у них с Антоном появилась тень надежды. Даже то, что в суде отгородили стеклом, а не посадили в клетку, поначалу посчитали хорошим знаком. В клетке человек всегда кишками наружу, а стекло хоть как-то прикрывало от любопытных глаз. Ведь во взглядах на подсудимых, даже тех, кто сочувствует, всегда любопытство.
И ничего, что в этом ящике тесно, – нельзя вытянуть, как раньше, сквозь прутья решётки затекающие ноги – ерунда! Зато теперь они с Антоном свободнее переговаривались. Только из-за стекла нельзя сказать и самого малого слова, всё через микрофон. А микрофон могут и не включить и выключить в самый острый момент. Да переговоры через узкую щель саркофага, были пыточной процедурой и для них с Антоном, и для защитников.
Но как-то сыновья слету, минуя охрану, кинулись к застеклённой клетке и смогли протиснуть свои маленькие руки в эту прорезь, и он на секунду, но сжал их маленькие лапки. И потом долго удивлялся, как им это удалось, как не испугались автоматов! И кто из сыновей придумал это? Или всё было безотчётно и бессознательно? И отчего-то гордился этим неразумным порывом…
Вот и взрослые мужчины ко второму процессу осмелели, и на судебные заседания стали приходить разнообразные деятели. О, сколько поднятых вверх сжатых кулаков он увидел тогда! Интересно, где они были, когда их судили в первый раз? Ведь обвинение и тогда было таким же алогичным. Что же изменилось ко второму процессу? Ах, да! Некоторые решили, если они с Антоном и были виновны, то уже отсидели своё, мол, сколько же можно. А то не знают, прекраснодушные: сколько нужно, столько и можно! И, казалось, иные приходили лишь удостовериться: надо же, жив курилка! Ты смотри, ещё держится!
Впрочем, публику на втором процессе составляли вовсе не политики, а интеллигентные московские старушки. Кто ещё мог вытерпеть несколько долгих часов нуднейшего действа? И они с Антоном радовались каждому новому лицу, и если человек дожидался на лестнице их вывода под конвоем, то старались поблагодарить улыбкой, кивком головы. Но все надежды были на журналистов! Именно они не давали остыть теме и закатать её под асфальт. Только поэтому он и согласился участвовать в том фарсе, что зовется теперь судебным процессом.
А всё дурацкое любопытство! Всё хотелось понять принцип действия машины, что перемалывает и перемалывает его столько лет. И, бог мой, какие психологические этюды разыгрывались в суде! Сколько человеческих типов чередой прошло перед клеткой. Одни так боялись, что меняли показания по два раза на дню. Таких было немного, но ведь были, были, и пели с прокурорского голоса, а голос тот был совершенно фальшивым. И он всё удивлялся: что, и так можно? Без всяких оснований, без доказательств, без экспертиз? Да вынесли бы приговор тройкой: десять лет без права переписки и успокоились бы, наконец!
Но нет, всё тянули и тянули эту бессмыслицу, а потом был новый приговор. Нет, их не оправдали. Признали всё-таки виновными и приговорили к трем годам. Условно. А он старался, лекцию прочёл и прокурорским и судейским, думал, хоть как-то образовать эти головы на примере деятельности крупной компании. Образовал! В обоснование приговора легла и такая забавная формулировка: «…халатность в вопросах делопроизводства». Ничего нелепее нельзя было и придумать. Наверное, в отместку за то, что в собранных документах, не нашлось никаких подтверждений преступной деятельности. А ведь прокурорские где только не собирали эти доказательства, не брезговали и мятую бумагу из мусорных корзин доставать…
Но и от такого нелепого приговора доброжелатели зашлись в восторге, некоторые всерьёз поздравляли: мол, режим всё-таки смягчился, и всё вышло не так страшно! Наши протесты подействовали, подействовали, говорили они, будто выполнили всю работу за адвокатов. До конца первого срока, мол, осталось совсем немного, всего-то несколько месяцев! Это они ему – всего-то! Утешители хреновы! Откуда доброхотам было знать, что каждый тюремный день – бесконечен и непредсказуем, и самое трудное не пережить эти дни – дожить до звонка…
Адвокаты ещё составляли кассационную жалобу, а он решил: всё, хватит! Не хочет он больше ничего кассировать! Он выдохся, разом почувствовав: ещё немного, и камера задушит его, высушит остатки жизненных сил, вытянет душу. Серые стены, пропитанные проклятьями, давили так, что хрустели кости, и мозги заносило илом, ещё немного, и он заживо сгниет в каменном мешке или поддастся тюремному психозу и… И самым непереносимым были свидания-несвидания с Линой. Свидания через стол, как в Читинском централе, или через двойное стекло, как в Матросской Тишине. О! Эти свидания с женой за столом! Видеть её, держать руки, прикасаться к её коленям и… И всё! Страж садился в торце стола и с ухмылкой внимательно слушал и наблюдал за ними. Видеокамер было недостаточно, нужен был ещё один раздражитель. Зачем? Для чего? Довести его до белого, красного, синего и какого там ещё каления? Но и это было давно! Теперь, если и виделись, то через двойное стекло, а за ним и не разглядеть: человек по другую сторону перегородки или тень человека. Он даже во сне её не видит. Долгие годы тюремного режима разбили его семью, и он хотел понять, окончательно или надежда склеить осколки ещё есть…
Нет, пока другие не заметили, что он на пределе, надо было поскорее попасть в колонию. Это у Антона ещё не иссяк запал, и он намерен стоять до конца и дождаться апелляционного суда. А он – нет, больше никаких бессмысленных судов! В колонии мерзко, но там вольный воздух, ветер, хоть изредка, но будет солнце! И надеялся, на этот раз его отправят куда-нибудь поближе, но, как в насмешку, снова повезли в Красноозёрск. Пришлось принять и это. И хорошо, и ладно, и пусть этот чёртов городок. Только бы приехала Лина, только бы приехала! Он хотел увидеть её, и, может статься, в последний раз.
И по приезду не мог дождаться, когда кончится карантинная изоляция, и он выйдет из камеры в свой отряд, потом приедет Лина. Он не прикасался к ней несколько лет… И вот, когда он уже считал не то что дни – часы до приезда жены, как снег на голову: на этап! Он давно живёт в режиме гулаговской чрезвычайности, когда не знаешь, что будет через пять-десять минут, но такие распоряжения всегда ошарашивают. Теперь вот сиди и гадай, что стоит за этим перемещением. Ведь ничто не предвещало перемен, адвокаты бы уловили малейшее колебание почвы. Да ведь и адвокаты выложись на процессе и сами устали…
А может, стонадесятая жалоба всё-таки возымела действие, и его этапируют пусть не в Коломну, пусть в Тверскую губернию, там, говорят, отбывают сроки москвичи… Или в Страсбурге вынесли какое-то решение? Да нет, что для этой своры-стаи какие-то внешние решения! А то, что Навроцкий намекал на какие-то вновь открывшиеся обстоятельства, – ерундистика, что может знать лагерный полковник? Но если эта информация имеет к нему хоть какое-то отношение, то открывшиеся неведомые обстоятельства могли означать всё, что угодно: и пересмотр дела, и новые обвинения. Так скоро? Но разве это удивительно? Песнь о его прегрешениях должна быть бесконечной. Тогда почему в этот раз не было прокурорского десанта? А зачем церемониться? Это когда-то тобой занимались важные чины, теперь хватит и капитана Балмасова!
От тягостных мыслей арестанта на несколько минут отвлёк грохот встречного. Стремительный грузовой состав, подняв вихрь, с визгом пронёсся как на пожар и неожиданно исчез, будто ничего и не было. Скоро поезд должен выехать на линию Забайкальск-Чита, но только к утру он дотащится до конечной станции. А потому надо просто отдыхать, он без конвоя уже полтора часа – когда ещё выпадет такое? И, упрятав ненужные мысли, он прикрыл глаза, и в те минуты ему хотелось только одного – покоя.
Поезд свернул у станции Хоранор и, постояв там для приличия, поехал дальше, теперь прямо на север. И заключённый, убаюканный тишиной и покачиванием, дремал, чутко контролируя пространство вокруг себя. И когда состав снова стал сбавлять ход, очнулся и осторожно отогнул занавеску: что там за станция? Будто хотел для чего-то запомнить эти остановки в пути. Хотя зачем ему это знать! Не-за-чем, не-за-чем, не-за-чем… Но скоро в просвете между занавесками мелькнули сначала мелкие скучные строения, потом жёлтый с огромными окнами вокзал того узнаваемого советского стиля, что ещё встречаются в иных железнодорожных местах. Этот вокзал отличало некоторое архитектурное излишество. На фронтоне ещё сохранилась лепнина, что изображала и серп, и молот, и красные знамена, ниже крупными буквами значилось: Борзя. И редкий военный на наших просторах не знал название этого далёкого забайкальского городка.
В Борзе составы стоят долго – станция-то узловая, вполне себе рабочая, с пассажирами и грузами. Вот и в тот день поезд из Приаргунска нетерпеливо поджидали, но первый вагон был в хвосте состава и остался за пределами пассажирской зоны. Никто тогда не обратил внимания на серый автобус, стоявший под деревьями, на боковом стекле была ещё табличка с обозначением какого-то спортивного клуба. Потом немногочисленные очевидцы показывали, что автобус был «Мерседес-Спринтер», а вот мнения о названии клуба разошлись. Одни говорили – «Сокол», другие настаивали: нет, нет, «Кристалл».
Ничего подозрительного не заметили и выглянувшие в окно подполковник Чугреев и майор Фомин. И арестант опустил край занавески, и перронные шумы: какой-то лязг, чей-то крик, объявление – доходили как через вату и нисколько не занимали сознание. Его больше беспокоила жара. Как только поезд останавливался, в купе становилось, как в парной, и он не успевал вытирать лицо и шею. В кармане уже ком смятых бумажных салфеток, и спина под тенниской совершенно мокрая. Он допил остывший чай, но мечталось о большем: хорошо бы умыться.
Только насторожили стук отодвигаемой где-то справа двери, шаги по коридору, кто-то из конвоиров вот-вот войдёт в купе, и пришлось выпрямиться. И точно, Чугреев, встав в дверях, мазнул взглядом: занавески задёрнуты, зэк в надлежащей позе сидит, не развалившись. Но тут до подполковника дошло: арестант в купе один! Ну, распистяи! И его маленькое желтоватое лицо с узкими чёрными глазками потемнело, но не успел он толком разгневаться, как со стороны тамбура забарабанили в дверь. Стучали с перерывом, но требовательно. Этот металлический грохот – они что, молотком стучат, что ли? – привёл подполковника в ещё большее раздражение. Что ещё надо этим ментам? А, увидев кинувшуюся на стук проводницу, Чугреев и вовсе рассвирепел и осадил окриком: стоять, назад! И, мелко перебирая короткими ногами, поспешил к выходу. Эх, знать бы тогда, что это был за стук!
В вагоне сразу поднялась суматоха, за перегородкой грохнуло. И тут же, чертыхаясь, в купе ввалился Балмасов, следом за ним возник и озабоченный Фомин. Встав на пороге, он повернул голову, прислушиваясь к тому, что происходило у рабочего тамбура. И уже хотел, было, кинуться туда да выяснить, но попридержался. Раз подполковнику захотелось стать затычкой, то пусть сам и разбирается. «И что он так визжит!» – усмехался про себя майор Фомин, слушая чугреевский мат, тот теперь кричал в трубку:
– Да в порядке рация, в порядке… Нет, что за срочность? И почему без предупреждения?
Но тут майор, что-то для себя поняв, кинулся в купе и тут же вернулся, держа наготове папку с сопроводительными документами. Присев у самой двери, досадливо и только для заключённого проговорил: «Заколебали инспекциями!» Ясно же, кто виноват в этих проверках!
Балмасов в своём рвении хотел, было, задвинуть дверь, но её удержал оживлённый конвоир Братчиков. Он оглядел всех блестящими рысьими глазами, но на свой вопрос: «Кто это к нам рвется, а?» ответа не получил, и старлей усмехнулся да так и остался с улыбкой на лице. Арестанта эта суматоха мало касалась, он уже приготовился к очередному представлению, что иногда устраивает проверяющее начальство. Заявится какой-нибудь инспектирующий чин со свитой и даже спросит о состоянии здоровья, и нет ли нареканий. А потом доверительно так сообщит: мол, столько служб стоит на страже его безопасности, и только благодаря этому…
Переговоры продолжались не больше пяти минут, но показались такими долгими, что набившиеся в тесное купе люди изошли потом. Фомин то и дело промокал шею полотенцем, отфыркивался Балмасов, слизывал капельки с верней губы Слава, и заключённый, оттянув ворот тенниски, вытер лицо…
Но вот чужие голоса уже в вагоне, и слышно, как взвинченный чугреевский фальцет перекрывает глухой напористый баритон. И конвойные, и заключённый пытались хоть что-то понять в потоке слов, восклицаний и мата.
– Оперативная обстановка изменилась… этап сверхсекретный… самолёт под парами… генеральная прокуратура…
– Но это нарушение правил… И так пришлось всё наспех… без подготовки… Довезем до места, там и передадим… И делайте с ним, что хотите… И потом я не понимаю, почему мы не можем сообщить о смене конвоя?
– Какое, йопт, сообщение! Контора ваша течёт… У изолятора уже собралась вся эта шобла… Хотите, чтобы они переместились к аэропорту?
– Но мы обязаны доложить о смене маршрута!
– Все, кому положено, в курсе… Вам придётся выполнить предписание… Из двадцати восьми минут стоянки на препирательства ушло целых семь…
– Я понимаю, но не было указаний… У вас своё начальство, у меня – своё…
– Сказано, места в автобусе хватит и для вашего конвоя… Так что сопровождайте и дальше… На месте будет встречать и ваша служба…
– Нельзя его перемещать машиной, нельзя – далеко, головой отвечаем…
– Да йопт, давай, нах выведем, тогда и свяжетесь с начальством. Вы что, хотите состав задержать?
На этих словах в проёме двери появились двое неизвестных в спортивных костюмах. Белые найковские футболки, голубые спортивные жилеты – всё было новым, ярким, свежим. Молодые и высокие, они, на первый взгляд, были неотличимы друг от друга. Только потом обозначились некоторые особенности: у одного были голубые глаза, второй был постарше и несколько небритый. Кто такие – непонятно, но, видно, имеют веские права на вторжение в режимный вагон. Вот и лагерному конвою было выказано явное пренебрежение: подполковник Чугреев так и остался за спинами спортсменов. И вскочившие на ноги вертухаи только мешают рассмотреть арестанта, он, пришпиленный, остался сидеть. Кто-то скомандовал ему: встать! Но встать по правилам не получилось, прикованная рука тянула вниз. И спортсмены выдержали паузу, видно, забавляясь позой арестанта.
– Отстегните! – приказал тот, что постарше. Пока Балмасов возился с наручниками, он скороговоркой сообщил:
– Итак, осуждённый поступает в распоряжение сводной специализированной группы… Всё ясно? – перевел он взгляд на конвойных. Те вяло и нестройно подтвердили: «Так точно».
– Дальше этап будет следовать другим транспортом. В целях вашей же безопасности, ведите себя, не привлекая внимания, – вперил он взгляд в заключённого. – Ясно? Стоп, стоп! Выводить без наручников, – остановил спортсмен Балмасова, собравшегося пристегнуть заключённого к свой руке.
И тут арестант не выдержал и отступил от своего правила ничего не спрашивать:
– Я могу узнать, куда меня собираются…
– Всё узнаете позже! А теперь – на выход! По одному! И спокойно, спокойно…
С этой минуты всё и началось, и все события завертелись самым причудливым образом. Первыми к выходу двинулись настырные гоблины, следом Фомин и Чугреев, за ними пустили заключённого, в замыкающих были Балмасов и Братчиков. Некоторая заминка произошла, когда из купе выглянула Верочка: «Куда же вы? Сейчас поезд тронется!» Заметив вышедшую, в нарушение всех инструкций, из служебного купе проводницу, небритый остановился и прошипел:
– Это что за матрёшка? Немедленно убрать!
Чугреев с силой махнул рукой проводнице, давая ей понять: скройся! Верочка, не обращая внимания на маленького подполковника, успела повторить свою тираду ещё раз, когда младший из гоблинов угрожающе не двинулся в её сторону. Эх, Вера, Верочка! Не стоило тебе интересоваться пассажирами, так беспокоиться и задавать неуместные вопросы…
Перемещение по перрону было стремительным. У самого автобуса заключённого взяли в кольцо и, пригнув голову, втолкнули в открытую дверь, где его приняли в несколько рук. Приняли и швырнули на пол в середину салона, там кресла справа были убраны, и образовалось пространство, на нем заключённый будет хорошо виден. И голубоглазый, задевая полами жилета лицо арестанта, приковал его к поручню кресла у левого борта, а потом ловко закинул арестантскую сумку на багажную полку. Другой спортсмен натянул ему на голову вязаную шапочку, натянуть поглубже мешали очки, но он постарался, шапочка закрыла и глаза.
А с размещением конвоиров в автобусе возникла небольшая заминка. Они были как бы уже не при делах, а потому некоторое время пребывали в растерянности, если вертухаи способны растеряться. Никто из бывших в автобусе не обращал внимания на застрявших в проёме двери Чугреева и Фомина, за их спинами ждали своей очереди Балмасов и Братчиков. Распоряжался в автобусе солидный брюнет в сверкающих очках, вот только снизу было видно, что на ногах начальства войлочные тапочки. «Ну, блин, и богадельня!», стоя у ступенек, начал раздражаться Чугреев.
Но вот брюнет, поблескивая золотой оправой, указал Чугрееву и Фомину на кресла столика, за которым сидел он сам, но запрещающе поднял руку, когда на ступеньку занёс ногу и огромный Балмасов.
– Отставить! Все остальные поедут в машине сопровождения, – показал он куда-то за спины конвоиров. Там, в сторонке, и правда, стоял наготове синий «рафик». – И быстро! Отъезжаем!
Через минуту работавший на малых оборотах мотор «мерседеса» взвыл как турбина и резво взял с места. Заключённый от неожиданности откинулся назад, но тут же спиной наткнулся на препятствие – сидевший позади один из спортсменов выставил ногу. Пришлось наклониться вперед и вцепиться в прикованную руку, и следующего тычка не последовало.
Вся операция прошла так быстро и незаметно для людей на перроне, что даже опытный глаз начальника Борзинского ЛОВД Гриши Хорькина, всегда являвшегося к проходящему поезду, не мог вспомнить, как именно перемещали человека из вагона в автобус. Вопреки правилам, он не был предупреждён о спец-этапе, а кто дал разрешение на въезд автобуса на перрон, так это пусть объясняет начальник станции Савочкин. И Савочкину пришлось по скорой с высоким давлением доставиться в районную больницу. Но это и многое другое будет потом, а в тот день и час автобус и тёмно-синий «рафик» с надписью на боку «Лаборатория» ходко двинулись из городка к выезду на трассу А166. Через несколько минут, а именно в 18.43, согласно расписанию, отошёл от перрона и пассажирский поезд.
«Мерседес» несся по городку, не разбирая выбоин и колдобин, встречных машин и прочих дорожных препятствий. Куда это они так спешат, злился Чугреев. Не нравится ему всё это, ох, не нравится. Там, наверху, всё что-то мудрят, всё что-то секретят, а спросят с кого? С него, как со старшего, и спросят. В первый раз, пока не доставили спецзэка, замаяли учреждение. Ведь до последнего неизвестно было, под какую такую прибыль готовиться. Они с Навроцким уже решили: каких-нибудь боевиков подселят, и обрадовались, когда этого делового на машине с почётом доставили. Баню натопили! Думали, грешным делом, перепадёт какой-нибудь кусок, не будет же этот золотой арестант сидеть простым мужиком. Ага, перепало! Такой геморрой пошёл: надо не надо налетали саранчой с проверками. И в этот раз не успели доставить, давай, вези назад. Носятся, как с писаной торбой! То обеспечь безопасность, то попрессуй, то компру собери… Так он тоже не дурак, попробуй, застань его врасплох! Быстро зэчара научился не косячить… А если не доверяете, то и держите его у себя, что, трудно было припаять шпионаж?
После очередного крутого виража брюнет в золотых очках, досадливо бросил через плечо шофёру: «Потише там! Это вам не Военно-грузинская дорога!». И тут же качнулся через стол к Чугрееву.
– Вас что-то беспокоит? – весело поинтересовался человек, поблескивая очками.
– Подполковник беспокоится на счёт этапа, – усмехнулся небритый спортсмен. Он сидел на передних креслах, широко расставив ноги, рядом с ним была женщина с такой короткой стрижкой, что Чугреев, ещё не всмотревшись, принял её за молодого парня.
– Зачем же беспокоиться? Вот этого не стоит делать, – брюнет осуждающе покачал головой, разглядывая мелкого подполковника Чугреева. А тот, выдержав для солидности паузу, счел нужным попенять неизвестно кому:
– Всё как-то у нас через одно место делается…
– Вот через это место и надо доставить спецсубъекта к утру в генеральную. Вам же меньше головной боли. Довезем и вас, и груз ваш в лучшем виде. А вы что так переживаете? Не стоит он того. Груз ведь давно уценённый! – рассмеялся брюнет.
– Несогласованно всё как-то! Ну, кто так этап рвет? И никакой команды не поступало, – впервые подал голос Фомин.
– Вам? – усмехнулся брюнет в очках. – Вы что, сами не понимаете степень секретности мероприятия? И какие люди этим занимаются. И хоть эфир колыхать в таких случаях не рекомендуется, но соединю вас с руководством. – И брюнет, вынув из верхнего кармана жилета телефон, потыкал пальцем кнопки и, приложив к уху, проговорил:
– Юнус Фаридович, приветствую тебя ещё раз! Да всё нормально, едем… Да, да, думаю, успеем… Не беспокойся, всё прошло нормально… Вот только подчинённые твои волнуются… Нет, сам скажи, – усмехнулся брюнет, протягивая телефон Чугрееву. В трубке сквозь эфирный треск подполковник услышал только неразборчивый мат и завершающий тираду вопрос: «Всё понял? Выполняй!»
– Так точно! – проговорил Чугреев в уже замолкнувшую трубку. Чего это начальство так разоралось, нет, чтобы своих поддержать. Ведь так-то рассудить – заключённый пока за Управлением числится! Но вслух подполковник, сбавив тон, примирительно посетовал:
– Хотелось бы без неожиданностей!
– Ничего не поделаешь, такая у нас с вами профессия: реагировать на внезапно меняющуюся обстановку! Согласны? Ну что, будем знакомиться? Моих офицеров вы уже знаете, теперь представлюсь сам, – и брюнет поднёс к самому носу беспокойного подполковника удостоверение: служба специальных операций… Турков… генерал-майор, – успел выхватить опытным глазом Чугреев, ещё немного, и генералы армии будут в конвойных! Только вдруг засомневался: Турков… а дальше… не то Илья Иванович, то ли Иван Ильич. А может, просто Иван Иванович, имя-то всё равно не своё… А что за служба такая специальных операций? Центр специальных назначений? Ёбс! А я кипеж поднял, базар этот затеял! Оно мне надо было? – запоздало стал сожалеть подполковник. Но тут же сам себя и успокоил: не бери в голову, у них на каждую операцию по пять документов прикрытия! Может, это никакой и не центр, на черта им теперь миллионщик…
Чугреев так никогда и не узнает, что Иван Иванович на самом деле был не генералом, а полковником, да еще в отставке. И хоть в документах прикрытия завышать звания не принято, но так уж получилось у тех, кто готовил бумаги. И теперь человек в звании генерала поинтересовался:
– Вас это удовлетворило? А вас? – развернул он удостоверение в сторону терявшего свои полномочия Фомина.
– Так точно, – сухо ответил тот.
– Ну, вот и ладненько. У вас ещё есть претензии к предписанию о смене маршрута и конвоя? Вижу, никаких таких возражений нет! Теперь перейдём к формальностям, их надо соблюдать. Прошу передать дело…
– Какое дело? – изобразил удивление майор Фомин.
– Осуждённо-подследственного, или как там он у вас называется… Вы что, майор, будто спите! – стал грубить генерал. Не особенно сдержанным был и майор.
– А вы разве приняли у нас заключённого? Где письменное предписание? Мне лично его никто не показывал…
– Будет тебе, майор, предписание… Это по-твоему, что? – протянул генерал какой-то листок. – Давайте, распишитесь в акте, – раскрыл он свою папку. Майор Фомин хотел, было, придраться к чему-нибудь, но документ составлен по форме: живые и печать, и подписи. И пришлось приступить к процедуре смены конвоя, и расписаться в акте приёма-сдачи заключённого в другие руки, а потом достать полевую сумку, когда-то сделанную на заказ, и вытащить личное дело.
О! Личное дело заключённого – это документ исключительной важности! Он сопровождает человека на всех этапах его тюремной жизни. Вот где собирается, записывается и содержится вся его подноготная! На личных делах и отметки всякие ставятся – разноцветные полоски, значки и крючочки. Опытному вертухаю и этих отметок достаточно, можно и дело не открывать, а если открыть, то чего только не вычитаешь о человеке.








