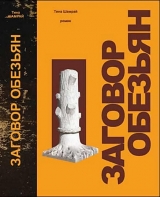
Текст книги "Заговор обезьян"
Автор книги: Тина Шамрай
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 54 страниц)
Вот и он, как и многие из нас, брезгливо отодвинулся, будто от заразы, от блевотины тех, кто мнит себя чистокровными. Только вирус этот, как сибирскую язву, готовят не на улице, а в специальных местах, там и держат про запас…
Беглец докуривал сигарету, когда заметил маленькую блондинку с сумками, что шла на остановку. Была она немолода, но всё ещё хорошенькой, прибранной, в свежем голубом платье. Но только почему она носит такие тяжёлые сумки, они согнули её вдвое. Пришлось подняться: может, помочь? Но тут женщина вскинула голову и по невидящему взгляду стало понятно: лучше не подходить. Не выпуская из рук свою ношу, блондинка примостилась поодаль, а он уткнулся в газету. Она сидела, обмахивалась носовым платочком, что-то там поправляла на себе, как вдруг взяла и придвинулась к нему почти вплотную. Не понимая, чем были вызваны такие маневры, он сдвинулся, переместилась и незнакомка. И теперь он видит рядом жилистые загорелые ручки, дешёвые часики на запястье, чувствует запах не то духов, не то утюга…
И тут у павильона появилась ещё одна дама, эта была в красной нарядной кофточке и торжественной чёрной юбке. Поставив лакированную сумочку на лавку, она стала что-то сосредоточено перебирать там. Но вот, задёрнув молнию и поправив на шее бусы, повернулась к соседям: мол, не знаете, давно трамвая не было, и будто поперхнулась:
– Ой! Тайса, ты что ли? – всплеснула она руками.
– А то кто ж, какой год Таисья! – хмуро ответила блондинка, не оборачиваясь и делая вид, будто вместе с мужчиной читает газетку.
– Как переехала, так тебя совсем не видно. Как жизнь, как Виталик? Не женился ещё? – не обращая внимания на недовольство Таисии, расспрашивала дама в красной кофточке.
– Да уж полгода, как женили, – всё так же неохотно, вполоборота отвечала блондинка.
– А что это Петра Григорьевича не видно?
– Да зачем вам его видеть! Заведите своего мужа и рассматривайте его. – И, толкнув соседа локтем, Таисия показала гримаской: вот привязалась!
– Ну, как же! То всё бегал, бегал, и на нашу улицу к Осиповым часто заходил, а то раз – и нету. Всё на велосипеде да на велосипеде, а то и не видать нигде. Недавно сам Ерёменков-старший юбилей справлял, так хорошо посидели! И все спрашивали: а где ж это Петя?
– Да чего ходить, чего ходить? – вздёрнула подбородок Таисия. – Некогда нам ходить! Это кому делать нечего, везде ходют, а у нас дела!
– Да какие у нас, пенсионеров, дела, осталось только в гости ходить.
– У кого как, а у нас есть дела! Умер Пётр Григорьевич! Понятно вам? – повернулась Таисия к своей настырной знакомой. И теперь её в голосе послышалось торжество: вот, выкуси!
– Как? – несколько преувеличенно ахнула женщина в красной кофточке. – Да как же это? Да не может быть!
– Да как все, так и он! Завтра как раз девять дней будет, – с непонятным торжеством в голосе выговорила блондинка.
– А что ж нашу улицу не известили? Мы бы пришли, проводили. Надо же! Такой здоровый, всё на велосипеде, на велосипеде. И как жену похоронил, не спился, всё в огороде копался, всё в дом, всё в дом…
– А вот взял и умер! – хвасталась новоиспеченная вдова дальше: не всё же вам, и мы можем.
– Ой, надо же! И ведь не курил, не пил, всё на велосипеде, всё в дом. И не болел ведь!
– Да откуда вам знать, болел – не болел! И очень даже больной был. У него, чтоб вы знали, сердце было! Я с ним два года прожила, так он чуть что: ой, болит, ой, болит…
– Так чего же, инфаркт был?
– Инфаркт. Прям такой инфаркт, такой… – в голосе вдовы появилась слеза. – Врачи говорят: такое было изношенное, такое изношенное, в сосуды, говорят, нельзя было и иголку просунуть. Вот так шел, шел и упал…
– А где упал-то? – добивалась зачем-то подробностей та, другая.
– Так на дорожке и упал, вот… Я, значить, в дому была, а он от калитки шел, а я это… ужин, значить, готовлю. Рыбка такая хорошая попалась, с икрой, так я и икру зажарила, и картошечку отварила, и огурчики малосольные как раз поспели. Вы в этом годе много ли банок закрыли?
– Да всего двадцать, больше не получилось. Ну, шел, шел и… Что дальше-то? – не хотела отвлекаться на огурцы дотошная дама. Но Таисия отчего-то снова занервничала и всё поглядывала на соседа по лавочке, будто искала сочувствия. И тому показалось, что она хочет попросить сигаретку, но стесняется, и достал пачку.
– Ой, только в сторону курите, а то мне от дыма плохо делается! – раздраженно попросила вдова. – …А мы, значить, как стали катать, и такие соленья получились…
Но тут дама-дознаватель, не слушая, вдруг перебила хозяйственный мотив:
– А говорят, Петра Григорьевича убили!
О! Что что эти простые слова сделали с Таисией! Она оставила свои сумки и прижала руки к груди, будто хотела унять гневное клокотанье там, внутри. Лицо её побелело, глаза остановились и она, как задыхающаяся рыба, стала хватать накрашенным ртом воздух…
Нет, разве можно бросаться такими словам, удивился беглец. То всё с подходом, с подходом, а тут – раз! – и наотмашь. Не хватило терпения расспросить?
Но тут вдова, справившись с собой, тонко взвизгнула:
– Ну, что за люди! Кто убил, кто убил?! Да что вы такое говорите? Я ж рассказываю вам: он по дорожке шёл и упал… А я же… это… ни сном, ни духом!
– Да верю, верю, но людской роток, сама знаешь, не заткнёшь варежкой, с усмешкой наблюдала дознавательница за корчами вдовы Таисьи.
– Говорю же вам, рыбку жарила, картошку уже намяла, огурцы порезала, а тут, глядь, Виталя по дорожке идет, руками так махает и зовет: «Мама, мама!» Я в окно, значить, открыла и спрашиваю: «Чего случилось, Виталичек?» А он кричит: «Пётр Григорьевич, мама, у калитки лежит, надо в дом занесть!» Вот так было дело!
– А он что, с вами живёт, Виталик-то?
– Да нет, он теперь у жены своей обретается, у невестки нашей, у неё и квартира есть, родители справили, вот… Я же говорю вам, Виталик в гости зашёл и видит: Пётр Григорьевич у калитки лежит, плохо ему сделалось. Ну, занесли мы его в дом, еле дотащили, такой тяжёлый был. Мы его, значить, тащим, а он стонет и жалуется: сердце, Тая, прихватило, там жмёть, так жмёть… Ну, мы пока его укладывали, пока скорую вызывали… Я, значить, Виталику рыбки дала, а то ведь голодный… А Петю мы на кроватку положили, он любит на перине-то спать, бывшая приучила, а мне на перине жарко. Ну, и только мы к нему: как он там, а он, значить, уже и не дышит! Вот не дышит – и все! А скорая не едет, а мы не знаем, чего с ним и делать… Так нехорошо получилось – и не поужинал, взял и умер… Я ж говорю, больное сердце!
– А я слышала, врут, наверное, будто это Виталик Петра Григорьевича и пристукнул!
И пришлось беглецу вчуже забеспокоиться: что сейчас будет! И почувствовал, как замерла рядом с ним женщина, только чем она ответит: слезами, криком? Но вдова будто ничего особенного и не слышала, и отбивалась уже как-то совсем вяло.
– Так я ж рассказываю вам, приходит Виталик, а Пётр Григорьевич пьяный стоит у калитки с ремешком. А Виталик видит, что он ремешок крутит-то, и, главное, в калитку не пускает, ну, и это… отодвинул его и не очень чтобы… Так Пётр Григорьевич же пьяный был, на ногах не стоял, вот и упал, ну, на дорожку упал… Мы в прошлом годе её и бетонировали, Виталик ещё помогал, вот и ударился, а сердце-то больное. И не бил его Виталик, не бил! Это ваш Пётр Григорьевич, как что, так руки распускал. Чуть что не по нему, так сразу драться лез. А ревнучий какой был! Я и Виталика просила, чтоб приходил, оборонял…
– Никогда не поверю, чтоб Петя дрался, не было такого, они с покойницей Зиной душа в душу жили…
– Ну, и не верьте! А дрался, дрался, дрался! Я вся в синяках ходила. Невестка, Сонька, мне всяких кремов нанесла, пудры разной, а то ведь на улицу не выйти. Прям кошмар! А теперь получается, Виталик виноват! Теперь вот будет сидеть ни за что…
– Так он в тюрьме, что ли?
– Вот и чё ли! Вот передачку везу, разрешили.
– Говорят, его на вокзале задержали, он что же, уехать хотел?
– Да какой вокзал, какой вокзал! Вот народ! Напридумывают чего ни попадя! Из дому и забрали, и нас вместе с ним. Ой, как они нас с невесткой допрашивали, как допрашивали! Ну, как кино! Мы чуть ли не цельные сутки там просидели.
– А кто допрашивал-то?
– Так следователи в милиции этой, кто ж ещё? Там в кабинете их до чёрта было. Но до нас один так привязался, так привязался…
– А вас зачем? Вы, что ли, убили?
– Так мы вроде как свидетели! Как с утра начал, то Соньку, то меня вызовет, то Соньку, то меня! А сыночку мытарили в другом кабинете. А мы чего знаем? Мы же ничего и не видели! Сонька в другом месте пузо грела, я на кухне была, сковородка рыбы чуть не сгорела… Нас же с постелей подняли, голодных увезли, и невестка беременная, вот-вот должна родить… Мы прямо там на голых досках и спали, а с утра стали допрашивать. А как на обед ушли, нас с Сонькой в кабинете заперли, а ей, как на грех, приспичило… Я-то в горшок цветочный сходила, там у них геранька засохшая на окне стояла, а Соньке в угол пришлось поливать, у ней воды больше. Уже и обед прошёл, а мы всё сидим да сидим, с вечера не евши…
Женщины сами собой сдвинулись и теперь шептались как подружки: «А я думаю, кто это с тобою рядом сидит, вижу, мужчина молодой, а ну, как помешаю…» – «Да это так, присоседился, а я и знать не знаю, кто такой…»
Но, отвлекаясь на постороннее, они снова и снова возвращались к основной сюжетной линии. Изобличённая Таисия и сама вошла во вкус и рассказывала всё без утайки. Теперь что же? Теперь можно и в подробностях…
– …Сидим мы, значить, и сами не знаем, чего ждать. Может, думаем, и в тюрьму посадят, а тут Соньке ещё и по большому приспичило. Это ж беременная! Ей же то писать, то какать, то кушать хочется, то спать, а где там спать? Вот и скажите, чего делать? Постучали в дверь – никто не открывает. Ну, Сонька и не утерпела. Но она на газетку сходила, были у них там старые какие-то, всё аккуратно сделала, завернула. Хотела это добро на шкафчик положить, так я не дала. Ещё какими-то бумагами обернули, у них там много на столах лежало, и я в сумку себе положила.
– А как же вы не боялись? А вдруг бы… они ведь там, в милиции…
– Так куда ж дальше терпеть? Ну, справились, сидим, ждём. Приходят, значить, следователи, носом повели, мы-то сами принюхались, а им, видно, со свежего воздуха пованивает же, но ничего не спрашивают. Да у них у самих так накурено было, так накурено. Ну, и начали опять всё по новой: где были, чего делали, чего видели, чего знаете. Приставучие! Сидим, значить, Сонька за одним столом, я – за другим, разговариваем, и тут она как давай хохотать, как давай хохотать, прям заходится! Следователи эти ничего не поймут, злятся, а Сонька не унимается, а за ней и я начала. Как представила: сижу я, значить, как порядочная, а в сумке говно упаковано! Ну, выгнали нас в коридор, а Сонька и там заливается, ну, прям как дурочка… Я говорю, мол, живот лопнет, гляди, как колыхается. А тут выходит этот наш, который следователь: идите, мол, отседа, чтоб я вас не видел! И по-матерному, и по-матерному… И чего разозлился? Ещё спасибо должен сказать, мы ж говно не оставили, с собой взяли…
Женщина рассказывала и рассказывала и не только потрошившей её даме в красном, а всем заинтересованным лицам, что собрались к тому времени на остановке. А беглеца брала оторопь, но не от излишних подробностей, а от вдовьего смеха, весёлого и здорового. Надо же, какая смесь простодушия и душевной глухоты! И, уткнувшись в газету, неприязненно подумал: как же так? Ведь только что похоронила близкого человека, а тут никаких намёков на траур, и наряд в тон глазкам, и волосы завиты, и губы накрашены. Быстро же мы утешились! Как у женщин всё просто… И так отчего-то стало обидно за неведомого Петра Григорьевича. А может, за самого себя?
И казалось, ещё немного и все, что он давил в себе, охватит его, ослепит и заставит поверить, что за эти долгие годы и Айна, и она вот так же… С каким отвращением он дочитывал в камере Флобера. Нет, он понял, что такое французский роман, что такое настоящий роман как жанр, но… Но Флоберу с таким знанием женщин надо было идти в психиатры, а не в сочинители… А тут эти тётки жужжат над ухом:
– …Жалко парня-то! Вы бы рассказали там: бил, мол, Пётр Григорьевич и упал сам…
– Так мы и говорили: и я, и Виталя, и Сонька, невестка, только разное всё получалось. И следователь, такая зараза, смеется: сколько ж он у вас падал, мол, весь в синяках. И сосед, Самохин этот, ходит, рассказывает, как Петра Григорьевича пасынок бил у калитки. Ну, вот ты скажи, кто его за язык тянул?
– Молодой такой и жена беременная! А что же, ничего нельзя было сделать? – сочувствовала дознавательница. Сначала выпотрошила, теперь почему бы и не посочувствовать! А что, все подробности выведала, завтра ими весь околоток угощаться будет. А вдова меж тем выходила на коду.
– Ой, да что мы только не делали! И так, и этак перед следователем! Такой мужик отвратный, плюгавенький такой, а всё туда же, глазками своими… и за коленки хватал. Но хватать-то хватал, а толку никакого. Так Сонька к начальнику ходила, пузо на стол выложила: куда, мол, я с ним одна? Петру Григорьевичу, старому, уже ничем не поможешь, а мы, молодые, жить хотим. Но начальник пообещал: много не дадут, только пусть, мол, признается… Ой, да Виталик и там не пропадёт! Он у меня рукастый, будет телевизоры ремонтировать, он и другую работу умеет, и по слесарной части, замки там всякие… Говорят, там хорошо, кто специалист по зубам, вот тем хорошо. Помните Фишмана, ну, который на дому золотые зубы делал? Как посадили его, так он в лагере как король жил. Всему начальству зубы повставлял, и как суббота и воскресенье, так он дома. Жаль, Виталик по зубам не мастак…
И когда в струящемся мареве показался покачивающийся красной рыбиной трамвай, простая история, уложившаяся в двадцать минут, и закончилась. Но Таисия! Какой сеанс психотерапии! Действительно, зачем усложнять жизнь? И ничего, что она обманывается, и её Виталику вряд ли придётся на зоне ремонтировать телевизоры, там умельцев и без него хватает, особенно по замкам. Но женщина выговорилась, сама себя утешила и готова жить дальше.
А он не смог так смиренно принять всё то, что с ним случилось, не хотел сгинуть в тенетах, в трясине, в мороке. И продолжал трепыхаться даже тогда, когда понял: никогда и никому ничего не докажет. И не вынес! Да, не вынес и сорвался! Сорвался, сорвался! Но и побег только всё усложнил…
– Вам плохо? Сердце, да? – услышал он над собой голос и поднял глаза. Рядом стояла высокая молодая женщина с седыми волосами и, жалостливо заглядывая в глаза, что-то доставала из сумки. – Что принимаете? Нитроглицерин, нет? А валидол?
– Спасибо, ничего не надо! Спасибо! – поднялся он, уступая женщине место: мог бы сделать это и раньше. И как только трамвай остановился, выскочил наружу. Как трудно дышать! Всё, всё, перезагрузись! Рано подыхать, надо прежде встретиться с Пустошиным, а потом…
И скоро снова оказался в знакомом дворе. Там стало оживленней, откуда-то взялось много маленьких детей, а с ними и молодых женщин. Пришлось сделать крюк и обойти эти островки жизни, но голоса доставали и на расстоянии.
– Я кому сказала, отдай! Кому сказала! Не бросишь, придушу, блядёныш! – кричала совсем юная, с фарфоровым личиком женщина своему маленькому сыну, а тот прижал к груди чужую машинку и не хотел отдавать. Что же она так на ребёнка? Он ведь вырастет и ответит тем же. Ответят, все ответят. Все?
А вот железная дверь! Он изучил её как ни одну другую: подтеки серой краски, круглую коричневую ручку, приваренный крючок посредине, остатки клея и бумаги. Теперь он попробовал не просто дёрнуть за ручку, но и покрутить её… Круглая, нагретая солнцем, она легко поддалась, вертелась хоть вправо, хоть влево, но двери не открывала. И тут он растерялся. Недавней уверенности, что он обязательно сегодня встретится с Пустошиным, уже не было.
И помощи ждать неоткуда. Нет рядом Антона. Антону хорошо, у него есть брат. Он видел, как теплели его глаза, как размякал он, жёсткий и колючий, когда брат приходил на заседание суда. И сам Антон по-братски поддерживал его все эти годы. Но они были спаяны общей судьбой… А вот Толя! Он обращался с ним, как с недоумком, рохлей, размазнёй, он насмешничал, но и… В нём действительно было что-то от старшего брата. Но нет рядом майора Саенко. Остался в других краях. Толя – птица редкая, special jet, что сделан по особому заказу. И совсем не для него. Вот и Пустошин где-то в своих делах, зачем ему какой-то беглый товарищ…
Нет, в самом деле, сколько ему ещё царапаться в эту дверь? Наверняка намозолил кому-то глаза. И он как можно равнодушней обвёл взглядом окна. Так и есть! На втором этаже кто-то поправлял занавеску. Надо уходить! И, свернув за угол, он припустил вдоль длинного, стоявшего глазастой стеной дома. Интересно, насколько его хватит, если Пустошин не появится. А вдруг он, как и журналист, внезапно заболел, уехал в отпуск, умер, наконец? Нет, нет, только не это…
Дело шло к вечеру, и скоро со всей неотвратимостью встанет вопрос о ночлеге. Может, выйти на берег реки, по карте это не так далеко. На берегу лодки, сарайчики для лодок, прикидывал он, хорошо понимая, что никаких лодок, никакого берега не будет. И когда слева от себя увидел открытые двери подъезда, не раздумывая, кинулся в его тёмную глубину и птицей взлетел по лестницам.
Там, между девятым и техническим этажами, было серо, пыльно, пусто. Это ничего, он купит газет, расстелет, и можно будет лечь. Да, жизнь упростилась до предела, до того предела, когда будет всё равно, где спать, что есть… Ничего, ничего, это гораздо лучше, чем на улице под кустами. А что, здесь уютно, тихо, безопасно! Но не успел он обрадоваться укромному месту, как разглядел красную жестянку со свежими белыми окурками. Это уже не есть хорошо! Но почему? Сигареты одной марки, окурки одинаковые, может, курил один и тот же человек. И он придёт сюда вроде как курить, а спросят, скажет: живёт, мол, здесь, недавно переехал, и назовёт какую-нибудь квартиру с нижних этажей. А почему, если жилец, пришёл курить с сумкой? Почему, почему? С женой поссорился. Нет, зачем поссорился? Он поставит сумку сюда, в эту замечательную нишу, прикроет вот этой фанеркой – и все дела. Может, сейчас так и сделать и свободным поехать на почту и попытаться ещё раз позвонить. И потом надо заправиться, и хорошо бы чем-нибудь горячим, вот-вот, горяченьким… Да-да, нужно идти, а то газетный киоск закроется, и он останется и без постели, и без чтива. И без мороженого. Он обязательно купить большую такую порцию… Теперь кажется, не ел мороженого с самого детства. Хочешь подсластить пилюлю? Да, да! Но вот котомку он здесь не бросит, а то вдруг не сможет попасть в подъезд, и придётся искать другое место…
Никем не замеченный, он выбрался из подъезда, огляделся, запоминая приметы своего дома, и быстро пошёл к трамвайной остановке. Нет, он не будет подходить к дому номер семнадцать, он пройдёт мимо и даже не взглянет на эту чёртову маленькую железную дверь в стене. Но когда уже был готов завернуть за угол, не утерпел и обернулся. Обернулся и не поверил своим глазам: на пустошинской двери что-то белело. Не может быть! Час назад на двери ничего не было. Не было! Но вот она, серая, вот белый листок бумаги, и на нём синим фломастерам крупно выведено: «29 августа приёма не будет». А когда будет? И с досады стукнул по двери кулаком, и она вдруг неожиданно распахнулась, и на пороге стал человек, невысокий, жилистый и несколько лохматый, с синей папочкой руках.
– Вы ко мне? Ну, заходите, – недовольным голосом выговорил человек и попятился вглубь крошечной комнатушки.
– Вы Пустошин? Алексей Иванович? – выдохнул беглец. И тот кивнул головой. Ему было явно за шестьдесят, но задорный хохолок над загорелым, изрезанным морщинами лбом и чёрные широкие брови придавали ему боевой вид. Это то, что бросилось в глаза в первые минуты. А что он за человек, выяснится совсем скоро.
– Вы знаете, я был здесь полчаса назад, дверь была закрыта, – зачем-то ненужно попенял беглец.
– Да, да, вы меня случайно застали! Ну, я слушаю вас, – подгонял Пустошин. – Что у вас случилось? Что-то серьёзное? – Но визитёр нерешительно топтался у двери и молчал.
– Тут, понимаете, такое дело, у меня времени в обрез, вот и приём отменил, надо, знаете ли, съездить по срочному делу. Давайте так, если у вас что-то сложное, то перенесём этак дня на три? Согласны? – Пустошин замолк, но, увидев растерянное лицо человека, нехотя добавил:
– Да вы проходите, проходите! – и отступил в глубину комнаты. В ней, кроме стола и стульев вдоль стен, ничего не было, не считая старого календаря на одной пыльной стене и заштукатуренного дверного проёма на другой. Не было ни компьютера, ни окна, ни того, что хоть отдалённо напоминало офис. Нет, отчего же? Вот на столе лежит синяя папка, стоит странная в этой унылой обстановке маленькая настольная лампа под розовым абажуром, красный телефон и пустой зелёный стаканчик для карандашей. Только всё как-то…
Какой-то странный товарищ, разглядывал незнакомец Пустошин: кепка надвинута, мнется, озирается… Сейчас только не хватало выслушивать какую-нибудь ахинею о преследовании инопланетян.
– У меня не совсем обычное дело, – наконец, приступил к делу беглый человек и тут же почувствовал: сказал что-то не то. Как же, его дело по определению необычно, это у других – ерунда! А тут ещё этот правозащитник смотрит подозрительно! А как он должен смотреть? Ворвался какой-то неизвестный, но, внятно объяснить, зачем он здесь, не может. Но он попробует, попробует! Это и была та решающая минута, она и определила всё дальнейшее.
– Можно бумагу и ручку. Пожалуйста! – выдохнул он. Зачем попросил, и сам не понимал – и то, и другое было у него в сумке, но пауза была необходима. Пустошин достал из ящика белый лист, оттуда же вынул ручку и придвинул к посетителю. Он что, жалобу собрался писать? Эх, не вовремя, он точно опоздает на встречу!
А человек что-то коротко черкнул и, перевернув лист, придвинул его по столу к Пустошину, тот удивленно наклонился. И читал написанное так долго, что стало понятно: этот Алексей Иванович явно тянет время. Неужели имя, выведенное на бумаге, так напугало? А что, надо было, как у классика, предупредить вслух: «Спокойно… Я – Дубровский!»?
– Не может быть! – подал, наконец, голос Пустошин. – Это действительно вы? – И, озадаченный, откинулся на спинку стула, а потом неожиданно лег грудью на стол и стал всматриваться в лицо претендента на имя. – А вы, знаете ли, и не очень-то и похожи…
Ничего себе, опешил беглец, никогда не думал, что придётся доказывать, что он – это он. Когда его задержали в Новосибирске, паспорта не спрашивали, не спросили и в прокуратуре. Так спешили, что обошлись без обязательной процедуры установления личности. Только к концу заседания суда, перед самым оглашением постановления об аресте выяснилось, что у задержанного нет при себе документа. Адвокат с издевкой не преминул указать на это обстоятельство высокому суду. Тогда было забавно наблюдать, как всполошились судейские. И спросили, не будет ли он отрицать, что он – это он. И он отрицать не стал.
Теперь что же, он так не похож на себя, что Пустошин сомневается, действительно ли перед ним тот самый, не будем вслух произносить фамилию? Неужели усы, кепка и нелепые очки так его изменили? Но и Алексея Ивановича понять можно: как это беглецу удалось добраться до Хабаровска? Если он, конечно, тот, за кого себя выдаёт. Ведь беглого, уже, кажется, признали погибшим. Ну, похож, и что? Если так разобраться, то существует всего двадцать четыре типа человеческих физиономий, и потому люди так похожи друг на друга…
– А вы можете как-то… эээ… подтвердить, ну, вы понимаете? – растеряно спросил Пустошин. Подтвердить, так подтвердить! Даром, что ли, он носил на себе эту веригу. И беглец снял жилетку и вывернул наизнанку, и вытащил паспорт – нате!
Но опознавать, так опознавать, и заодно снял и каскетку, и очки, вот только усы так сразу не снимаются. Человек по другую сторону стола долго изучал удостоверение личности, время от времени, как пограничник на пропускном пункте, коротко вскидывая глаза на нежданного посетителя. И, просмотрев все страницы, прикрыл паспорт ладонью.
– А как он у вас оказался, у заключённого? – последнее слово Пустошин проговорил еле слышно.
– Случайно, – заверил беглец, покосившись на телефон.
– Ну да, ну да, у вас ведь всё не как у других… Вы извините, что сразу не признал. Но вы и меня поймите, ко мне приходят простые люди, совсем простые… И вдруг на пороге, будьте любезны, такой человек собственной персоной!
«Да какой такой! – досадовал беглец. – Такой же как все!»
– Давайте так! – начал Пустошин. – Вы где остановились? Тьфу! Извините! Вот, будьте любезны, заговариваться стал! – хмыкнул он и потёр переносицу: да, озадачил его беглый миллиардер, озадачил.
– Как вы понимаете, я на нелегальном положении…
– Да, да, понимаю, как не понять, – протянул Пустошин, будто взвешивая последствия этого понимания для себя лично.
– Извините, но пришлось вас побеспокоить… Но если это каким-то образом может вам навредить… – Беглец уже пожалел, что потратил столько времени на то, чтобы встретиться с этим… этим правозащитником. Но как из этой неловкой ситуации выбираться? Особенно после того, как обозначился, да ещё и паспорт предъявил.
– Да нет, вы меня неправильно поняли, – усмехнулся Пустошин. – Мою репутацию уже ничем не испортишь. И так все шарахаются, особенно в судах, в прокуратуре, в отделах… Я имею в виду милицейское начальство. Но как вы оказались в Хабаровске?
– Так получилось. Пробирался на восток и… – всё так же тихо выговарил беглец и снова задержал взгляд на красном телефоне. Он никогда уже, наверное, не преодолеет недоверие к этим устройствам, какую бы форму они ни принимали. Заметив, что нежданный гость то и дело косится в сторону аппарата, Пустошин успокоил: не подключён, так стоит. И в доказательство поднял телефонный шнур. Вот тогда и выяснилось, почему номер пустошинского телефона, внесённый в некие базы, не работал. И сколько бы пришлось добиваться этой встречи, если бы он не догадался дежурить у дверей…
– Я здесь недавно обретаюсь. Это же бывшая колясочная. Видите, вместо окна дверь сделали… Зимой, правда, холодно, а так ничего. А на старом месте, было дело, слушали нас. Нет, нет, вы не беспокойтесь, помещение мы тут с ребятами проверяли, ничего такого не нашли, жучков там всяких и прочее…
И Пустошин, видимо, приняв какое-то решение, поднялся со стула.
– Что ж мы сидим? Пошли отсюда!
Нет, зачем же? Никуда не надо идти! Пусть он только проконсультирует – и всё!
– Алексей Иванович, мы и здесь можем поговорить. И я вас не задержу…
– Да теперь что, теперь задерживайте, задерживайте! – хмыкнул Пустошин. И, вытащив мобильник, нажал кнопку, и скоро чей-то громкий голос прокричал: Лёшка, ты?.. Я, я, Евгений Васильевич! Тут ещё одно срочное дело образовалось. Архисрочное. Давайте переиграем, перенесём встречу, скажем, на послезавтра на то же время. Вы уже составили текст? Правите? Вот и хорошо, у вас будет время приготовить его набело. Договорились? Ну, бывай!
Отключив телефон, Пустошин, раздумывая, потёр переносицу:
– Давайте так, вы сейчас выйдите, поверните направо, дальше идите вдоль дома, я вас нагоню…
Беглец внимательно посмотрел ему в глаза. Теперь, когда он обозначил себя, такой порядок дальнейших действий был по меньшей мере не этичен, что ли. Нет, нет, у него и в мыслях нет, что Пустошин кинется докладывать о нём куда надо. Но всё же, всё же… Понял его сомнения и Алексей Иванович, и счёл нужным пояснить: меня окрестные жители знают, может, кто подойдёт, ну, вы понимаете?
Пришлось принять такое объяснение, а когда его, завернувшего за угол дома номер семнадцать, тут же нагнал Алексей Иванович, то и успокоиться.
– Поехали! В тихом месте что-нибудь да придумаем. Я сегодня, как назло, без машины, но мы и на трамвае доберемся. Только вы кепку наденьте, наденьте! Я до сих пор не могу поверить, что вы, такая знаменитость, и где? Надо же, живой! Живой! Замечательно, что вы добрались сюда, просто замечательно! – почти кричал Пустошин, и та самая знаменитость вздрагивала и невольно оглядывалась: не идет ли кто за ними.
Хорошо, в трамвае Алексей Иванович поутих, и всё старался подбодрить взглядом. Только уставший трамвай ехал так медленно, что в какой-то момент Пустошин не выдержал и потянул его к выходу.
– Тащится как инвалид! А мы отсюда наискосок прямо к дому и выйдем. Пошли, пошли! Нет, вы молодец, такой путь один преодолели! Это замечательно! Замечательно! – повторялся Пустошин и дёргал за руку будто проверяя, не картонный ли.
– Ну, что вы, сам бы я не смог это сделать, – отбивался беглец. Только вот беспокоила излишняя эмоциональность Пустошина. Это было так не похоже Толину манеру общения! Майору было всё равно, что тот миллиардер, что этот, подумаешь, большое дело! Да они тут один за другим бегают по дорогам, успевай только подбирать. Правда, успокаивало одно обстоятельство: он чётко улавливал – радость Пустошина была искренней. Только чему, собственно, этот человек радуется.
– Сейчас, сейчас, ещё немного – и мы будем дома! И не беспокойтесь, место надёжное…
– Нет, Алексей Иванович, домой к вам мне нельзя…
– У вас что, есть другие варианты? – удивился Пустошин. Но ответа не услышал. – О чём тогда речь? Вы не сомневайтесь, место надёжное, там вам никто не будет мешать.
И беглец усмехнулся: главное, он бы никому не помешал. Вот только семейные дома уже поперёк горла. Да и не нужно это! Надо было остаться в бывшей колясочной, там и на стульях можно спать. Хорошо, он потом попросит ключ, вот только бы эту каморку потом у Пустошина не отобрали. Чёрт, как всё сложно…
Замороченный своими мыслями, он не вслушивался в возбуждённый шепот Пустошина, пока тот не схватил его за локоть, будто потребовал ответа. Но нет, всего лишь остерёг, когда надо было переходить улицу. Он так и держал его за руку, пока проехали машины – а они шли бесконечным потоком – держал, когда переходили улицу, и только на той стороне разжал крепкие пальцы. И всё это время Пустошин говорил, говорил:
– В прессе бог знает что творится! Столько разных версий! Об интернете нечего и говорить! Ваши родные…
– Что с ними? – впился он взглядом в Пустошина: что-то случилось?
– Да все живы, живы! Но они же о вас ничего не знают… А вы правильно сделали, что пришли ко мне. Правильно! – всё повторял и повторял Пустошин, но в таком взвихрённом состоянии был и сам беглец. Он не помнил, как они шли, петляя по дворам, дворикам, пересекли ещё одну широкую улицу и оказались в тихом зелёном районе. И тут Алексей Иванович совсем другим, бытовым голосом попросил:








