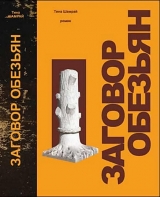
Текст книги "Заговор обезьян"
Автор книги: Тина Шамрай
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 54 страниц)
– Никакое иностранное правительство в здравом уме и твёрдой памяти не может дать убежища такому, как я. Меня суд признал преступником, понимаете?
– Да они разве не знают, что у нас за суд? Ну, удалось вам выскользнуть на пару недель, так ведь ещё срок припаяют. Вот, будьте любезны, ситуация! А ведь вы в своей книжке когда ещё всё это предсказали!
– В книжке?.. – зашевелился на своём стуле беглец. – Вы что же, читали «Человека с рублем»?
– Вот-вот, в этом «Человеке…» всё и описано. Вряд ли вы со своим товарищем сами писали весь текст. Кто-то же подыскивал вам цитаты, подбирал статистические данные, но, если исходить из особенностей книги, то авторами действительно были вы. Есть там, знаете ли, в интонации молодой капиталистический задор…
Возражать не имело смысла. Они тогда с Лёдькой и в самом деле надумали просветить народ. Они были тогда напористы, веселы и победительны. А уж самоуверенны были до безобразия! Такой и книга получилась – менторской: мол, смотрите, мы смогли, а что же вы зеваете? Сейчас это заурядная пропагандистская поделка – ничего больше. Вот только не оттуда ли весь этот зуд просветительства, что начал тогда овладевать им? И эта жажда не давала ему отбывать срок в молчании. Всё писал, всё давал советы! А что касается самой книги, то никаких особенных откровений там не было. Да и что они там такого могли предсказать?
– …И про маленьких вождей писали, и про возможный арест…
– Большое дело догадаться, что могут в любой момент в тюрьму упечь? Какое там предсказание – это и история, и, к сожалению, наша повседневность!
– Всё так! Но там можно было многое почерпнуть о самих авторах! Да и без этого было кому докладывать и доносить… Наверное, и бойкий товарищ, что начинал карьеру под вашим руководством, постарался, идеологически обосновал затеянное против вас дело. Так ведь?
Вот за что он не ответчик, так это за мысли бывшего подчинённого. Да и тот теперь специалист особого рода, что обслуживает не столько хозяев, сколько самого себя. И подбирается уже к тем высотам мастерства, когда самому кажется: вот-вот, и сдвинет деланных правителей в сторону. А тогда он был только исполнитель…
– …Вы и компанию строили как секту, когда сотрудники как преданные адепты, – шелестел рядом Пустошин.
– Люди были преданы делу! Знаете, Алексей Иванович, за эти годы я разочаровался в тех, с кем ел за одним столом, и восхищаюсь теми, на чью стойкость и не рассчитывал. Вы даже представить не можете, что перенёс в тюрьме Алиханян. Это было неприкрытое зверство, это… – пытался подобрать он слова.
– Да отчего же не могу представить? Сам не сидел, каюсь! Но чтобы представить, как чувствует себя курица в бульоне, там не обязательно самому вариться, ведь так? Вы что ж думаете, это единичный случай, когда тяжелобольного не выпускают из-под стражи? Таких заключённых, дорогой вы мой, тысячи, их до последнего не актируют! Только в терминальной стадии заболевания ещё могут сжалиться… Но если такого заключённого на воле никто не ждет, и жить ему негде, а он туберкулёзник или там вичник, то умереть должны в тюрьме! Этих держат до самой смерти, такая вот негласная установка. И даже если родственники умоляют отпустить сидельца, нет, не отпускают. Мы тут за одного такого хлопотали и добились, выпустили его, а он взял, да у дверей больницы и умер, прямо так, с узелком, присел на ступеньках и отошёл. Молодой совсем был…
Помолчали. И казалось, на этом разговор и закончился. Но не для того Пустошин затеял беседу, чтобы отпустить гостя, не высказав ему, именитому, с последней прямотой некоторых истин. Да и кто бы ни высказал, случись такому человеку волей обстоятельств попасть на нашу/вашу веранду.
– А сидели вы все-таки не на общих основаниях! Тюремщики вас и пальцем тронули! А то, что на вас напал солагерник – не считается, это там бывает сплошь и рядом. Но вы вольны были писать, давать интервью…
И пришлось согласиться: «Да, в отношении меня соблюдались какие-то стандарты». Не рассказывать же, как заключённого и стандартами могут четвертовать.
– Но, знаете ли, поначалу в ваших интервью так явственно чувствовалось и смятение, и растерянность. Полагаю, вы не сразу освоились в тюрьме…
– Да уж к чему и не готовился, так это к тюрьме… И потому метался, искал, знаете ли, пятый угол…
– Но при вас всегда были ваши мысли, и лишить вас мыслительного процесса не мог никто, так ведь? А это главное!
– Да, мысли отобрать у человека, пока он жив, нельзя! И мысли можно наматывать километрами, обернуть вокруг экватора, протянуть в космос – и что? И что? – взорвался вдруг беглец и сам закружил по террасе. – Понимаете, за мыслями должно идти действие! Хоть какое-то! А нет никакого действия! И потому все умственные построения – бесплодны, совершенно бесплодны! И разрушительны и для сознания, и для психики, и для…
На этих словах на соседнем участке погас прожектор, и стало темно, и кричать стало и смешно, и стыдно. И что прорвало?
– Это нам сигнализируют: надо заканчивать! – виновато проговорил невидимый в темноте Пустошин. – Да-да, пора спать. Вы уж извините меня, заговорил я вас. Вы стойте там, я сейчас, сейчас выключатель найду. Где он тут… у двери должен быть… Ага, а вот он! – нажал Пустошин клавишу, и электричество на миг ослепило и его, и беглеца…
– Ну, что, гость дорогой? Нужду справим – и на боковую?
– Да, пожалуй, – согласился гость, и они сошли с крыльца сначала туда, где большой прямоугольник света ложился на траву, потом за его пределы, в темноту. И отошли подальше от дома, и устроились по разные стороны высокого куста.
– Вот, будьте любезны, на одном гектаре да не с кем-нибудь, а на пару с миллиардером, – хихикнул Алексей Иванович. Миллиардер не отозвался, просто не знал, что ответить. Не отвечать же так, как просилось на язык: «Рад, что доставил вам удовольствие!» Это было бы ещё пошлее, да и Алексей Иванович – не майор. Только Пустошин и сам почувствовал себя неловко.
– Я надеюсь, вы на меня не в обиде, а? Терпите! Вы много ещё чего о себе услышите, вот и я свои три копейки прибавил!
– Того, что вы имеете в виду, я наслушался на всю оставшуюся жизнь…
– Ну, тогда что же, тогда, значит, без обид?
– Да не заморачивайтесь, Алексей Иванович, насчёт меня. Всё нормально.
– Интересно вы сказали – не заморачивайтесь. Значит, не обиделись, да?
И пришлось снова заверить: нет, нет, что вы! Он и не думал лукавить. Пустошин был ему понятнее, чем майор Саенко. Алексей Иванович, помогает ему из принципиальных соображений и делает это вне зависимости от симпатий или антипатий. Другое дело Толя! Он так до конца и не поверил в романтичность его побуждений. Так не бывает! Он всегда помнил, что за словами, поступками есть второй план, совсем не тот, что обозначен словами, и часто убеждался в этом…
И точно знал, сам не смог бы вот так, бросив всё, погрузиться в проблемы другого, незнакомого, человека. Нет, не смог! И нашёл бы этому оправдание: мол, дает работу сотням, да что там сотням – тысячам людей. И потом одна минута его рабочего времени стоила таких денег! А скольким он отказывал в этих деньгах: заработайте! И швырял телефонную трубку, когда досаждали просьбами.
Нет, Толька – это укор! Может, потому он так раздражал. Раздражал иррациональностью поведения, таким чувственным восприятием мира. Его уму, холодному и расчётливому, как говорят некоторые, такой способ жизни был совершенно неведом. Но было что-то ещё, что не рассчитаешь ни на каком калькуляторе. Какая-то странная приязнь другого человека. Майор, сообразно своим взглядам, лечил его как лечат человека, не понимающего, что горькие пилюли – самые действенные. Нет, с ним определённо что-то произошло за те забайкальские дни, и вот уже хватает того вольного воздуха, а значит, вертолётного майора. А может, он просто привык, что за ним всегда кто-то ходил: то мама с папой, то референты с бодигардами, то конвоиры с адвокатами. И все последние годы рядом был Антон…
Он улёгся на узкий диванчик и, натянув простыню до самого подбородка, лежал на спине и ждал, когда сознание в предчувствии сна начнёт затуманиваться. Но спокойно лежать не получилось: заныла спина, и пришлось ворочаться – приспособить спину к диванчику, а может, диванчик к спине. Но голова была ясной, только мысли в ней вились бесконечной чехардой. Нет, он не думал о том, что будет завтра и как там всё пройдёт в консульстве, а потом в прокуратуре. Нет, волновали не эти мелкие технические подробности, а одна звенящая нота: все, отбегался!
И стремительный рывок на восток – его последнее путешествие в жизни. Когда-то страна простиралась перед ним со всеми горами и реками, мостами и скважинами, и он считал себя благодетелем этого государства. Может, он действительно не знал жизни, чего-то не понимал? Может быть! Но теперь-то, теперь он готов отказаться от многого, от всего лишнего, только жить на воле. Но завтра сам, собственными руками обменяет свободу на публичную демонстрацию своей законопослушности. И это тут же объявят трусостью. «Преступник понял всю бесперспективность дальнейших попыток скрыться от правоохранительных органов и, трясясь от страха, выполз из своей норы». Но жизнь перезагрузке не подлежит, и ничего не исправишь, если только детали…
«Ничего себе деталь! Когда он был здесь в последний раз?» – разглядывал он огромный сверкающий зал. Он узнал этот ресторан по мраморным колоннам, по свисающим, как сталактиты, хрустальным люстрам, мозаике на полу, узнал и человека, что сидел с ним за одним столом. Это жёсткое лицо с капризной нижней губой, этот блуждающий взгляд длинных светлых глаз, эти беспокойные руки. Перед ним сидел друг правителя в ранге посланника, и время от времени вскидывая рыжеватую голову от тарелки, всё спрашивал: и это их хваленая кухня?
А у него болело горло, и шея была обёрнута длинным серым шарфом, и отвечать не хотелось. Он попросил подогреть «Gevrey-Chambertin» – наверное, это было неправильно, его больной глотке подошёл бы обычный глинтвейн, но что теперь… Теперь он кутался в шарф и пил тягучее, красно колыхавшееся в бокале вино, и ждал, когда попросивший о встрече посланец Родины, перейдёт к делу.
Но тот будто не замечал и его нетерпения, и его досады. Ловко орудуя ножом и вилкой, посланец без конца подливал себе в бокал из пузатой бутылки «Laphroaig». И каждый раз отчётливо было видно, как напрягалось горло, стянутое галстуком, и невидяще соловели глаза, и подумалось: так он этот «Лефрой» и прикончит в один присест, потом возись с ним. Но нет, крепкий виски оказывал на посланца действие не большее, чем вода из-под крана. Он пил, ел, успевал прикладывать к уху телефон, и не какой-нибудь там «Vertu», a «Gresso», «Gresso Individual». Закончив с едой, друг правителя долго готовил сигару, а, раскурив ее, длинную и чёрную, уже не сводил жёсткого, немигающего взгляда.
– Ну что, поговорим? Я рассчитываю… мы все рассчитываем на твоё понимание. Если поймешь, всё у тебя сложится, а нет, так…
Чёрт! Пришлось поднять руку, чтобы ослабить шарф, горло сдавило так, что невозможно было дышать.
– Ты хоть понимаешь, против кого ты попёр? Думаешь, это вождь твой враг? Ну, есть у него к тебе вопросы… Помнишь, в девяносто шестом году ты уже со своими вышками был, а у него чемоданчик с долларами на даче сгорел, лимон, говорят, был. Выходит, пока он стоял на страже государства, ты всё сгреб под себя. А потом ещё стал выделываться, поучать… Вот пришлось тобою исправлять положение… И теперь у него ярды, и не один десяток. А кто помог наварить? Мы и помогли. И потому он делает только то, что ему скажут. Он послушный… Ты ещё не понял, кто на самом деле рулит? Русский бизнес и рулит, и потому больше никогда в России еврей не будет самым богатым, это понятно? Да я скоро куплю эту Амзрыку с потрохами. Я уже здесь! На 42 улице, в этом ресторане. Слышь, как называется эта столовка? – Столовка была одним из ресторанов Cipriani, но какое это имело значение для распаленного могуществом господина? Его дела были не так хороши, как прежде, но это тоже не имело значения. Он не пропадёт, он отработает, он заслужит…
– Ну, что сипишь? Ты должен быть благодарен нам – могли и трупешников на тебя навесить! – разверзся в смехе большой рот, обнажая и влажно блестевшие зубы с какими-то металлическими крючками, и ярко-розовые десны.
– Да против тебя столько людей работало! Ты хоть знаешь, сколько мероприятий, активных мероприятий мы против тебя задействовали, сколько денег на тебя угрохано! Да ведь перебили мы вашу сраную пропаганду, перебили. А ты не понимаешь, до сих пор дёргаешься… Не захотел стать скитальцем, а зря! Тебе фору давали, тебе направление указали – запасной аэродром Хитровка! И встречали бы с Лондонским симфоническим оркестром! Я бы сам денег не пожалел, нанял бы скрипочек с барабанчиками…
Ему хотелось ответить, зло и определённо, но приходилось ждать: пусть выговорится. Только вот шарф на горле стягивался всё туже и туже. А посланец всё говорит и говорит, его красный рот двигался как у англоязычных, и он уже не понимает, о чём талдычит этот человек.
– …А раз не захотел, значит, все суды и сроки только на твоей совести. И тебе никто не поможет, никакие юстасы, никакие лойеры, никакой Роберт Шапиро! Но ты только подпиши бумаги: претензий не имею, число, подпись – и все! Все! Поставь закорючку – и пулей вылетишь на волю! И будешь себе жить, как эти… мантье… рантье, во-во, рантье! Чем плохо? Вот так, пардонь муа и шер ами в придачу! – налил очередную рюмку посланец.
– Нет, ты что это, блин, молчишь? Понятное дело, тебе всё это – серпом и молотом… Но ведь жизнь, она дороже, чем эти самые… Ты не молчи! Ты ответь, ответь! Не хочешь? Смотри, не пожалей!
И тут же на крик из-за колонны показалось лицо не то охранника, не то официанта. И тут же у стола возник метрдотель. За его спиной маячили ещё двое в чёрном.
– Gentlemen, you all right? – наклонился чёрный человек, его белая, пингвинья грудь тяжело дышала. Астматик? И пришлось ответить:
– Yes, yes? I have everything in order…
– Чего ты, блин, йескаешь, чего йескаешь, по-русски говорить разучился? Всё в порядке, ребята, что вы всполошились? – развернулся на стуле посланец. И вдруг, с улыбкой глядя пингвинам в глаза, весело выкрикнул: – Halt die Fotze! Fick dich!
И глаза у молодых, крепких мужчин тотчас вспыхнули, один так и вовсе дёрнулся: точно служил в Германии, да на той же штатовской авиабазе в Рамштайне. Но метрдотель придержал рукой: «Не связывайтесь!» и все развернулись и исчезли, растворились за колоннами. Чем и ставят людей в тупик и правитель, и его свора, так это изречённой бесстыжестью. Особенно приспешники стараются, вот этот немецкий мат освоил, перенял, видно, брутальные навыки у патрона.
– Вот и пиндосы на и цирлах! – глядя вслед ресторанной обслуге, удовлетворённо заключил посланец. И, развернувшись, с задушевной интонацией поинтересовался:
– Как семья? Мама, папа, наследники, красотуля твоя? Как я понимаю, ты их не очень-то и жалеешь, а то бы остерегся бодаться.
– Если с ними что-то случится… – прохрипел он.
– Ой, напугал! Что ты теперь можешь? Ни-че-во! Слушай, а чего это ты так вырядился, шарфик зачем-то нацепил. Под интеллектуала косишь? – сыто рассмеялся визави. И, поднявшись, встал рядом. – А шарфик хороший, никак от Чезаре Фокальди, а? Давай поправлю! Да не бойся, не бойся! Ну, как? Что, больно? Неужели больно? – заглядывая в глаза, тянул концы шарфа в разные стороны посланец Родины…
Так, задыхаясь, он и проснулся: вокруг горла была намотана простыня. И он не сразу смог размотать жёсткую ткань, а, выбравшись будто из петли, хватал воздух сдавленной глоткой. В закупоренной ставнями комнате нечем было дышать. Спотыкаясь, на ошупь он пробрался к входной двери. Чужой замок на удивление легко поддался его пальцам, и он выбрался на террасу, а потом и на крыльцо, потом дальше, в тёмный сад. Он был так разгорячен, что не сразу почувствовал холод последней августовской ночи…
И споткнувшись о качели, сел там, пережидая смятение, как приступ тошноты. Откуда такие сюжеты? Да всё от нее, от тревоги, от безысходности и наступающей тьмы. Он никогда не увидит семью, никогда. Какое беспощадное слово – никогда… Личная жизнь давно кончилась. Жена превратилась в далекую и уже малознакомую женщину. Через двойное стекло на свиданиях, её лицо виделось размытым пятном, да и в голосе он различал чужие нотки. И пыткой была видеть её в суде, где нельзя было перемолвится ни единым словом словом, только взглядом. А что скажешь взглядом, да ещё при свидетелях!
Казалось, они стоят по разным берегам реки, и реку эту ни перейти, ни переехать, ни переплыть. Мосты взорваны, лодки сожжены, к воде не пускает ставшая стеной стража. И вот уже непереносимость становится привычной, с ней свыкаешься, с ней живешь… Женщине в такой ситуации много хуже – она не то соломенная вдова, не то…
Соломенная, соломенная… Однажды за городом отец показал ему скошенное поле и повел его, босого, по торчавшим щёточкой остаткам стеблей. «Колется? – спросил отец. – Это стерня! А там вон, видишь – это скирды соломы, из неё раньше делали крыши в селах на Украине». Отец побывал во многих местах, многое видел и любил просвещать сына. И до самого института был для него авторитетом, потом постепенно стал отставать от него, быстрого молодого волка. И не потому, что сдавало зрение, что стал глохнуть, отец просто не поспевал за жизнью. А однажды он увидел слезы на его лице.
Это потрясло тогда, и ему самому захотелось плакать. Так, без причины, только потому, что плачет родной человек. Он и прослезился, когда неожиданно заплакала мать. Сколько ему было? Лет двенадцать. Тогда он отвернулся к окну, пережидая приступ удушливой, щемящей тревоги, но она заметила его слезы и долго ещё говорила знакомым: «Сын у нас такой чувствительный, такой добрый…» Нет, это была не доброта, это был голос крови…
Мать всегда гордилась им, и любила появляться с ним на людях и ловить взгляды прохожих, а уж если встречались знакомые! Он видел, как она ждала комплиментов: мол, какой у вас сын, Мария Федоровна, и часто что-то подобное слышала. А его это всегда напрягало, но приходилось молча сносить эти сеансы. И однажды не выдержал и на вопрос какого-то дальнего знакомца матери: «Маша, откуда у тебя такой парнище?», вдруг выпалил: «Да вот родители дихлофосом поливали, потому такой и получился».
Мать потом ещё долго выговаривала ему: не умеешь вести себя! Ей хотелось видеть в нём одну безупречность, образцовость во всём. И потому заботила заботила каждая мелочь, относящаяся к её обожаемому сыну. Только однажды, как бы между делом, она, тщательно подбирая слова, завела непростой разговор: «Ты можешь не поступить в институт… такая фамилия… должен понимать… вот будет рабочий стаж, тогда… а сейчас должен засесть за учебники…»
И он помнит, как ему стало неловко. Так бывает, когда узнают о какой-то стыдной, долго скрываемой родными болезни, да нет, не болезни, она может и пройти, а особенности, о которой будут всю жизнь напоминать, напоминать, напоминать. Нет, он слышал в школе всякие дразнилки, ну, там: жид, жид, по верёвочке бежит, но не относил это к себе. А тут со всей определённостью и отнеслось…
Мать тогда и не догадывалась, а эти слов разрубили его пополам. Но человек не может жить, разделённым надвое. Полукровке непременно надо определиться и доказать, что одна его половина – это и есть целое. Может, весь его стихийный перфекционизм оттуда?
Больше тема еврейства в семье никогда не обсуждалась. Почему он не поговорил тогда с отцом? Сам сторонился той отцовской особенности? А разве нет? Наверное, поэтому в паспорте у него стоит – русский. Да, он волен был выбирать национальность: по матери или по отцу… Он выбрал по матери. Он так и не знает, что на самом деле чувствовал и переживал близкий человек. Оказывается, ничего не имело значения при определении наш – не наш. Ни гибель на фронте отца, ни нищие, как у всех, детство и юность, ни честная жизнь на зарплату инженера. А уж каким не нашим стал потом он сам!
Перед арестом ему прислали фотографию. На ней за длинным ресторанным, ещё не разорённым столом сидели рядом четверо, все с фамилиями на – ский. Крайний справа – владелец независимой телекомпании, и у сидящего рядом тоже был свой канал и много чего другого. А крайним слева был известный банкир, теперь, говорят, балуется сочинительством. Все трое к тому времени были за границей. И он между ними, ещё черноволосый, усатый и упитанный. Ещё несколько лет – и он стал бы таким же напыщенным и самодовольным, подумал он тогда, разглядывая знакомые физиономии, не понимая, кто и зачем прислал этот старый случайный снимок. И, только сдвинув фотографию по экрану, увидел надпись: «Ты следующий!»
И до сих пор не понимает, чем он так разозлил обезьянью стаю. Знает только, перед кем виноват, и больше всех перед матерью. Её главное разочарование – сын не стал ученым. Но теперь она была бы счастлива, если бы он просто мыл лабораторные колбы, ничего более. Только не занятие бизнесом! Иногда у неё проскальзывало: «Нет, раньше жизнь была спокойней. А эту я совершенно не понимаю». Но ведь и он помнил ту жизнь. Помнит, как мать, вздыхая, говорила иногда: «Ах, если бы немного денег…» Помнит смрадную коммуналку, где ей приходилось постоянно чистить, мыть, убирать за соседями, кто-то из них был не то сифилитиком, не то турбекулёзником… О! Этот запах хлорки в местах общего пользования! Всё ранее детство прошло под материнский рефрен: «Ни к чему не прикасайся в ванной. Ради бога, не прикасайся и хорошо мой руки!» И помнит, каких трудов стоило родителям выбраться из той клоаки…
Так получалось, он всё делал поперёк желаниям и надеждам матери. Как она умоляла его не начинать тюремных голодовок! А он не мог внять её просьбе, не мог. И ей снова и снова приходилось смиряться. Но когда уже он попросил её не выступать в суде там, в Чите, она как отрезала: нет, приеду и скажу! Ей казалось, слова могут что-то решить, и сына отпустят, обязательно отпустят условно-досрочно, она так в это верила. И тогда пришлось уступить ему…
Он никогда не забудет тот подлый суд. В тесном зальчике тогда было всего несколько сопереживающих светлых лиц, и несравненно больше любопытствующих. Просить освобождения на виду равнодушных конвоиров, глазеющей публики, скучающих журналистов и суетящегося специальных дел полковника – это он, а не судья дирижировал процессом, – всё было так поперёк сердца, что лучше не вспоминать. Видеть мать, просящей милости – и у кого? – было мучительно…
Не дай бог, если что-то случится с кем-то из близких! Семья – самое дорогое, что у него было, самое необходимое из оставшегося. Он знал в жизни столько заботы, нежности и любви, да, любви! И именно это, и только это, а не осознание собственной правоты и не упрямство, принимаемое за силу воли, держит его до сих пор в этой жизни.








