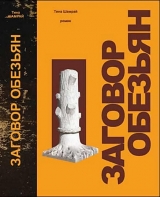
Текст книги "Заговор обезьян"
Автор книги: Тина Шамрай
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 54 страниц)
Тонкая, как спица, боль заставила очнуться, что-то, действительно, буравило левое ухо. И пришлось поднять руку и вяло, по частям доставать коричневые кусочки хитина и скоро сверление прекратилось, и не было смысла спрашивать: все ли детали вынуты, не болит – и ладно! И снова улёгся, но ворочаясь, что-то там задел спиной, ветку, что ли, и будто кто-то толкнул: хватит лежать! Надо вставать? Но зачем? – сонно спрашивала одна его половина, а вторая тормошила: давно пора идти, надо продвинуться хотя бы на несколько километров, он сегодня прошёл всего ничего. Но вставать не хотелось. Может, остаться здесь до утра, а завтра… «Какое завтра! У тебя не будет завтра, если ты не соберешься сейчас. Ты понимаешь это? Вставай! Вставай! Да вставай же, слышишь!» – кричало ответственная часть сознания.
Медленно, очень медленно, по частям он отделил тело от земли, натянул покрывшуюся красноватыми пятнами – пот, что ли, выжег – задубевшую от соли тенниску и встал на ноги. И долго стоял столбиком и всё пытался определить – где он, вожделенный восток. Так, покачиваясь из стороны в сторону, и определялся. Определялся долго, будто хотел обмануть самого себя: а вот нет никакого востока! И севера, и юга, и запада – ничего нет! А потому идти некуда, да, некуда! Он здесь, за этим камнем и останется жить. Вот так вот!
И какой уж там силой беглец заставил себя встряхнуться и перестать валять дурака, бог его знает. Но, только выровнявшись и сосредоточившись, он смог поймать картинку, и тогда открылись такие дали! Вот только сил восторгаться и синими дальними сопками, и этими ближними розовыми, и белыми небесами не было, ничего не было, кроме усталости, опустошения, горечи. Хребет простирался куда-то к горизонту, но в этой части был совсем не широк, и справа, и слева была всё та же бесконечная равнина. Он не видел, что там, у самого подножия, но впереди не было ничего: ни села, ни посёлка, ни города. И хорошо, и замечательно, и превосходно! Пока не надо городов.
Вот только на южной стороне как-то голо… Нет, он совершенно безмозглый болван! Так на южные склонах – они, кажется, называются марянами – ничего и не растёт: ни кустика, ни дерева, только трава. И видно его будет со всех сторон. Ну, спасибо, вспомнил! И что теперь? Придётся идти по верху, ближе к зарослям, и если налетят вертолёты, он успеет, обязательно успеет спрятаться.
Позже он и сам удивлялся, как это взбрело в голову идти по макушке хребта. Он ведь должен был понимать: вершина – не бесконечная плоскость и далеко не плоскость, а прерываемое Ущельями, распадками сложно-пересечённое нагромождение скал, горной тайги и другого природного материала… А тогда, определившись со сторонами света и надвинув поглубже каскетку, он, наконец, сдвинулся с места и порадовался легкости в теле: вот что значит отдых! Но, пройдя ещё несколько метров, Понял причину этой лёгкости: идёт без сумки. И, обернувшись, долго искал глазами камень, где ему приснился энтомологический сон. Камень был совсем недалеко, но возвращаться туда было тошно. Возвращаться не хотелось, как же не хотелось возвращаться! Но какая-то сила тянула к сиротливо ждущей его сумке. Да обыкновенная сила, втолковывал он сам себе: человек с ней меньше похож на беглеца. Почему он был в этом так уверен, и сам не знал, но пришлось подчиниться тому, второму или третьему, предусмотрительному, что в нем ещё жил. Перевязываться верёвочкой было лень, может быть, потом, потом… И без лямок и верёвок кожу на плечах здорово саднит – успел-таки прихватить солнца.
Надо было подобрать ещё и палку, но та куда-то запропастилась, а добывать новую не было времени, и тогда, спотыкаясь и чертыхаясь, он побрёл дальше. Его так мотало из стороны в сторону, что пришлось наклонить голову и этой частью тела рассекать жёлтый воздух. Оказалось, идти поверху было ещё тяжелее, чем двигаться там, внизу. Вершина была вздыбленной, и ноги вязли в осыпи, и поклажа камнем давила спину, и солнце сверху испепеляло его всей ядерной мощью. Каскетка превратилась в тесный обруч, и голова звенела колоколом, и пот заливал лицо, и каждый шов впивался в потное тело кожаными ремнями. И потому саднило то в одном месте, то в другом. Да если бы только это!
Скоро обозначилась и другая напасть. Сухая земля то в одном, то в другом месте вздымалась и, вихрясь, носилась по вершине, пугая своей бессмысленной пляской. И то сказать, забайкальские хребты, и Дула-Харай, и Уронай и Цутольский, имеют одну маленькую особенность – вершины их курятся и делают это без всякой причины, не надо и ветреной погоды. Всего этого беглец не знал, а то бы сто раз подумал, прежде чем карабкаться на самый верх.
Хотя, что такое забайкальская пыль, он должен был помнить и так, но, видно, закупоренная жизнь в разнообразных централах его сильно разбаловала. И то правда! Ничто природное в узилище не проникало, поневоле забудешь, что такое солнце, мороз, дождь, пыльные бури.
А бури были бичом здешних мест. Особенно доставали они зимой, когда мороз становился за сорок, снегов не было и в помине, была только одна мороженая пыль. Она прошивала насквозь, когда заключённые шли строем, а ходили они строем и на работу, и в столовую, и в клуб. Она висела над головами, когда зэки недвижно стояли на плацу – поверка велась путем количественного подсчёта и пофамильной переклички. Так их пересчитывали утром и вечером, но могли выстроить в любое время: под палящее желтое солнце, под секущую красную пыль, под ледяной белый ветер. Зимой песок и пыль секла лицо наждачной бумагой, забивала горло, ноздри, и укрыться от нее, всепроникающей, было невозможно. Вертухаи в тулупчиках с поднятыми воротниками шарфами прикрывали носы, притопывали валенками, а чёрная масса с синими лицами, будто и не людей вовсе, лишь глухо роптала. Как они все ждали снега! Днём народ постоянно сплевывал, а по ночам надсадно кашлял, и каждый по отдельности мечтал о больничке…
Вот и теперь приходилось увёртываться от пыльных вихрей: то отбегать в сторону, то прятаться за редкое дерево или куст. Но с каждым разом делать это становилось всё труднее и труднее. Пыль носилась по вершине, как ведьма на помеле, забивала рот, порошила глаза, смешиваясь с потом и слезами, попадала на стёкла. Чёрт его понёс на эту верхотуру! «Чем ты недоволен? – вяло упрекал он себя. – Тебе хотелось простора, ветра, солнца? Ты получил полный набор!» И когда он остановился в очередной раз и снял очки – хотел протереть стёклышки, земля под ногами вдруг взметнулась, вспухла серым облаком. И пришлось зажмурить глаза и отступить в сторону. Не в ту сторону. Он сделал эти несколько шагов и спиной полетел вниз…
Только испугаться не успел, от боли на какое-то время потерял сознание. И очнулся от этой боли, и не сразу сообразил, где он и что с ним, наверное, сознание жалело, и возвращение в действительность было постепенным. Перед глазами плавало такое тёмное облако, что пришлось зажмуриться и переждать. А когда окончательно пришёл в себя, понял, что лежит распластанный на небольшой площадке из осыпи земли и мелких камней, и не может двинуть ни рукой, ни ногой. Совершенно не может…
Всё! Отбегался! Здесь ему и конец! Конец… капец… трендец… писец… и абзац. Последний абзац! И не надо ни вертолётов, ни собак, ни коммандос с автоматами. Здесь и будет его последнее пристанище. И он, пыльный, потный, грязный, лежит теперь мешком в забытой богом и людьми расщелине, и никто, зови не зови, не придёт ему на помощь, никто не услышит его последних стонов и проклятий. В тюрьме он понял, что лучшая часть его жизни уже прожита, и всё последующее будет только жалкой попыткой вернуть её полёт, азарт, победительность. Но чтобы вот так рано и так нелепо всё закончилось! И ничто не будет напоминать, что он когда-то жил, был, состоялся…
Сверху жарило солнце, сбоку скала исходила злым теплом и невыносимо хотелось пить, рот спекся от жажды, и казалось, его взорвёт собственный жар. И как в бреду, он всё повторял и повторял: за что ещё и это? за что ещё и это? А следом: господи, он же, как мумия, высохнет на этих скалах… Он видел руки мощей, в Киево-Печерской лавре, что ли? Остатки плоти были тёмно-коричневыми, сквозь неё проступали жёлтые кости… От пули лучше? От пули – быстро! Сколько ему извиваться червем, пока сердце не выдержит? И что добьёт его быстрее: солнце, жажда или ночной холод? Один молодой циничный гений от медицины, входивший в их круг, на одном из мальчишников когда-то в красках описал, что бывает с человеком, когда тот отдаёт концы. И ему почему-то запомнилось, что расслабляются мышцы, из нутра вытекает всё дерьмо… Хорошо бы одним нажатием кнопки отключить сознание. Не видеть, не слышать, не понимать…
Он исчезнет со своим миром, особым миром, и что уж тут скромничать, со своим мозгом-компьютером, со своим бешеным честолюбием, со своей нежностью и жесткостью… Он уйдёт, пропадёт безвестно в этих степях, а мать так и не узнает, что с ним случилось. Мать жалко… Жалко больше всех, столько её надежд рухнет вместе с ним в эту расщелину. Рухнет смысл её жизни. Сколько боли, страха и стыда – да, и стыда! – она перенесла. И виноват в этом только он.
В первое время после ареста, сосредоточенный на противостоянии, он не осознавал, какой катастрофой всё это было для отца, матери… Осознание пришло позже, когда в тюрьме прочёл Гроссмана. Там, в романе про жизнь и судьбу, много сильных страниц, но особенно зацепило описание поездки героини в госпиталь к сыну… Она ехала к раненому и ничего не знала, а сын умер… Родители любят его без претензий, счетов и упреков. Но любил ли он так… так самозабвенно своих детей? Наверное, нет… Иначе посвятил бы всего себя им, а не большому миру. А этот мир и не заметит его исчезновения.
Но у детей есть какое-то будущее, своя долгая жизнь – у родителей не останется ничего. Ничего. А может, всё к лучшему: пропасть навсегда – и ни судов, ни камер, ни бараков, ни колючей проволоки, ни натирающих запястье наручников – ничего! Ничего из того концентрированного раствора злобы, мести, злорадства. И у тех, кто все эти годы ждал, будет ещё несколько лет надежд, что он жив, просто не может объявиться. Да, будет время свыкнуться с мыслью… И родителям не обязательно знать подробности, особенно отцу… Мать посильнее духом, она и крепкое словцо может себе позволить и накричать… Правда, это так не вязалось с её нежным голосом, как если бы ругалась Дюймовочка… И выходило так комично… Если бы теперь не было так горько… Жаль Лину! Как тяжело дались ей мальчишки… А он так редко навещал её в клинике, и вряд ли её радовало тогда, что клиника была в Швейцарии… Выходит, он только сейчас осознал, как ей было больно, когда сам упал с горки…
Только, наверное, исходит жалостью не к близким – к самому себе! Ну да, он эгоист, чего теперь стесняться, хотя всегда боялся этого определения применительно к самому себе. Он изживал эту любовь к себе и эту снисходительность к себе, но так и не стал альтруистом. И уже никогда не станет. Его всегда смешило, когда человек сам себя называл добрым, он точно не был добрым. В его понимании доброта – это род равнодушия и попустительства. Он же хотел быть справедливым, но, оказалось, справедливость – жестокая штука… Господи, как больно…
И как хочется пить! Глоток воды, и тогда обязательно станет легче… Но комфортного конца не будет… Беспамятство – божья милость, не будет никакой милости! Придётся корчиться под солнцем, под этим невыносимым солнцем, и если оно не сожжёт, то заморозит ночь. А потом начнёт жрать какой-нибудь зверь. И кто начнёт первым: волки, лисицы, вороны? Тогда уж лучше орлы!
И тут вдруг беглеца разобрал взявшийся ниоткуда смех: ну, да, Прометей хренов, орлов тебе подавай! Смех был так себе, просто смешок, но он вызвал конвульсию, а потом надсадный кашель. Его подбрасывало кашлем, и казалось, он сейчас задохнётся, попробуйте смеяться лежа! Но, постепенно выдохнувшись, кашель стал тише, тише, а потом совсем пропал. Оставалась только боль, и что-то надсадно хрипело в груди… Что-то с лёгкими?
Хорошо, он не выбросил паспорт, и если найдут его скелет, то сразу определят, что это он, а не кто-то другой… Только скорей его растащат звери, или какая-нибудь собака принесёт хозяину его ногу или череп. Да откуда здесь собака? Она ж не сумасшедшая, как он, лезть наверх… Да, хорошо, что он сохранил паспорт, вот для таких случаев и нужен документ. И, машинально подняв руку, похлопал себя по карману, на месте ли? Паспорта там не было и не могло быть, кто же носит его в кармане тенниски? Он лежит в заднем кармане джинсов… Но Рука, правая рука двигается… Или показалось? А левая? Больно, но пальцы шевелятся. Ноги? Он свел разъехавшиеся ступни – нормально, но подтянуть не смог, в спине будто завибрировала струна. Но ведь не потерял сознание от боли, а то, что голова кружится, это ничего, ничего… А если повернуть голову? И повернул, и что-то там хрустнуло, но было вполне терпимо. Но стоит ли радоваться? Да и чему радоваться? Он двигается по отдельности, совсем как кукла!
Но ведь двигается! Боясь поверить, он стал осторожно и беспрестанно, нет, не двигать, просто шевелить руками. И сжимал и разжимал пальцы, и собирал в горсти сухую, как порох, землю и потом разжимал кулаки – получалось! Так, теперь попробуй, попробуй, чёрт возьми, повернуться, а то солнце электрической дугой бьёт прямо в глаза. И кажется, глаза вот-вот лопнут, как яйца в кипятке, и голова от боли расколется на части. Если он не перестанет ныть, всё так и будет! Давай шевелись, шевелись! Нет, не может, болит, зараза, везде! Хорошо, давай передохнем, куда теперь спешить…
И, передохнув, он стал приподымать то руку, то ногу, но только боль снова и снова останавливала и откидывала его на спину. Ничего не получится, ничего! – повторял он до тех пор, пока не почувствовал, как из глаз заструились вода, она текла и текла… И было щекотно, и неприятно. Он поднял руки, и стал тереть уши, куда затекли злые от бессилия слезы, и только тут понял: обе руки вполне себе рабочие! Болят плечи, локти, но это терпимо! Терпимо! И тогда он с трудом, но завёл руки за голову и ощупал затылок – не больно. Не больно и сухо, и крови нет! И заведёнными за голову руками попытался одним движением подняться, сколько раз он так упражнялся и поднимал себя… Нет, не получилось, не давала разбитая спина. Или он просто боится боли?
Боится, разумеется, боится, но будет пробовать! И пробовал до тех пор, пока не повернулся. И не поверил сам себе: он что, может двигаться всем телом? Отдышавшись, вернулся в исходное положение, а потом перевернулся на другой бок, лицом к скале. Кажется, кости не сломаны! А теперь согнуть и подтянуть ноги – получилось и это, но далось с таким скрежетом и стоном, что зашлось сердце. И тогда он стал кататься из стороны в сторону, переворачиваясь и сгибаясь в дугу, и скоро с трудом, но смог сесть. И, прижавшись к горячей плоской каменной стене, долго недвижно сидел, грея ушибленную спину, ещё не веря, что цел, что не разбился, как стеклянная, как фарфоровая чашка, как фаянсовый горшок…
И в самом деле не разбился! Вот только голова сильно кружится… Что, сотрясение? Или просто слабость, но почему подташнивает? Тошнота стоит в горле, а ему и блевать нечем… Нет, если и сотрясение, то легкое. Да-да, совсем легкое. Хорошо, падал, согнувшись, а если бы ударился головой… С какой же высоты он упал? Полтора, два метра. С двух метров – это много… Он старался вспомнить что-то элементарное из медицины, но всплыло только одно слово – ликвор, но что оно значит? А тут ещё заболело в груди, и он попробовал кашлянуть, но как-то странно стало трястись всё тело, и боль прошила и глаза, и мозги, и кончики пальцев, потом растеклась по всему телу и застряла в спине и ниже… Как это называется, копчик?
Но боялся он не этой ноющей, а резкой и внезапной боли, и, затаившись, ждал, в каком месте вспыхнет и заискрит. И, решившись, попробовал резко повернуться, как тут же пришлось откинуться на скальную стенку. Так вот в каких случаях лезут на эту самую стену! Нет, надо двигаться и терпеть, терпеть и двигаться. Или он хочет остаться здесь на ночь? Нет! Тогда надо хоть на четвереньках, а выбираться из этой расщелины! Но куда выбираться?.. Чёрт, очки слетели! Но он и без очков видит: терраска, на которую он свалился, была совсем небольшой, в длину метров пять, а в ширину всего два, и если бы кто-то толкнул, он мог запросто улететь в провал. В узкий длинный провал с отвесными стенами расколотого будто топором хребта. На той стороне как стражники стояли тёмные деревья – сосны? Он долго водил глаза, когда в отдалении заметил бок сумки, повисшей на каком-то корне…
А там вода! Бутылка на самом дне сумки, и он достанет её, обязательно достанет! Надо только найти очки, пусть даже с треснутыми стёклами… Он долго осматривался, пока не обнаружил очки совсем близко от себя. И тут же водрузил окуляры на нос и тихо порадовался: вот что значит немецкая оптика! И как он их не раздавил? Правда, немного перекосило оправу, но это ничего, выправится, медицинский титан – штука восстанавливающаяся! Если бы и человек мог так сразу выпрямляться!
Теперь в очках, яснее видя детали, он пополз в противоположную сторону вызволять котомку. Подтянуть её удалось, уцепившись за расстёгнутый торцевой карман. И, лежа, он с жадностью выудил из пыльного чрева бутылку, воды в ней было меньше, чем он ожидал, но была, была… И с трудом протолкнул горлышко в сухой рот, и даже не почувствовав влаги, втянул в себя несколько глотков. Всё! Воды больше нет, а жажда стала ещё сильнее…
Остаться без еды он не боялся, когда-то мог продержаться так почти неделю. Но одно дело сухие голодовки в камере, когда не надо двигаться, а можно спокойно лежать… Нет, он и здесь обойдётся без еды. Это ерундово! А вот сколько он выдержит без воды? Если он останется здесь хотя бы на час, то изжарится, как карась на сковородке, и вопрос отпадёт сам собой.
И с тоской посмотрел наверх: нет, он не сможет туда подняться. Да и зачем? А если и вниз нельзя спуститься? Спускаться имеет смысл только в левую сторону, здесь край гряды совсем близко, но что если он отвесный? И пришлось ползти к левому краю, и когда он, ещё не разобрав, что там внизу, подтягивал сумку, его внезапно понесло вместе с осыпью. Его тащило вниз головой, и он всё боялся, что камни, катившиеся вслед, заденут забубённую башку. Но всё обошлось. До подножия хребта лавина не дошла, её так же неожиданно, как понесло, что-то и остановило.
Он долго лежал, погружённый в каменистую лаву и радовался: надо же как быстро спустился горки. Ещё не совсем спустился, но теперь что: преодолеет и это! И, встав на колени, долго отряхивался, и всё пытался определить, сколько метров до конца спуска – триста, четыреста? Нет, скорее, триста. Склон был пологим, но сбежать он не может – спину жжёт, будто с неё ободрали шкурку. Сможет ли он нормально ходить, не то что бегать с горки? Тогда что же, задом или на четвереньках? А почему просто не скатиться, просто взять и покатиться, внизу ни кустов, ни деревьев – одна трава, так и спине будет легче. И покатится он с котомкой на спине, только надо приготовиться. И, с трудом натянув и свитер, и куртку, он осторожно закинул сумку и долго завязывал веревочку на груди, так тряслись руки…
Потом лёг поперёк склона и, прижав локти к груди и связав мысленно ноги, покатился, покатился, покатился. Но через несколько десятков метров спина наткнулась в траве на что-то твёрдое, и пришлось затормозить. Фокус не удался! Пришлось подняться и боком, на пятой точке медленно сползти со склона. Добравшись до подножия, он застыл на несколько минут, приводя в порядок мысли: вот и пытайся умереть раньше смерти! И, отдышавшись, снял кроссовки и вытряхнул землю, а, развязав веревку, снял и сумку, и куртку, и свитер. Потом пришлось всё проделывать в обратном порядке, но теперь лямки резали прикрытое только футболкой тело будто пилой. Ничего, ничего, он сейчас свяжется и пойдёт, обязательно пойдёт. Только прежде надо подняться на ноги. И, встав на колени, он медленно, очень медленно он перевел себя в вертикальное положение. Стоять было тяжело, больно, но можно. Но как только он сделал маленький шажок, тут-то его и пронзила внезапная резкая боль. Ноги сами собой подкосились, и он со всего размаха шлепнулся на какой-то земляной бугорок, хорошо не на камень!
А дальше? Дальше ничего не было! Стало даже легче, боль стала не такой свирепой. Что, кости стали на место? Надо же, сколько везения – и всё одному, всё одному! Но сможет ли он идти, сможет ли преодолеть хоть какое-то расстояние? Разумнее всего, отлежаться, найти защищённое место и отлежаться… Если б не навязчивое желание пить! Именно это желание заставило двигаться, а не призывы терпеть боль, не раскисать и всякая другая стимулирующая сознание ерунда. Жажда была сильнее боли, слабости, безразличия. Он готов ползти на брюхе, только бы найти воду и пожить на воле хоть сколько-нибудь. Ну да, ещё один в Маресьевы набивается!
На брюхе ползти не пришлось. Поднявшись, он медленно выпрямился, в глазах тотчас потемнело, и пришлось переждать: сейчас, сейчас пройдёт! И, шатаясь из стороны в сторону, нетвёрдыми ногами сделал несколько осторожных шагов. Да, он двигается как паралитик, только-только вставший с постели, но ведь идет, идет! Всё нормально, уговаривал беглец сам себя, к боли, он точно знает, можно привыкнуть… Она отступит, обязательно отступит, куда ж ей деваться.
Говорят, поведение человека, измученного жаждой, становится осмысленным и чётким. Он идет туда, где обязательно будет вода. Вот и беглец, через силу пройдя не больше километра, услышал ещё далекие, но ясно слышимые голоса – в степи звук передаётся как через усилитель – и почему-то обрадовался: люди где-то рядом. Пробираясь вдоль крутого склона, он скоро вышел к открытому месту и понял: впереди развилка дорог. На развилке велись какие-то дорожные работы, высились кучи щебёнки, стоял самосвал, поодаль на земле сидели какие-то люди, они смеялись, и громко разговаривали. Он долго ничего не мог разобрать, пока не понял: говорят по-китайски. Хорошо это или плохо? Это никак! Вот только не все работяги могут быть китайцами. Ну, и плевать! Зато у них вода, обязательно должна быть вода. Не могут же они отказать в глотке воды?
Раздумывал он недолго: жажда была такой силы, что, забыв об осторожности, он, шатаясь, вышел к людям. И его уже мало занимало, что они могут подумать о нем: откуда, мол, здесь такой грязный и не с рюкзаком, а с дорожной сумкой? Но появление незнакомца китайцы встретили без удивления, во всяком случае, на коричневых лицах ничего не отразилось. Судя по всему, они уже закончили трапезу и сидели с кружками в руках, а рядом были два красных термоса. Большие такие термосы! Сколько же там воды…
– Тай тие, – пробормотал он, не спуская глаз с расписных емкостей. Китайцы удивленно заулыбались, загомонили, стали что-то спрашивать и почему-то смеялись. Смотрите, какие смешливые! Он что-то сказал не так? Кажется, поздоровался… Или попрощался? Точно, приветствие звучит по-другому.
– Ни хао! – с трудом вспомнив то немногое, что знал по-китайски и потребовал: чшёэ! Воды!
– Чи? – поднял кружку в жилистых руках старший из китайцев. – Чи? – ещё раз переспросил он. – Да, да, пить! – хрипло выдавил он. Кто-то из китайцев протянул ему термос. И пришлось в нетерпении ткнуть пальцем в кружку, что была в руках одного из работяг. Тот, наконец, нацедил кипятка из захватанного грязного термоса, получилась неполная емкость. Он залпом выпил теплый зелёный чай, и, протянув руку, попросил: ещё!
– Нету, – тряся термосом, втолковывал китаец, и разводил руками: нету! И тогда он показал глазами на второй термос: а там? И китайцы хором ответили: «Чи нет, нет чи». Он топтался на месте с таким видом, что один из рабочих протянул свою недопитую кружку. И, не раздумывая, он принял её и со стоном втянул горькую влагу.
– Се-се! – вспомнил он китайское «спасибо», и мужики закивали головами, залопотали что-то своё, радостное. Но пришлось развести руками: не понимаю! Он уже приготовился откланяться, когда взгляд уперся в молодого парня с тяжёлым жёлтым лицом. Китаец был откормленным и холённым, руки в белых нитяных перчатках держали бамбуковую палочку. Он стоял поодаль и пристально рассматривал незнакомца. Тогда всмотрелся и беглец. И сквозь мутные стёкла очков на сильных молодых плечах вдруг ясно проступили и зелёный форменный китель, и погоны, и горящие золотом звёзды. И пришлось отвести взгляд – вот уж точно: в голове туман над Янцзы…
– Се-се, се-се, – зачастил он, отступая на дорогу. Ему было всё равно, что подумают китайцы о его поспешном уходе. Но самому трудно было забыть странное видение с погонами и звёздами – жара, что ли, так на мозги действует? Или обеспокоил немигающий взгляд меднолицего, будто и китаец разгадал, кто он, появившийся ниоткуда человек…
Надо было уходить, уходить как можно скорее! И, сделав вид, что поправляет что-то в одежде, стал осматривать пространство. Одна укатанная колея вела куда-то вбок через степь – на север? – другая прямо перед ним жалась к хребту. И он пойдёт по этой дороге, и скоро спасительная гряда его прикроет, укроет, защитит. Он повернулся, хотел посмотреть, что там китайцы, но позади никого и ничего не было. Даже горы щебня! Ему что же, всё показалось? Но он пил воду, пил, доказывал неизвестно кому беглец.
И вода настолько оживила, что, потеряв бдительность, он, уже не таясь, поковылял прямо по дороге. Не надо продираться сквозь заросли, спотыкаться о камни в траве, застревать в сыпучей земле, а, значит, можно быстрее продвигаться. Вот только каждый шаг давался с трудом, и все маленькие бугорки и ямки отдавались в перебитой спине. И скоро стало понятно, что и по торной дороге ему, не евшему два дня, повредившему не только спину, но и мозги, идти тяжело.
Но, пошатываясь и спотыкаясь, он всё шёл и шел. Куда, зачем? С каждым шагом бессмысленность этих судорожных усилий становилась всё очевидней, и это забирало больше, чем физическая боль в непослушном теле. И только непонятное ему самому упрямство заставляло ещё передвигать ослабевшие ноги и надеяться неизвестно на что…
И, остановившись передохнуть, он поднял голову и осмотрелся. Слева гряда оборвалась, и открылась степь, а справа скалы ещё сторожили дорогу. За то время не было ни одной машины, ни одного мотоцикла, и в небе – никого и ничего. Неужели автобус не нашли, и утренний вертолёт – так, простая случайность? Какая к чёрту случайность, услышал он далекий, еле слышный рокот мотора. Вот и дождался! – тяжело кинулся он влево и, завернув за выступ, прижался к камням. Почему он решил, что китайцы не опасны? Тем, что в большинстве своём они нелегалы? Нелегалы, как и он? Но его нелегальность совсем другого рода, и положение гораздо хуже китайского. А может, китайцы – это поисковая группа, и только такой болван, как он, клюнул и вышел водички попить. Теперь вопрос в том, как быстро подтянется группа захвата…
А гул всё нарастал и нарастал и сделался таким мощным, что, казалось, там не одна машина, а движется целая колонна. Нет, не надо было выходить. Пить всё равно хочется, будто и не было грязной кружки с теплым чаем. Он не только раздразнил ненасытную утробу, но ещё и подставился. Эти машины точно за ним! Он ведь объявлен вне закона, и любой может, если захочет, уничтожить его… Господи, что он несёт! Головку точно напекло! Причём тут китайцы? Для ребят в погонах это было бы слишком сложно, да и времени на такие комбинации у них нет. Но гул машин – это не бред, реальность… И, действительно, через минуту мимо, подпрыгивая на колдобинах, проехал одинокий грузовик. Но поднял такую пыльную завесу, будто целая армада. Пыль осела, а он всё прислушивался, всматривался. Но нет, ничего постороннего больше не было, над хребтом, и над степью снова опустилась тишина. Надолго? «Вот видишь, это ещё не за тобой, за тобой придут позже. И совсем не китайцы!»
Хотя эта встреча была сама по себе забавной. Интересно, сколько бы этих трудолюбивых Муравьёв работало на строительстве нефтепровода, если бы проект был запущен? За эти годы он был бы построен и стал бы весомым подтверждением эффективности и мощи его компании. Теперь же от неё только и осталось, что четыре буквы на чёрных боках цистерн, они катят ещё по Транссибу и у Читы сворачивают на юг, и мимо той же Оловянной, той же Борзи везут нефть в Китай.
Сколько сил он отдал этим переговорам! В первый раз они летели в Поднебесную будто на задворки мира, но через сутки поняли, с кем имеют дело – с прообразом будущего планеты. За этим будущим были величественная история в несколько тысячелетий и сегодняшняя мощь в полтора миллиарда человек. Помнится, как тогда удивила красота молодых китайцев, само собой, они больше рассматривали смугло-розовых женщин, их было неправдоподобно много. Нескольких дней в Пекине хватило осознать, какая там вызревает сокрушающая и убеждённая сила. И на сановных непроницаемых лицах иногда читалось: и высокомерие, и превосходство, и презрение ко всему не китайскому. Видно, забавляясь, мандарины изредка, но давали понять: мы пока снисходим и ведем переговоры, но скоро придём и всё возьмём сами.
Ему и эти переговоры ставили в вину, но он и сейчас уверен, что его китайский проект – проект не только экономический, но и политический. И будь трубопровод построен, можно было привязать китайцев к трубе и попытаться этим перебить планы американцев о Большой двойке. Но нитку стали тянуть в Приморье, а это долго и дорого, а значит, глупо. Правда, потом одумались и поняли: нужна короткая ветка в Китай. А раньше что, не хватило ума дождаться, пока частная компания всё сама построит, а потом отобрать? Спешили! И спешка была от недалёкого ума, но прежде – от жадности. Вот и последний договор на поставку нефти китайцам поражает наплевательством: стая собралась отдавать её почти даром. И что же это, как не распродажа любимой Родины!
Господи, о чём он думает! Вспомни ещё все свои проекты! Какой нефтепровод? Гори оно всё фиолетово! Что тебе нефть, что тебе Китай? О, Китай – это чай, много чая! Помнится, они всё хотели посмотреть там юг, но времени хватило только на восток – Циндао, Нанкин, Шанхай. Но Шанхай! Там, в европейском квартале, прямо на улице с викторианскими особняками можно было послушать живой джаз, посмотреть на богатых китайцев. Китайская аристократия, что бесценный старинный фарфор… Они и сидели тогда расслаблено в плетённых креслах на улице, и рассматривали публику, и много смеялись, изображая то колонизаторов, то аборигенов. Их немало позабавила одна особенность: оказывается, в тех краях алкоголь разбавляют зелёным чаем, и виски, и коньяк. Да какой, к чёрту, коньяк, они пили тогда много вкусной ледяной воды, пили красный и зелёный чай, пили утром и вечером из тонких фарфоровых чашек… А из затейливого окна отеля, отгороженного латунным поручнем, рассматривали голубые зеркальные небоскребы, стоявшие как глыбы сверкающего льда… И бросались кубиками льда…








