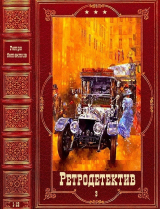
Текст книги "Ретро-Детектив-3. Компиляция. Книги 1-12 (СИ)"
Автор книги: Иван Любенко
Соавторы: Виктор Полонский
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 100 (всего у книги 178 страниц)
Белоглазкин ночью спал плохо. Снились кошмары. Во время утреннего бритья рука дрогнула, и он порезал подбородок. А еще из головы не выходил разговор с Ардашевым: о допросе, судебном следователе и тюремном замке.
Надев поверх белоснежной сорочки жилетку-пике, Илья Дорофеевич подошел к зеркалу. Шелковый галстук отказывался повиноваться, и узел получался неровный, кривой. Неожиданно зазвонил старинный дверной колокольчик. Послышались шаги горничной, скрип несмазанных петель и топот по коридору. Дверь в комнату распахнулась. В проеме, будто в картинной раме, возник маленький толстый человек в партикулярном платье, с усами и бритым подбородком. За его спиной виднелся околоточный надзиратель.
– Господин Белоглазкин Илья Дорофеевич? – сквозь зубы процедил он.
– Чем обязан честью?
– Сыскная полиция. Вам надлежит пройти с нами в участок.
– А что случилось?
– Вам там обо всем расскажут.
– Нет уж, извольте, сударь, объясниться.
Каширин скрипнул зубами, и, глубоко вздохнув, пояснил:
– Вы подозреваетесь в убийстве господина Тер-Погосяна. И для вас, милейший, будет намного лучше, если вы признаетесь в этом еще до того, как вас опознают свидетели.
– Что за бред? О чем вы? – взмахнув руками, возмутился Белоглазкин. – Я – дворянин!
– Да хоть сиятельный князь!
– Вы не смеете так со мной разговаривать!
У полицейского стал нервно подергиваться двойной подбородок и округлились глаза. Он вынул из кармана малые ручные цепочки и тихо, словно боясь, что в любую секунду может взорваться, вымолвил: – Ежели вы будете прекословить, то я проведу вас через весь город вот в этих «брушлатах»[142]142
Брушлаты (уст.),(жарг.) – малые ручные цепочки (наручники). (Прим. авт.)
[Закрыть]. Ступайте за мной. Быстро.
– Хорошо. Я подчиняюсь насилию, но вы за это ответите!
Уже через минуту двухместная пролетка бежала по мостовой. Околоточный, получив приказ доставить в участок понятых и статистов, схожих с Белоглазкиным, пустился пешком через Нижний базар.
…В темном коридоре полицейского управления пахло свежей краской. В дальнем углу, под лестницей, виднелись чьи-то силуэты. Напротив, в каких-нибудь восьми шагах, под охраной полицейского нервно курил подозреваемый. Мимо с кожаным портфелем важно прошествовал Леечкин.
Первым в следственную камеру вызвали Белоглазкина, затем статистов. Последним появился свидетель.
Надо сказать, что околоточный надзиратель постарался на славу. Вся тройка опознаваемых смотрелась словно братья. Не только по росту и возрасту, но даже по отсутствию усов и бороды они были схожи. К тому же Белоглазкин, вспомнив советы Ардашева, проявил находчивость, и с разрешения следователя поменялся пиджаками с одним приглашенным господином, а другому – по виду мещанину – передал пиковую жилетку. И впоследствии это обстоятельство сильно смутило извозчика.
Он прошелся вдоль сидящей троицы несколько раз, но так никого и не выбрал. Затем, приближаясь к каждому, долго рассматривал лица в упор – ничего не помогло. Каширин заметно волновался и то и дело вытягивал шею из стоячего накрахмаленного воротничка. Леечкин нервно постукивал по столу пальцами. И только сидевший напротив Поляничко, казалось, был абсолютно спокоен.
– А нельзя, вашество, папироски им дать? – робко оглядываясь по сторонам, проговорил извозчик и с умоляющими глазами добавил: – И стулку бы здеся поставить, а?
Не проронив ни слова, Каширин установил стул на указанное место. Открыв собственный портсигар, он выдал трем испытуемым папиросы.
– Ну? Теперь можешь узнать? – глядя исподлобья, пробурчал полицейский.
– Это мы мигом! – весело пробалагурил свидетель и неожиданно вскочил на спинку, словно на козлы. Оказавшись к сидящим спиной, он резко обернулся. – Он! – тыча пальцем в Белоглазкина, радостно завопил возница. – Энтот, посередке, интелихент!
16
Чадные дни
Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорее.
И. С. Тургенев
Человеческая жизнь имеет удивительное свойство – меняться в один миг до такой степени, что иной раз кажется, будто это случилось не с тобой, а с кем-то другим. Она то вдруг возносит окрыленного везунчика до небывалых высот, то бросает поскользнувшегося неудачника в пропасть мучений и невзгод. И никто не знает, сколько продлится звездный час или тернистый путь. Но странная закономерность: безоблачное время всегда короче, чем период лишений. Оно словно кукушка в часах: выглянет на миг и потом исчезнет надолго. Поэтому, видимо, народ и сложил столь пессимистичные пословицы: «счастье коротко, а беда долга», «века мало, а горя много».
Эти невеселые мысли роились в голове Ильи Дорофеевича Белоглазкина, трясущегося в Черной Марии[143]143
Черная Мария (уст.), (жарг.) – карета, на которой привозили в тюрьму преступников. (Прим. авт.)
[Закрыть]. И он снова и снова возвращался к тому самому моменту, когда его опознал извозчик.
…Толстый полицейский подскочил к нему и, вырвав изо рта недавно данную папиросу, сунул ее обратно в портсигар. Точно так же он поступил и с двумя статистами. Повиснув над лицом инженера, коротышка провещал:
– Что ж ты так, мил человек, обвиноватился? Ну с армяном понятно – конкуренция и все такое… А вот за что ты драного титулярного кота отравил? У него ж нажитого – манишка да записная книжка! А-а? – гаркнул он ему в самое ухо.
От неожиданности горный инженер отпрянул, вскочил со стула и возмутился:
– Да как вы смеете! Я вам не лакей, чтобы мне тыкать!
Полицейский сжал кулаки, и его лицо приняло цвет отварной свеклы. Со стороны казалось, что толстый, потасканный французский бульдог вот-вот кинется на молодого добермана. Но в конфликт вмешался Леечкин:
– Послушайте, Каширин, вы свое дело уже сделали. Теперь настал мой черед, так что извольте не мешать. Не скрою, я был бы вам крайне признателен, если бы вы оставили нас одних. – А вы, сударь, – он обратился к Белоглазкину, – пожалуйста, возьмите стул и сядьте напротив. Мне надобно вас допросить.
– Тоже мне фельдмаршал выискался, – едва слышно пробубнил сыщик и поплелся к двери.
За ним, покручивая правый ус, следственную камеру молча покинул Поляничко.
Допрос проходил вполне спокойно. Инженер повторил почти слово в слово все то, что рассказывал ему Ардашев. Следователь не перебивал, лишь изредка задавал уточняющие вопросы. А в конце подсунул на подпись протокол. И опять присяжный поверенный оказался прав: все вводные слова были опущены. Белоглазкин возмутился и потребовал переписать несколько предложений. Скрипя пером и скрепя сердце, чиновник подчинился, и правда восторжествовала. Получив заветную подпись, Цезарь Аполлинарьевич сунул бумаги в портфель и надолго исчез.
Время тянулось медленно, как малиновый кисель. Но стрелки Павла Буре показывали, что с момента ухода Леечкина прошло две четверти часа. Илья Дорофеевич ненароком подумал, что о нем забыли. Он опасливо приблизился к двери и приоткрыл ее. Предательски скрипнули петли, тут же перед глазами вырос городовой и потребовал вернуться на место.
Теряясь в догадках, Белоглазкин вынес еще один мучительный час. От томительной неизвестности и предчувствия чего-то плохого или даже страшного у горного инженера стучало в ушах и захватывало дыхание, как в детстве, когда, забравшись на покатую крышу старой мельницы, он подходил к самому краю и с опаской заглядывал вниз.
А потом все произошло совсем буднично. Внезапно появившийся следователь в присутствии товарища прокурора Бутовича зачитал бумагу, исходя из которой вытекало, что дворянин Белоглазкин, подозреваемый в совершении умышленного смертоубийства купца II гильдии Тер-Погосяна Д.Р., на время следствия помещается в Тюремный замок. Зачитал и ушел как ни в чем не бывало. Вместе с прокурором. И все.
Как выяснилось, тюремная карета уже стояла во дворе полицейского управления. С того момента, как он оказался в ней, началась совсем другая жизнь – та, о которой он даже не ведал и не подозревал, но которая может случиться с кем угодно – только не с ним. «Словом, жил себе поживал благонравный господин и тут на тебе – оказался в неведомом доселе мире, Царстве Зла. А может, это кошмарный сон? – испуганно подумал Белоглазкин. – Стоит лишь открыть глаза, и он исчезнет? Но нет, все по-прежнему: решетка на окне экипажа и тоскливый скрип колес. А что дальше? Удушливый эргастул, упыри в арестантских халатах и злобная охрана?»
Лошади стали. Тюремный привратник отворил ворота. Карета въехала внутрь. От опустившегося тумана острог выглядел мрачно и зловеще. Вдоль высоких стен дежурила стража. Мимо проследовали два арестанта в серых халатах, толкающие перед собой тачку. На ней стояли две деревянные параши, закрытые крышками; оттуда несло зловонием.
В сопровождении надзирателя Белоглазкина провели в тюремную канцелярию. Тусклый свет керосиновых ламп выхватывал угрюмые лица надзирателей.
Писарь с рыжими усами долго заполнял бумаги. Дежурный помощник начальника тюрьмы, не произнося ни слова, тщательно обшаривал платье. Его тонкие натренированные пальцы не пропускали ни одного шва. Одежду разрешили оставить свою. Такая поблажка делалась только для лиц дворянского сословия. И это, как позже выяснилось, было не единственным преимуществом. Ардашев оказался прав: для дворян существовали отдельные камеры. Их было две. К одной из них и подвели горного инженера. В руках он держал свернутое солдатское одеяло, войлочный тюфяк, белье и подушку. Лязгнула незапертая дверь, и тяжело стало, будто упало сердце. Изнутри пахнуло тошнотворным смрадом – кислым запахом пота, еды и параши. «Вот оно, – подумал он, – королевство иллюзий и аберраций».
Дверь затворили, но Белоглазкин так и остался стоять у порога, словно перед ним разверзлась бездна, и первый шаг мог стать последним.
– Bon soir![144]144
Bon soir (фр.) – Добрый вечер. (Прим. авт.)
[Закрыть] Что же вы, сударь, не проходите? Милости просим. Вот и коечку можете выбрать. Комнатка, как видите, большая, а нас всего трое, – выговорил толстенький седенький человечек с трапециевидными усиками и бородкой клинышком. Он был одет в просторные брюки, застиранную синюю сорочку и старый, изрядно поношенный чесучовый пиджак. – Позвольте отрекомендоваться: губернский секретарь Мурашкин Акакий Мстиславович. Служу, простите, служил по акцизному ведомству.
– Белоглазкин Илья Дорофеевич, горный инженер. – Он огляделся вокруг и нашел, что камера и в самом деле представляла собой довольно просторное помещение. Вместо дощатых нар стояли удобные топчаны, топилась печь, и пускал пар медный чайник. Неподалеку на полках аккуратной горкой высились тарелки, чайные стаканы и блюдца; в ящике лежали ложки. Даже стены были выкрашены в светлый персиковый тон.
– Господи помилуй! Вот не ожидал! Дык это же ставропольский Нобель! Я помню вашу фотографию в «Кавказском крае»! – раздался чей-то голос, и откуда-то из глубин камеры выплыл человек со всклоченными волосами и таким помятым лицом, что, казалось, он спал на кирпичах. Незнакомец склонил набок голову и представился: – Будянский-Ланселот, Порфирий Доримедонтович, свободный репортер. А я, батенька мой, если хотите знать, не по своей воле здесь оказался. Я за вас, за вас, дорогой мой, страдаю: ем тюрю, курю вонючую махорку и ежедневно воюю с начальником тюрьмы, с трудом добиваясь от него свежих газет.
– То есть как это из-за меня? – Белоглазкин удивленно округлил глаза.
– Будет вам, Порфирий Доримедонтович! Хватит человеку голову забивать, – вмешался Акакий Мстиславович. – Дайте ему отдохнуть, перекусить. А ваших басен азовских он еще успеет наслушаться. Времени у нас теперь целый воз. – И повернувшись к новичку, указал рукой: – Вон тот топчанчик для вас самый подходящий: от окна не тянет, рядом с печкой и ретирадник далеко. Так что кладите вещи и располагайтесь. А мы сейчас вам на стол накроем: ветчинки, икорочки красной, хлебушка с маслицем, яичницу с сырком и ветчинкой, а кофею не желаете-с?
– Благодарю, господа. Но откуда вся эта манна небесная?
– Так это же дворянская камера. Нам позволено выписывать за свой счет многое. Тут вам и колбаска, и грудинка, и сальце, и селедочка, и сырок! – все, что душеньке угодно! Можно и по рюмочке коньячку пропустить по случаю знакомства, не против?
– И коньяк позволительно?
– Ну что вы, голубчик! Нет, конечно же! Мы инкогнито-с… Просим стражников, и они – слава Господу! – идут навстречу-с. Гешефт у них такой. А от арестантского пайка мы отказались. Зато нам даже вилки выдают на обед. Правда, потом забирают. Конечно, это не фамильное серебро, но все же… Столовые приборы жены передали. Как вы, наверное, заметили, дверь нашей камеры не запирается – на прогулку можно ходить, когда хочешь. Никто и слова не скажет. Но мы стараемся с иванами не встречаться. Ну их! А вы, позвольте узнать, под какой статьей значитесь?
– Меня, господа, как это ни странно звучит, обвинили в убийстве.
– А что ж тут странного, батенька мой? Вон Порфирий Доримедонтович, человек кристально – чистой души, а ведь мошенником считается! Упек его в узилище господин Гулиев! Вона как!.. Вымогателем выставил: мол, деньги с него требовал, чтобы статейку в газете не размещать про его темные делишки! – Он вздохнул тяжело. – А спросите: за что меня на цугундер притянули? Чем помешал царю-батюшке мелкий акцизный чиновник? Ну колесил я по уездам, винокуренные заводы проверял, аппараты пломбировал, склады осматривал, во всяческую погоду трясся в казенном тарантасе по степным ухабистым дорогам. И что? Я ведь к людям с пониманием подходил, по-человечески. А они, бывало, благодарили меня. Не скрою – брал. Немного. По совести. Не наглел. Меня все знали и уважали. Я даже от повышения отказался. Так ведь купцы просили, умоляли. Говорили, останься, Акакий Мстиславович. Куда мы без тебя! А то пришлют новоиспеченного хлыща, и кто знает, что за птица будет? Я и остался. Все шло хорошо. Но вот однажды сунулся я с проверкой в Александровский уезд. Надобно было один склад осмотреть. А хозяина не было. Укатил за границу с женой. За себя оставил только что принятого на работу приказчика – бывшего студента. Подошел я к складу, а дверь заперта. Стучу-стучу – никто не отворяет. Вдруг откуда-то сбоку выходит ко мне этакий молодой человек в дворянской фуражке с красным околышем и протягивает сотенную, чтобы я без осмотра акт составил, что все у них чин-чином. Я, понятное дело, согласился; бумагу заполнил, расписался и личной печатью удостоверил, что все у них хорошо и правильно: емкости в порядке, чистота, словом, все по правилам. Выдал ему копию. Едва он успел ее в карман положить, как во двор влетели две полицейские пролетки. У приказчика, откуда ни возьмись, в руке наган появился. Только жандармский офицер проворнее оказался и первым успел нажать на спусковой крючок. Студент упал, будто его косой срезали. Но Господь смилостивился и подарил ему жизнь. Пуля угодила юноше в правое плечо. Двое его однодельников тут же сдались. Выяснилось, что в складе находилась целая лаборатория по изготовлению бомб. Чего там только не было! И колбы, и бикфордовы шнуры, и бертолетова соль, и гремучая ртуть, банки с азотной кислотой… Когда у раненого приказчика карманы обшарили, то вытащили мой акт. На допросе он сознался, что дал мне «радужную». Вот господин Фаворский и передал на меня материал судебному следователю. Скоро суд. Адвокат обещает, что меня скоро выпустят. Только не верю я ему, нет. Врет, успокаивает; в глаза мне не смотрит и папироски одну за другой смолит, точно не меня, а его судить будут. Переживает, видать, что денежки возвращать придется. Сказать по правде, я ему столько капитала отвалил, что о-го-го-го! За эту сумму меня не то что оправдать, мне Андрея Первозванного высочайше пожаловать должны. Так-то! – Мурашкин замолк на миг, уставившись на Белоглазкина, и вдруг спросил: – А кого вы, позвольте узнать, – он провел ребром ладони по шее, – того… укокошили? То есть, я хотел сказать, в причастности к чьей смерти вас подозревают?
– Они считают, что я застрелил Тер-Погосяна и потом сымитировал его самоубийство, – глядя в пол, горестно вымолвил новый узник.
Откуда-то сзади раздались аплодисменты. Белоглазкин обернулся. Перед ним стоял незнакомый человек во фрачной паре, в белой сорочке и с расстегнутым воротником. Тонкие усы «пирамидкой» выдавали в нем человека светского. Но глаза!.. Таких глаз Илья никогда не видел. Они были цвета мороженых устриц.
– Это доктор Слонимский, – еле слышно прошептал Мурашкин. – Король аферистов. Среди арестантов он во всей тюрьме самый что ни на есть главный.
– А вы зря так меня величаете. Разве я бесчестный человек? – с наигранной обидой проговорил тот.
– Не извольте-с гневаться, Лев Данилович. Это я так-с, образно выразился, употребил фигуру речи. Меня ведь тоже мздоимцем величают. А ежели к этому с другого боку подойти, то я есть истинный благодетель, потому как давал людям делом заниматься, а не с бумажками по присутственным местам носиться. Простите старика, заболтался совсем.
– Ладно-ладно, Мурашкин. Вы нам яичницу, я слыхивал, обещали, так извольте приготовить. Нам с «гостем» поговорить надобно, так что прошу не мешать.
– Это я мигом-с, – проворковал акцизный чиновник и принялся суетиться у примуса.
– Присаживайтесь, сударь, к столу. – Слонимский указал рукой на табурет. – Вы, вероятно, Илья Дорофеевич, желаете знать, отчего меня доктором величают? – Не дав собеседнику открыть рот, он тут же ответил: – Так извольте, я по образованию врач. Но теперь вы, в свою очередь, по заведенному в этих местах обычаю, должны рассказать мне все как на духу. Ну-с, повествуйте о ваших, так сказать, страданиях. Что, как и почему?
Белоглазкин, как загипнотизированный удавом кролик, принялся описывать свою историю со всеми подробностями. Однако Слонимского интересовало не столько расследование смертоубийства Тер-Погосяна, сколько причины успеха «Ставропольско-Кубанского нефтяного товарищества». Не особенно церемонясь, он то и дело прерывал горного инженера, задавая ему все новые вопросы. И поданная яичница с ветчиной уже была съедена, и кофе откушан, а Белоглазкин все говорил и говорил. Наконец слушатель махнул рукой:
– Ну, будет. Вы-то, как говорится, с дороги. Прилягте, отдохните. А я пока попрошу Порфирия Доримедонтовича набросать вам бумаженцию, которую вы перепишете и отправите на волю своему приказчику.
– Простите, какую бумаженцию?
– Надобно будет сделать кой-какие платежи.
– Простите?
– Оплатить долги.
– Но у меня нет долгов!
– Надо же! Счастливый человек! Без долгов живет! – хохотнул Порфирий Доримедонтович.
– Да-с, счастливый, представьте себе! Не чета вам! – вступился Акакий Мстиславович.
– А не кажется ли вам, господа, – Слонимский брезгливо поморщился, – что вы беззастенчиво вторгаетесь в нашу сокровенную беседу? Лучше бы делом занялись: перо, бумагу и чернила приготовили.
– Уже готово-с! – отрапортовал Будянский-Лонселот.
Слонимский подсел к собеседнику еще ближе, и, не сводя с него глаз, сказал:
– Для вас, Илья Дорофеевич, человека состоятельного, это сущая мелочь, а для томящихся в казематах арестантов – большая помощь. Речь идет о смехотворной сумме, – он поднял глаза к потолку, – скажем, всего о пяти тысячах рублей.
– Пять тысяч! – у Белоглазкина округлились глаза. – Но это очень, очень много!
– Боюсь, что в противном случае вам придется поменять этот комфортабельный номер на другой: с клопами и жуткими идиотами-насильниками, у которых текут слюни, когда к ним попадает молодой розовощекий сиделец, такой, как вы, – с нотками раздражения выговорил «король аферистов».
– Я согласен, – выдохнул горный инженер.
– Это очень разумно, знаете ли, с вашей стороны, – согласился Слонимский и, обернувшись, поманил рукой репортера.
И в этот момент Белоглазкина осенило. Ему стало совершенно ясно, кто сделал тот самый анонимный телефонный звонок, назвавшись доверенным лицом Тер-Погосяна. А значит, теперь он знает имя настоящего убийцы. Но как сообщить об этом Ардашеву? Как предупредить его?
От осознания собственной беспомощности он закрыл лицо руками. Все остальное проплывало перед глазами точно туманные картинки в вагонном окне скорого поезда. Ему подсунули бумагу и показали, где поставить подпись. Он не посмел ослушаться.
17
Журавли
Все остальные дни Белоглазкин ходил, точно придавленный жерновом. Мысль о том, что он должен во что бы то ни стало рассказать о своей догадке Ардашеву, неотступно преследовала его.
– Побег – единственный способ оказаться на воле. Клим Пантелеевич придумает, как тебя спасти. Главное – перемахнуть через эти стены, – навязчиво бормотал кто-то другой, сидящий внутри него. Этот «второй» часто вмешивался в его жизнь и пытался устроить ее по-своему, на иной, не привычный для Белоглазкина лад. Чаще всего Илья ему не поддавался и делал все наоборот. Случалось, жалел потом, а бывало, и нет. Вот и сейчас он все раздумывал и никак не мог принять решение. Ведь, с другой стороны, присяжный поверенный сказал, что он все равно выпустит его из острога.
– Ну, посижу немного. Ничего, и здесь жить можно. Пройдет месяц-другой. Клим Пантелеевич отыщет убийцу и вызволит меня отсюда, – рассуждал он. Но тут же вмешивался «второй», и все снова становилось с ног на голову: – Да-да, вызволит. Жди. Век будешь ждать и не дождешься. А хочешь узнать почему? Да потому что лиходей прикончит твоего чванливого адвокатишку и сбежит. А ты до конца дней своих будешь гнить на каторге. Хотя нет, ты там долго не протянешь. Такие хлюпики даже первый год не выдерживают. А разве ты не хлюпик и не простофиля? Смотри, как облапошили тебя эти скользкие тюремные змеи! Пять тысяч взял и подарил. Просто так. А что дальше? Они снова скажут, что нужны деньги, – и что? Опять будешь раздавать векселя? Ну, скопил ты на черный день не бог весть сколько. Думаешь, надолго хватит? Недели не пройдет, как начнешь нового «голубя» на волю слать. Так что беги и не раздумывай. Только все надо сделать по-умному. Допустим, притворись больным. Мол, так и так, плохо мне, колики желудочные замучили, а сам показывай на аппендицит. Кричи, что умираешь! Рисковать никто не захочет, и придет доктор, который и должен направить тебя в больницу. А по словам твоего «благодетеля» Ардашева, в остроге ее нет. Значит, тебя повезут в город. Скорее всего, как дворянина, на обычной пролетке. Вот тут не мешкай – срывайся и лети ястребом куда глаза глядят. А струсишь – конченый ты человек!
– А если опять на Черной Марии повезут? – засомневался Белоглазкин.
– Ничего страшного! – ответил «второй». – Из больницы смыться даже калека сможет. А ты вон какой здоровый! Так что не дрейфь, Илюша, не дрейфь! Ты же сам говорил, что с серебряной ложкой во рту родился! Вперед!
– Ладно, убедил. Попробую, – согласился горный инженер и закончил внутренний диалог.
На следующее утро с воли пришла весть, что деньги человек Слонимского получил. После этого сокамерники заметно оживились и всячески стремились показать свое доброе отношение к новому сидельцу: то предлагали чаю, то книгу, а то просто приглашали прогуляться. И Белоглазкин согласился – отправился поглазеть на тюремный «сквер».
Отшагав несколько десятков саженей по железным лестницам и зарешеченным переходам, он попал во двор, в котором росли две чахлые березки, покрасневшая калина, молодая рябина и уже собиравшийся сбросить хвою тамариск. На аллее стояли три скамейки. У западной стены красовались две клумбы с красными и белыми розами, а с восточной стороны виднелась третья, с синими, бордовыми и желтыми дубками. Край дорожки, выложенной кирпичами, был отсыпан речным, изузоренным граблями песком. Пахло осенью.
От искусственной, неестественной красоты на душе стало еще тоскливее, и горный инженер воротился в камеру. Он улегся на топчан, подтянул колени к животу и принялся громко стонать. Вскоре его окружили вернувшиеся с прогулки заключенные. Слонимский велел Мурашкину кликнуть коридорного надзирателя и вызвать врача. Как позже выяснилось, «тюремный Гиппократ» – доктор Крист – уже собирался домой. Это был довольно полный человек с маленькими, будто фарфоровыми ножками, с плешивой головой, носом картошкой и в круглых очках-консервах. Он присел на топчан, понажимал рукой на живот арестанта, справился, где болит, и заключил:
– Вероятно, аппендицит, возможно гнойный. Вам, милостивый государь, в госпиталь надобно. Срочно.
Белоглазкин поднял умоляющие глаза:
– Меня будут оперировать?
– Скорее всего. Собирайтесь. Я распоряжусь, чтобы вас доставили незамедлительно. Отдам свою пролетку.
Согнувшись, точно старик, и едва передвигая ноги, Илья поплелся на выход. Сердобольный Акакий Мстиславович осенил его спину крестным знамением и что-то тихо запричитал вслед.
Доктор действительно постарался, и задержки не случилось. Белоглазкин с непокрытой головой и в изрядно помятом костюме вышел за ворота губернской тюрьмы. Его сопровождал уже немолодой солдат из военного госпиталя. Он был вооружен винтовкой с примкнутым штыком. Своими седыми обвислыми усами служивый напоминал одного из персонажей известной картины «Казаки пишут письмо турецкому султану». По всему было видно, что он еще не свыкся с ролью конвоира, и оттого, вероятно, обращался к степенному арестанту уважительно, то и дело добавляя «вашество».
Впереди раскинулась шумная Петропавловская площадь. Был ясный и по-осеннему теплый день. В город опять ненадолго заглянуло бабье лето. Где-то неподалеку снова жгли листья, и едкий молочный дым постепенно завоевывал улицу. Белоглазкину вдруг стало грустно оттого, что все вокруг теперь казалось чужим, будто расположенным по другую сторону жизни. А ведь в неволе он прожил всего несколько дней.
По тротуарам сновали прохожие. У лавок торговцы нахваливали свой товар. И никому не было дела до его беды.
Откуда-то сверху раздался надрывный птичий крик. Подняв голову, арестант увидел синее небо, и тучки, выстроившиеся в ряд, точно девицы на выданье. Мимо них летела стая журавлей. Вожак уверено держал курс на юг. Неожиданно сорвалось несколько капель дождя. Птицы возмущенно заклекотали и начали снижаться, опускаясь где-то там, за Павловой дачей. Кучер поднял полог пролетки. На стекле правого керосинового фонаря экипажа еще виднелась полустертая, проведенная нетвердой рукой надпись: «13». «Надо же! – усмехнулся коммерсант. – Снова 13. Будем надеяться, что это простое совпадение». – И тут же он мысленно осведомился у своего второго «я»:
– Совпадение или нет? – Ответа не последовало. – Что молчишь, искуситель? Говори! – Но «второй» молчал, будто и не было его никогда.
– Сидайте, вашество. Ехать пора! – устало вымолвил конвоир. Дождавшись, пока Белоглазкин займет место, он тяжело плюхнулся рядом.
Коляска с каучуковыми шинами, лакированными крыльями и бархатным сиденьем покатила по мостовой. Извозчик лихо управлял умной лошадкой. Улица сменялась улицей. До Военного госпиталя оставалось каких-нибудь два квартала, а горный инженер все никак не мог решиться на побег. От напряжения сводило скулы и тряслись руки. Дальше медлить было нельзя. И неожиданно для самого себя он вдруг выпрыгнул из пролетки и побежал, прямо по улице, по дороге. И казалось ему, что и у него, как у тех журавлей, на свободе выросли крылья.
– Стой! – послышалось сзади. – Стой! Стрелять буду!
Но этот окрик уже не мог его остановить. Ноги несли беглеца навстречу ветру. О том, что он бежит прямо по дороге, Белоглазкин понял тогда, когда увидел впереди себя бричку, груженную крынками с молоком. И в тот момент, когда он ринулся к проходному двору, – раздался выстрел, потом второй… и страшной силы удар бросил его на мостовую. Падая, он увидел, как на ехавшей навстречу телеге разлетелся огромный кувшин и молочный ручеек потек по булыжникам. В груди стало горячо, точно его проткнули раскаленным шилом. Инженер перевернулся на спину. Перед глазами стояли те же барышни-тучки и старые тополя печально махали облетевшими кронами. Прямо перед собой Илья увидел плачущее лицо маленького человечка. Это был «второй». Только теперь он почему-то состарился и стал походить на конвоира, который задыхался, взмахивал руками и без конца приговаривал:
– Да как же это, вашество? Куды бег? Зачем?
– Вот и все, – одними губами прошептал арестант и, улыбнувшись, смежил веки. Он уже не слышал, как высоко в небе с надрывным клекотом над ним пронеслась журавлиная стая.








