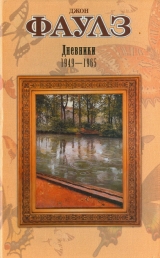
Текст книги "Дневники Фаулз"
Автор книги: Джон Роберт Фаулз
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 58 страниц)
Первая книга, которую я написал и попытался опубликовать. Рукопись я отослал Поджу, чтобы узнать его мнение. Он ответил критичным, но очень тактичным письмом, по сути, идеальным образцом рецензии, открывавшим мне глаза на мои писательские слабости и в то же время дававшим стимул к продолжению работы. Оно так контрастирует с его позднейшей реакцией на «Коллекционера» и «Аристоса», которые он отверг с порога, не проронив ни слова.
Теперь, по крайней мере последние пять лет, я явственно ощущаю перемену в наших отношениях: он все чаще разочаровывает меня, мы все дальше расходимся во мнениях (это особенно сказывается в кричащей произвольности его суждений, его пресыщенности искусством). Ключевым для меня оказался случай, когда в разговоре с Ронни Пейном и корреспондентом «Ивнинг стандард» Сэмом Уайтом я чересчур охотно ссылался на его оценки (полагая, что люди типа Ронни должны относиться к Поджу так же, как я сам) и Сэм Уайт бросил:
– Да кто это такой? Судя по всему, страшный зануда.
Тогда я рассердился, сознавая, впрочем, что в контексте беседы подобная реплика оправданна.
Окончательное разочарование пришло, когда, в мою бытность в Америке, он попытался затащить Элиз в постель; тут я осознал, что уже вовсе не являюсь его преданным адептом, хотя, разумеется, по-прежнему сильно привязан к нему.
Больше того: на протяжении нескольких лет я чувствую, что Подж завидует мне; отсюда его злоязычие, нередко маскируемое подшучиванием, и ирония, сквозящая во внезапных выхлопах неумеренных восторгов. Думаю, отчасти это объясняется его притяжением к Элиз. Она – то, что необходимо не только соблазнить, но и вывалять в грязи, а значит, в очередной раз низвести до собственного уровня. Он жаждет вселить во всех окружающих чувство вины.
Нет сомнения, что над отношениями между нами троими довлеет тень того, что мы сами домыслили, наделив реального Поджа символическими функциями отца: функциями, которых он не отверг и в то же время возненавидел.
Подж как таковой – бесконечная череда вопросов и небольшое количество ответов. Новое обстоятельство, которое мне приходится принять во внимание, – это глубокое чувство вины, которое он должен испытывать в связи с Линден и, не исключено, другими любовными связями.
Что изменило Поджа интеллектуально? Похоже, он уже ни во что всерьез не верит. Чувство вины: попытка выстроить фасад показной гражданской безупречности (участие в Движении за ядерное разоружение, статус советника в муниципальных органах управления и т. п.), за которым прячется внутреннее ощущение моральной нечистоты и бесплодности.
Что произошло между ним и Эйлин? Мне трудно поверить, что к теперешнему состоянию их привело только исчезновение взаимного сексуального притяжения, в сколь бы жестоких фор-мах оно ни выражалось. Нет, кинжал должен был еще раз повернуться в ране.
А неверность Поджа? Форма компенсации за какое-то более глубокое поражение, отнюдь не только сексуальное. В таком случае его гипертрофированная привязанность к Кэти – не что иное, как попытка подавить чувство неверности, своего рода отдушина. Отдушиной становится Кэти.
Шейла назвала его параноиком. «Ну вот, мы его простили, а он считает нас мазохистами и думает, что может топтать нас ногами». Другими словами: ему кажется, будто своим прощением они наказывают его. Мне вспомнилось, что Подж неизменно принимал сторону Нэта, хотя в последний раз и съязвил:
– Нэт всегда делает то, что скажет Шейла.
Но на протяжении многих лет его отношение к Нэту суммировалось словами «О Нэте можно говорить без конца». Очевидно, его снедают укоры совести и гнетет сознание неискупленной вины.
И еще один симптом этого сознания вины. Совсем недавно, в прошлый уик-энд, он сказал мне:
– Что проку в анализе? Он говорит лишь о прошлом. И не проясняет будущее.
Только сопоставьте это с тем, как он обрушился на психиатра, к которому обратился в прошлом году. Психиатра, который заснул, «пока я изливал ему душу». Что ж, похоже, исповедь оказалась не такой уж искренней.
6—15 октября
Наше маленькое турне на запад. 6-го мы направились в Уинчестер и остановились в новом безлико-интернациональном отеле. Такие отели кажутся мне порочными – не столь в силу их заоблачных цен, сколь в силу пронизывающей их нереальности, оторванности от обычной жизни. Должно быть, то же ощущали чувствительные римляне, тянувшие лямку в варварской Британии; что до римлян бесчувственных, то они, наверное, очень напоминали тех молодых служащих, которыми до отказа набит отель сегодня: со вкусом смакующих блага цивилизации, недоступные аборигенам.
* * *
7-го движемся по древней римской и вьючной тропе к Кингз-Сомборн[805]805
Деревушка в Гэмпшире на реке Тест, в семи милях на запад от Уинчестера.
[Закрыть], раскинувшейся на меловых холмах. Густые поросли тиса, в темно-зеленых ветвях то и дело проглядывают ягоды: очень красивые, розово-кораллового цвета, в каждой прячется косточка. Одну я попробовал: кисло-сладкая. В лесу много дроздов и зябликов, некоторые заливаются во все горло. Из зеленых кустов льется совсем июньская музыка, а чуть подальше безошибочные признаки осени – чибисы на пашне и холодный ветер.
Стоунхендж, из своего естественного предназначения превратившийся ныне в монументальный памятник старины. Как и в Греции, былую гармонию с окружением нарушают проволочные ограды, чайные заведения, пояснительные надписи и входная плата. Невзначай набрести на Стоунхендж в наши дни невозможно: он – в безвозвратном прошлом, его можно только посетить.
Старинный почтовый постоялый двор в Шафтсбери[806]806
Рыночный городок в Северном Дорсете, построенный на холме высотой 750 футов над уровнем моря, «Шестой», в котором происходит действие романов Томаса Гарди.
[Закрыть]. Поражает неподвластность маленького провинциального городка ветрам времени: улицы без фонарей, деревенский выговор – во всем этом есть что-то кровосмесительное. И в то же время в нем, таком маленьком, встречаем непривычно современную молодежь, которой – не будь локального выговора – место на улицах любой европейской страны. Стриженные под Иисуса шумливые парни в черных кожаных куртках, столь же непривлекательные девицы; рев тарахтящих мотоциклов и мотороллеров.
Не намного лучше и в самих отелях, где представители английского среднего класса шепчутся за обеденными столиками, чтобы чуть позже подняться и, усевшись в холле, тупо уставиться в телевизор. Снаружи орут неопрятные юнцы, внутри последние адепты ancien regime[807]807
Старого режима (фр.).
[Закрыть] холят и лелеют свой агонизирующий образ жизни и набившие оскомину джентльменские традиции. Ничему на протяжении наших жизненных сроков не пробить окно, разделяющее эти две Англии – Англию «джентри» и Англию «трудящихся классов».
Но сельская Англия отступать не спешит. На прилавках скобяных лавок – садовые ножницы и силки для кроликов, а чуть выедешь из города – потрясает обескураживающая пустота округи. Где можно, пытаемся ехать проселочными дорогами, а на них – на целые мили ни пешехода, ни встречной машины. Все дело, по-моему, в том, как организовано теперешнее сельское хозяйство. Никогда на фермах не было так мало работников, а те, что еще остаются, ведут арьергардные бои с наступающим городом. Но мы – последнее поколение, знающее эту старую Англию. Население 2064 года, с его тремя автомобилями на семью, автострадами и вертолетами, без остатка сметет ее с лица земли. И оно даже вообразить не сможет, какой одинокий и мирный еще у нее вид в этом году.
Дорсет. Зеленые долины и соломенного цвета низины – не столь соломенного, сколь серовато-бледного оттенка увядшей травы, кажущейся такой в пасмурную погоду. В дождь почти серой, в солнечный день – чуть ли не золотой.
Ист-Комптон. Изумительные горгульи, окружающие своды церковной башни. Дорсет «славится» горгульями, как и памятниками эпохи неолита, могильниками, курганами.
Все эти дни в Дорчестере сгораю от зависти к Гарди. Такие корни, такая богатая почва и местная история – в нее погружаешься без остатка.
10 октября
До завтрака поднялся на холм за Абботсбери, глянул сверху на простирающийся за Чезил-Бэнк Портланд-Билл: серо-синий пейзаж в неярком насыщенном свете.
Памятник Гарди на Блэк-Даун[808]808
Этой каменной статуей, воздвигнутой на холме высотой 770 футов, увековечена память не поэта и романиста Томаса Гарди, а вице-адмирала сэра Томаса Мастермана Гарди (1769–1839), в момент битвы при Трафальгаре служившего на борту корабля флота его величества «Виктория». Памятник находится в пяти милях на юго-запад от Дорчестера и в миле к северу от деревни Портшем, графство Дорсет, где будущий адмирал Гарди жил с девяти лет.
[Закрыть]. Пройдя по полям около мили, наткнулись на каменный круг на Кингстон-Рассел[809]809
Расположенный на вершине хребта круг построен около четырех тысяч лет назад и сложен из восемнадцати плит.
[Закрыть]. Оттуда открывается перспектива до самого Дартмура. Отчетливо видны Хей и Риппон-Торс.
Проезжаем Бридпорт и движемся вглубь, до Биминстера, где мне хотелось пообщаться со Стивенсом Коксом – человеком, публиковавшим книжки о Гарди[810]810
Кокс выпустил серию брошюр о разных сторонах биографии Гарди в рамках издательства «Тьюкан пресс».
[Закрыть]. Сходить за ним предложила женщина, работавшая в антикварном магазинчике. Неряшливый бородатый человечек с маниакальным блеском в голубых глазах.
– Раньше я работал в полиции, – признался он. – Я не так уж люблю Гарди, но мне не терпится доискаться до истины.
И тут-то его понесло, он затараторил с такой быстротой, что скоро не под силу стало понять, кто скрывается под бесконечными «он» и «она». Но при всех невротических симптомах его монолога меня привлекло буйное желание старика разоблачить гения. Он подтвердил, что в жизни Гарди немало грязи, намекнул на кровосмесительную связь писателя с Трифеной, этим «погребенным ребенком»[811]811
В монографии «Трифена и Томас Гарди», выпущенной издательством «Тьюкан пресс» в 1962 году, Лоис Дикон утверждает, что в свое время Гарди был помолвлен со своей двоюродной сестрой Трифенои Спаркс. В более поздней работе «Провидение и м-р Гарди» (Хатчинсон, 1966) исследовательница заявляет, что у них был внебрачный ребенок.
[Закрыть]. Первый брак Гарди сложился катастрофически «с самого начала до самого конца»; что до второго, то «Гарди был всего лишь порядочен»[812]812
Гарди женился на Эмме Гиффорд в 1874 году. Через два года после ее кончины в 1912 году он сочетался браком с Флоренс Дагдейл.
[Закрыть]. Складывается впечатление, что все уходит корнями в Трифену: таинственность и драма его книг, стихов и его жизни. Подлинная тайна заключается в том, что сделало Гарди великим писателем: отнюдь не факты биографии (они могут свидетельствовать лишь о его побуждениях) и не факты, говорящие о его гениальности.
Бродвиндзор, Уитчерч-Каноникорум, Лайм-Риджис. Лайм нам очень понравился, это, бесспорно, лучший курорт на южном побережье, с его обрывистыми берегами, старинными домами, идущим с моря светом, прекрасной бухтой: Кобб, утесы. Мы остановились еще в одном отеле в стиле Ионеско, полном постаревших Фредериков Клеггов с их женами, которые перешептываются между собой, деликатно пощипывая невкусную еду, – словом, существуют на одну четвертую отпущенного им бытия.
За завтраком одна из таких «леди» изрекла:
– Разумеется, крайне затрудни-ительно следить за ходом речи популярного проповедника.
До чего же изысканно выражаются в подобных местах.
11 октября
Забрались в Чармут[813]813
Город в двух милях к востоку от Лайм-Риджиса по побережью.
[Закрыть] – побродить по юрским отложениям в поисках окаменелостей. Нашли несколько аммонитов, но тут подошел человек с рюкзаком и продемонстрировал такой отличный их набор, да еще в сером камне, что мы устыдились наших мелких и убогих находок.
12 октября
День Гарди. Бокхэмптон[814]814
Деревушка в окрестностях Дорчестера, где родился Гарди.
[Закрыть]: угрюмый деревенский домишко под высокими березами на краю Падлтаун-Хит. Мрачное, убаюкивающее, бездонное, как чрево, место; Гарди так и не вышел из него. Потом прогулялись вдоль маленького, очень живописного ручейка до стинсфордской церкви, такой же безрадостной, темной, чревоподобной.
Минуем бухты Мортон и Галтон и через Уинфрит-Ньюбург добираемся до Лалуорта. Кружным путем доходим до Пеплерз-Пойнт и там перекусываем. Все лежащее на востоке – чуть ли не до Сваниджа, – принадлежит военному ведомству. Здесь никто не живет, никто не селится. Порочный выбор: оккупированная армией пустошь или убогость безобразных застроек. Пусть уж лучше остается как есть.
На машине доехали до унылой бухты в Киммеридже, где слои прекрасного золотистого песчаника окаймляют массу глинистых сланцев цвета сепии. На берегу аммониты и красивые улитки лимонного оттенка. У самой воды нырнул и взлетел вверх чистик. Пустынное место.
А потом – в Корф, где мы зашли в паб и впервые после Лондона поели со вкусом – главным образом потому, что пища была простой и свежей. За столом услышали звон колокола. Корф, похоже, ревностно блюдет традиции, обитая под сенью романтического замка – этаких живописных руин XVIII века (хотя в действительности они гораздо старше)[815]815
Замок Корф построен в XI в. из местного пербекского камня на месте деревянной постройки IX в.
[Закрыть], чего-то вроде ненавязчивой попытки англичан обзавестись собственной стражей на Рейне.
12 октября
Из Корфа мы проследовали в Уайк-Риджис мимо коттеджа Лоуренса Аравийского[816]816
С 1923 года вплоть до своей гибели в 1935 г. Томас Эдвард Лоуренс жил на Клаудс-Хилл, в окрестностях деревни Бовингтон.
[Закрыть], одиноко стоящего посреди танкового полигона. Странно: целый ряд английских писателей (Шоу, Лоуренс, Гарди), судя по всему, почитали за благо жить в этих безобразных домишках и унылых местах, для них это было чуть ли не потребностью.
Долго едем на север. Бакленд-Ньютон, Стеминстер-Ньютон, Джиллингем, Мер, Деверилз, Читтерн, Тилшид, Девайзес. В последнем – хороший старинный постоялый двор «Медведь», хотя спальни загажены.
Вечером заглянули на несколько минут на предвыборный митинг – встречу с кандидатом от либеральной партии. На мой (вне сомнения, слишком чуткий) слух, вся нынешняя предвыборная агитация – надувательство. В голосах выступающих – ни малейшего чувства, глотки извергают поток безжизненных штампов. Ни в ком не пробуждается огонек надежды, никто всерьез не волнуется, ибо у самих политиков нет и намека на страстность, на жизнь, на истинную убежденность в чем бы то ни было: им небезразлична только собственная карьера. Так и здесь: двое воспитанных людей поднялись с мест и отговорили свое, несколько воспитанных людей в зале похлопали в ладоши. Как марионетки марионеткам.
14 октября
Девайзес[817]817
Маленький рыночный городок на реке Кеннет в Северном Уилтшире.
[Закрыть], базарный день. Отличный маленький городок, органично разместившийся вокруг рыночной площади. Люди приезжают на денек, здороваются с теми, кого не видели неделями, может быть, месяцами. Протяжный выговор, свежие продукты, сыр и масло местного производства.
Эйвберийский каменный круг. Посуда с орнаментом в виде ножек черных дроздов. Боуширские головы. Музей довольно трогательный: первые признаки пробуждения в людях человеческого начала. Горшок с первой попыткой орнамента: под ободком – череда неровно проделанных отверстий. Круг пересекают проезжие дороги, в центре его высятся дома, и все же он масштабнее и долговечнее их, пребывая в гораздо большей гармонии с местным пейзажем, с унылыми пологими холмами и открытым небом.
Спустя четыре часа мы опять оказались в Лондоне; но Лондон кажется на четыре столетия отстоящим от того, что нам довелось увидеть. На сей раз я испытал куда меньшую любовь к нему. Смутно маячившая перед нами цель, сопряженная с поездкой в Дорсет, заключалась в поиске возможного дома, и, вернувшись, я понял, что теперь в силах отважиться на то погружение в прошлое, какое представляет собой жизнь в провинции; в моем мозгу ярче засветился язычок того пламени, в какое подмывает нырнуть – в нечто отдаленное, обращенное на юго-запад и защищенное с севера холмами, что-нибудь не более позднее, чем 1830-й, но и не более раннее, нежели 1700 год. И самое важное – нырнуть раз и навсегда, чтобы не было нужды переезжать куда-либо вплоть до гробовой доски. Возможно, именно поэтому я никак не могу прийти к окончательному решению. Я хочу, жажду идеального дома, почти сельского, большого парка, воды, моря, красивого вида из окна. Такой дом мне не по карману, хотя, думаю, придет день, когда я смогу себе его позволить; и мысль, что я мог бы купить его когда-нибудь в будущем, делает выбор дома в настоящий момент едва ли не невозможным.
Гарди «Пара синих глаз». Опознать в этой повести родной город Гарди нелегко, хотя по всем меркам это прекрасная работа в стиле ретро. Однако в ней его еще очень далекий от зрелости творческий дух воплощается в двух вещах: мощи воображения (событий, составляющих сюжет, и самой стремительности его развития – иными словами, читабельности) и ненароком роняемой живой фразе или сравнении – «Мир сегодня пахнет, как изнанка старой шляпы».
Ясно, разумеется, и то, что над Гарди довлели архетипы – образ Трифены.
15 октября
Проголосовал за лейбористов[818]818
15 октября 1964 г. состоялись всеобщие выборы. Победу с перевесом в четыре места в парламенте одержали лейбористы, положив конец тринадцатилетнему периоду правления консервативной партии.
[Закрыть].
27 октября
Чтобы остаться женщиной в обществе, где господствуют мужчины, требуется, неимоверное мастерство.
Женщины судят по отношениям, мужчины – по вещам.
Вся художественная деятельность, все виды искусства, все парадигмы изначального акта созидания в природе (само собой, не акта первотворения, но акта непрерывного созидания). Все виды искусства суть времена непреложного инфинитива: poein – творить. Поэзия – наиболее гуманное из искусств, ибо это попытка уразуметь творческий процесс.
25 октября
Отношение между героем и диалогом. Здесь три ступени мастерства. Первая: не должно быть расхождения между авторской концепцией образа героя и характеризующим этого героя диалогом; вторая – наличие гармонии (мы привычно замечаем, что у такого-то автора «хороший слух»). Третья ступень: автор наделяет, по сути, нетипичным диалогом прочно укоренившихся в повествовании героев, и именно этот не присущий им диалог (разумеется, наряду с поступками) придает им то особое своеобразие и человеческое правдоподобие, какие ассоциируются с творчеством великих писателей. Думается, здесь характерен пример Диккенса: он мастерски владеет второй ступенью, а все его незабываемые персонажи характеризуются третьей. Персонажи Джейн Остин почти без исключения относятся к третьей категории. Персонажи Троллопа (и Ч.П. Сноу) – ко второй. Теккерея – к первой: с моей точки зрения, его можно отнести к ряду мастеров романа отчасти благодаря этому единственному свойству – умению выстроить нетипичный для героя диалог и не потерять при этом доверие читателей. Из писателей XX века делать это умеют Во и Грин. Это очень существенный компонент писательского ремесла.
Искусство – величайший природный заповедник таинственного. Функция науки – уничтожение таинственного, искусства – его сохранение.
7 ноября
«Волхв». Первый полный вариант завершен.
27 ноября
Утонул в переделках.
Прием в издательстве «Кейп». Лучше прошлогоднего. На сей раз столкнулся с моей поклонницей Хестер Чапмен: лицо седовласой кокотки, подчеркнуто манерной по внешнему виду и речи, агрессивно наведенные брови, нарумяненные щеки, ярко-красная помада на губах, но добрый, умный, пронизанный юмором взгляд. Подозреваю, такое же впечатление вдали от льстивых придворных могла производить королева Елизавета Первая. Хестер очень доброжелательно отзывается о «Коллекционере».
– Знаете, дорогой мой, нам, порядком пожившим, кажется, – она явно имеет в виду свою давнюю подругу Розамунд Леман и себя, – что вы написали книгу в русле великой традиции английской литературы.
Она хочет познакомить нас с Энгусом Уилсоном.
– Такой мастерской диалог, он умел так искусно пародировать каждую из нас, но вот как только берется описывать отношения между вами и мной, между нею и мной, ничего-то у него не выходит. А знаете почему? – продолжает с фэрбенковским подмигиванием. – Потому что он гомосексуалист.
Последнее слово Хестер произносит на манер ирландско-французской фамилии: «Омм О’Сексуалист».
Тарн и Арнольд Уэскер, блюдя чистоту крови, неразлучны; Уэскер – миниатюрное птицеобразное существо с огромными черными глазищами; такие – вопрошающие и в то же время недобро-подозрительные – бывают порой у очень маленьких людей. Присаживаюсь с ним рядом и спрашиваю, как обстоят дела в его «Центре-42»[819]819
Организация, основанная Арнольдом Уэскером в 1962 году с целью сделать искусство доступным рабочему люду.
[Закрыть].
– Хочу полмиллиона, – отвечает он с обезьяньей ухмылкой.
На этом: всецело владеющей им идее и моем прохладном к ней отношении – наш разговор и заканчивается. Разумеется, просвещение пролетариата – задача из числа актуальных, но в свете общемирового голода она не кажется мне столь уж первостепенной. Мы невзлюбили друг друга с первого взгляда. Я – почувствовав в нем инстинктивную неприязнь ко всем неевреям, он – априорно приписав мне грех антисемитизма.
И вот под конец вижу Эдну О’Брайен. По-человечески, несмотря на ее ирландскую самоиронию и мое английское преувеличенное самоощущение, мы испытываем притяжение друг к другу. Она говорит уклончиво, прибегая к туманным сравнениям, замирающим голосом.
Спрашиваю:
– Вы счастливы?
– Вы меня не знаете. У вас нет права спрашивать меня об этом. – И в то же время наклоняется ко мне, словно ей хочется выплакаться, и прячет замешательство в свой неподражаемый ирландский выговор: – Нет… нет… я несчастлива.
Я замечаю, что при таком писательском даровании она никак не может считать себя несчастной.
– О, со всеми-то этими медными тазами в окошке – знаете эту лавку на Уордор-стрит? – А потом: – Что у меня есть? Только мое умение сопереживать людям.
Будто эта способность – тяжкий крест. Образ, в который она со временем перевоплотилась, – наполовину образ богини-матери, защитницы слабых и убогих, наполовину – раненной жизнью бесприютной женщины; глубоко вживаясь в обе ипостаси, она водружает тернистые, колючие изгороди на пути каждого, кому вздумается доискаться до ее истинной сути. Прощаясь, она инстинктивно жмет мне руку: мать-защитница ободряет близкого ей по духу. Краем глаза вижу, как жена Тарна с подозрением поглядывает на наши незаметно сомкнувшиеся руки: какие, мол, еще каверзы замышляют эти ненормальные кельты, эти ополчившиеся на евреев иноверцы.
А чуть раньше мы стояли с Эдной рядом, вытянув руки. Руки одинаково белые, слабые, бессильные.
– Мы покалечены, – пробормотала она.
Хестер Чапмен об Энгусе Уилсоне: «Знаете, в его «Полудне с миссис Элиот» миссис Элиот – это я. Или почти что я. Ну а сам он понятно кем себя считает. Джордж Элиот, ни больше ни меньше. Высоко замахивается, не правда ли?»
28 ноября
Мы пошли навестить Эдну в ее «зоопарке» в Путни, в доме, полном невесть откуда приблудившихся детей и взрослых, шастающих, словно цыплята, приютившиеся под теплым крылом несушки. Она, сознавая и не сознавая этого, конечно же, стопроцентная ирландка: сельская, каких видишь на каждом шагу, отзывчивая и в то же время добродушно-меланхоличная по отношению к себе самой; на это накладывается ее писательская прозорливость, способность видеть реальное сквозь английский фасад и судить по велению сердца. Подобно многим романистам, воспитанным в католичестве, она любит прибегать к притчам, анекдотам, предпочитая изъясняться не принципами, а иносказаниями. Есть в ней и что-то от любимой церкви: все ее навещают, все ей знакомы, не очень любит куда-то вылезать, предпочитая сидеть дома и принимать гостей.
Ждали Стенли Манна, но он, как с ним не раз бывало, так и не появился. Зато возникла малютка Рита Ташингем, киноактриса, с мужем. На вид ей лет шестнадцать, личико худенькое с сияющими глазами: то самое «милое дитя», которому посчастливилось ответить на запрос аудитории на самую невзыскательную и неприхотливую героиню, какая олицетворяла бы жизнерадостную простоту и скромность низших слоев общества, – иными словами, образ, с которым зрителю можно слиться, говоря сегодняшним языком, «идентифицироваться». Разумеется, в ее резковатых манерах дочери бакалейщика, продавщицы есть и нечто программное: стремление свести специфику кино и театра к обыденности, заурядности – вещам, которых тому и другому, быть может, и недостает, но которые принципиально не способны обеспечить полноценное существование экрана и сцены. Она – антиактриса, антизвезда, и это слегка пугает. Отнюдь не применительно к ее личности, но как показатель ожесточенного наступления на искусство речи, воспитание, фантазию.
После того как они ушли, мы до четырех часов ночи просидели с Эдной на кухне, пили молоко и виски. У нее румяное некрасивое лицо, которое скорее под стать зрелой женщине, нежели молоденькой девушке, неумело наведенные коричневой тушью брови; произнося слово «молодежь», она глотает последнюю согласную; возмущается зверством Тома Мэшлера, пытается понять, отчего так угрюм ее муж Эрни, горько жалуется на бесчувственность своей матери («Она твердит и пишет: «Я молюсь о том, чтобы нас обеих похоронили в одной могиле». Можете поверить? Эта женщина просто невозможна»); вспоминает, как ее старшая сестра – у нее был роман, завершившийся абортом, – «стоя у окна», приобщала Эдну, тогда еще маленькую девочку, к нелицеприятным истинам бытия: «Я бесплодна, у меня никогда не будет детей». Историю вроде этой, иллюстрирующую людскую жестокость, Эдна рассказывает с каким-то кротко порицающим неверием: так, скажем, могла бы размышлять над собственным мифом Федра.
14 декабря
Какой-то зловредный вирус, от него плывет и раскалывается голова, и я не могу писать, что лишь усиливает и без того снедающую меня депрессию. Валяюсь в постели, потею, воняю и читаю Жене.
15 декабря
Страшный сон. Темная, черная фигура мужчины, сорока или пятидесяти лет, – или целых две фигуры? Обнаруживаю себя в Бурани. Этот мужчина – в каком-то смысле смерть и в то же время – Жене, и он же – Кончис. Часть кошмара заключалась в том, что я знал: он воплощает собой бесконечные исправления и переделки в тексте «Волхва»; вот уже вторую ночь кряду грежу внутри книги. Плутаю в дебрях замкнутого в ней мира. Неотвязное ощущение конца, чувство, будто мой мозг одурманили, закутали в плотное одеяло. Во сне – никакой динамики, никакого повествовательного начала, одна лишь грузная фигура.
Все еще в постели. Не отпускающая головная боль парализует волю. Пережидаю, без толку валяюсь.
23 февраля 1965
Отдали печатать последнюю часть «Волхва». Конечно, до конца книги еще очень далеко, но появилось какое-то ощущение законченности: облегчение, а наряду с ним – все более растущее сомнение. Роман вызывает у меня то злость, то удовольствие. Но за эти последние месяцы я так сжился с ним, что способен судить о нем не лучше, нежели мать о своем младенце в момент, когда тот выныривает на свет меж ее ног. В целом процесс вынашивания меня удовлетворяет, полагаю, из меня вышла бы неплохая, не подверженная неврозу мать. Что ж, надеюсь, что дитя заживет собственной жизнью.
На прошлой неделе в городе возник Уилли с копией фильма. Отобедал с ним в «Кларидже». Он в восторге от фильма, прямо-таки влюблен в него. Наконец мне выпало на долю воочию увидеть Франковича – розоволицего, седовласого, с чуть удивленным, но абсолютно лишенным юмора блеском в глазах, по которому, как по сигнальному фонарю, опознаешь облеченных властью людей. В его глазах недвусмысленно прочитывалось: «Я буду с вами предельно корректен, но и вам лучше со мной не пререкаться».
Один из рассказов Уилли о Максе Офюльсе. «Как-то раз он снимал такой сложный план в движении, что, когда съемка подошла к концу, на площадке не смогли отыскать камеру».
Категорическое неприятие Уилли режиссеров «с выкрутасами»: тех, кто позволяет собственным оригинальным находкам или операторскому решению встать на пути от сюжета к зрителю, – в профессиональном плане самая подкупающая черта его индивидуальности, равно как и самая примечательная сторона фильма. Экранный «Коллекционер» оказался не лучше (и не намного хуже), чем я ожидал: окрашенный в гамму «Техниколора», вычищенный до блеска и начисто оторванный от каких бы то ни было точек соприкосновения с книгой; так что все, что бы я впоследствии ни говорил по его поводу, ложилось на мою совесть не слишком тяжким бременем. Его можно воспринимать не иначе, как голливудскую ленту, а в этом качестве он тянет на честно заработанную четверку. Эдна О’Брайен (она была на просмотре) в своем отзыве назвала всех киношников «бандитами, лишенными вкуса», а Элиз напрочь не приняла его. Конечно, если оценивать его достоинства по шкале, в которой наличествуют произведения Антониони, Бергмана или Трюффо, это всего лишь уродливый недоносок.
Но что для меня в тот вечер на самом деле оказалось сюрпризом, так это работа Сам Эггар. Далеко не сногсшибательная, но гораздо более удачная, чем я предполагал. Терри Стэмп говорит, ее реплики пришлось переозвучивать шесть раз. Что до него самого, то в каком-то смысле я ждал от него большего. Однако весь фильм снят так, чтобы максимально выигрышнее подать Сам – местами монтаж прямо-таки вопиет об этом.
Ненавижу, что меня затягивают обратно в кинематографический мир. Теперь мой мир – это «Волхв», на «Коллекционере» поставлен крест. Вчерашний день – прошедший день.
* * *
Писать – значит поставить себя в положение одинокого и отверженного.
Смерть Черчилля. Странный рецидив красно-бело-голубой Британии. Вся страна оплакивает собственное позорное прошлое. Интересно, переживем мы когда-нибудь травму 1941 года?
9 марта
Отослал рукопись «Волхва» Э. Шилу.
15 марта
Скверные, тревожные дни в ожидании первых отзывов о «Волхве»: видимое безветрие, а под ним набирают силу грозовые тучи. Позавчера вечером зашел Том Мэшлер и унес с собой машинописный экземпляр. Как обычно, распинался о себе, о том, какое прекрасное занятие издавать книги; странно только, что с понятным профессиональным энтузиазмом в его натуре соседствует труднообъяснимая агрессивность. Какая-то неведомая сила побуждает его унижать, умалять достоинство авторов, с которыми он вступает в контакт; Эдна О’Брайен на днях сказала буквально то же самое. Будто именно ты – тот автор, в ком он сомневается, в кого он не верит. Вместо того чтобы объединяться в единый фронт со своими подопечными, он обрекает их на одиночество.
Сегодня в обед заглянул Энтони Шил. Поскольку завтра он улетает в Штаты, рукопись читал кусками всю эту неделю.
– Роман великолепно написан и, я уверен, будет пользоваться успехом, вот только… – И тут последовал длинный список недостатков.
У меня нет ни малейших сомнений в его искренности, больше того, я уверен, что многие его замечания резонны, однако никому не приходит в голову, сколь до нелепого на данной стадии работы уязвим писатель. На данном этапе он – не что иное, как наголо остриженный агнец, и малейшее дуновение ветерка, даже теплого, заставляет его дрожать как осиновый лист. Кроме того, достаточно только погрузиться с головой в литературный мир, как все мотивы окружающих начинают вызывать подозрение. Том М. никогда не отзовется о книге благожелательно, ибо это может сказаться на деньгах, которые придется за нее выложить. Что до Э. Шила, то он пользуется прерогативой литагента покровительствовать, а значит, «направлять» и «критиковать», но ведь не суметь найти у другого дефект – в наши дни едва ли не то же, что расписаться в отсутствии собственного ума.
Тем временем мои нервы на пределе. Не могу сказать, что я утрачиваю свою глубинную веру в романиста Джона Фаулза, но я утрачиваю какую бы то ни было уверенность в писание романов как значимый род деятельности. Хочется окончательно завязать с этим видом писательства и сосредоточиться на стихах, эссе, в конце концов начать учиться живописи.
Дело отчасти в том, что меня влечет к себе и пугает – вернее, скорее пугает, нежели влечет – публичная сторона писательского существования. Позавчера мы пригласили на обед Эдну О’Б., а также Терри Стэмпа с его подружкой-манекенщицей Джин Шримптон; а вчера побывали на вечеринке у Эдны: она собирает у себя чуть ли не весь цвет лондонского художественного мира. Кингсли Эмис и Элизабет Джейн Хоуард, Мордехай Ричлер и Уэскер, кинорежиссеры Клейтон, Доннер и Десмонд Дэвис. Эдна чувствует себя как рыба в воде в этом скоплении людей с громкими именами, в этом райке знаменитостей. И в каком-то смысле я ей завидую (хотя люблю ее ничуть не меньше других литераторов, с которыми знаком). В то же время у меня вызывает живейшее недоверие это стремление пребывать в огнях рампы, находиться в русле пересечения наиболее благоприятствующих современных течений: на стыке романа и кинематографа. В этом мире каждым движет отчаянное желание покончить со своей безвестностью; все, о чем здесь говорится с оттенком тщеславия, – собственные перспективы, или, с оттенком зависти, – перспективы других. Какой издатель приобрел права на книгу такого-то, кто экранизирует такую-то книгу, кто кого в этой экранизации сыграет. Все это отнюдь не сопутствует нормальному творческому процессу, не говоря уже о нормальном образе жизни.








