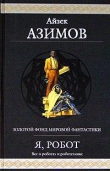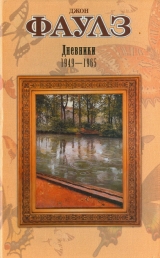
Текст книги "Дневники Фаулз"
Автор книги: Джон Роберт Фаулз
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 58 страниц)
Птичка улетела.
– Ты сказал, лягушка? – переспросил он.
Скажи я, что у лягушки бывают крылья, и он бы мне поверил. Кроме языков, его ничто не интересовало. Он мог бы рассказать на латинском языке систему Линнея, но не знал названия простейшего цветка. Для него и малиновка и лягушка были лишенными плоти метафизическими понятиями, словами из словаря.
Такие вот мимолетные погружения в его фантастический внутренний мир являются компенсацией за не столь подкупающие качества – догматизм, бестолковость и примитивную мораль.
11 февраля
Отличный денек. Погода как острая бритва – на небе ни облачка, ветер со стороны Альп – ледяной, пронизывающий мистраль. К нам он идет с Пелопоннеса над неспокойным морем разных оттенков синего цвета. Воздух кристально чист, хорошо видна снежная линия гор по другую сторону залива; по мере того как солнце движется к западу, снег все больше розовеет. Небо абсолютно ясное, веселящее душу, ветер разогнал облака; однако это самый холодный день за все время моего пребывания здесь. Когда смотришь от школы, кажется, что гора Дидима находится всего в пяти или шести милях. Вечером она затягивается изумительной фиолетово-синей дымкой, а небо, на фоне которого она вырисовывается, становится лимонно-голубого, бледно-зеленого, розоватого цвета, сохраняя по-прежнему удивительную чистоту и прозрачность. Серебристое побережье, отполированные до блеска красно-коричневые утесы, зеленые, раньше времени залитые золотистым светом деревья.
Сегодня этот прекраснейший из пейзажей показался мне почти нереальным по своему совершенству и произвел бодрящий эффект. Сам же день, по разным причинам, был полон мелких неприятностей. Кроме того, я неважно себя чувствовал. Но стоило выглянуть из окна или пройтись по саду и увидеть великолепную застывшую волну из горных вершин, которая, казалось, вот-вот обрушится, как все ничтожные мелочи жизни отступали. Я ощущал что-то вроде эстетического возбуждения, прилива умственных сил, обострения восприятия, восторга от того, что меня окружало.
Я побывал у Шаррокса, послушал новости из Англии. Как все серо, холодно, методично, неинтересно! Весь этот мир после того, как я видел из окна темно-синее море, освещенные солнцем, гнущиеся под порывами ветра оливковые деревья и неправдоподобно прекрасные горы, весь этот мир казался ничтожным, уродливым, надменно-кичливым, – такую жалкую жизнь видишь под камнем, когда его переворачиваешь. А снаружи – этот восхитительный пейзаж, и я, ящерка, греюсь на солнышке.
Вчера мы с Шарроксом отправились на длительную воскресную прогулку. Мы шли по окраине городка, который с моря кажется гораздо меньше, чем есть на самом деле. Шли по стертым камням улочек, через глубокие высохшие канавы, лужайки, мимо похожих, как близнецы, чисто побеленных, утопающих в солнце домиков со ставнями на окнах. Было ветрено. Очертания деревьев смягчились, округлились благодаря нежным бутонам – белым и розовым. Ветви лимонов свисали под тяжестью фруктов. В западной части поселения мы набрели на заросшую травой площадь; пастух сидел на траве в окружении овец, были там и бараны, а также резвящиеся ягнята. Солнце играло на цветках миндаля, подчеркивая черные цветоножки. Вокруг стояли развалившиеся дома, лежали груды камней. Очаровательная пасторальная виньетка. Потом мы вышли на еще одну запущенную площадь, там играли дети. Они смеялись, когда Ш. фотографировал. Дети окружили нас шумной толпой – их глаза горели, они трещали без умолку; у мальчишек бритые головы, такая здесь мода – на мой взгляд, отвратительная.
В городе много разрушенных домов и свободных земельных участков. Он строился без всякого плана вдоль высохших ныне русел, строился в разных направлениях. К каждому дому ведет небольшая аллея. Поражает белизна стен, из-за этого каждый цвет – голубой, желто-коричневый, зеленый, – обретает особую ценность, становясь нежнее и в то же время интенсивнее.
Восточный край острова менее дикий, не столь холмистый и более обжитой. Здесь луга, фруктовые сады, виноградники и даже маленькие поля зеленеющей пшеницы. Островок Спетсопула, еще более похожий на Остров сокровищ, чем Спеце, с лесистыми склонами и идущей по центру горной грядой, заслоняет далекий южный берег Пелопоннеса. На западе в море один или два небольших острова, а где-то у самого горизонта – острова Киклады. Мы повернули в глубь острова, направившись к вилле, где жил друг III. Она затерялась меж оливковых деревьев и кипарисов. Хозяин отсутствовал, сад же был полон синевой ирисов, здесь росли террасами цветущая герань, гвоздика, левкои и бугенвиллея. Мы отправились восвояси – мимо птичьего двора, где в тени сбились куры под присмотром великолепного, неагрессивного петуха; похожий на изваяние, он стоял неподвижно, напоминая фигуру из групп Джотто или Карпаччо.
Мы поднялись выше, к монастырю – нескольким неказистым постройкам, чье уродство скрашивала ослепительная белизна побелки и стоявшие на страже кипарисы. Отсюда открывался прекрасный вид на оливковые деревья и цветущий миндаль и дальше – на спокойные очертания бухты с пристанью для яхт и темные леса Спетсопулы. Монастырь расположен высоко над уровнем моря – здесь хорошо лежать после смерти. Солнце садилось, и мы стали спускаться по тропе в городок; рядом с тропой росли уже совсем другие ирисы – на каждом бледно-зеленом цветке по три зеленовато-черных пятнышка, – черный цвет искрился зеленым.
Неожиданно подул холодный ветер, набежавшие облака закрыли солнце. Мы шли по набережной старого порта, у берега носило из стороны в сторону шлюпки, раскачивались мачты, ветер усиливался. Поблекли яркие краски на холмах – разнообразные оттенки красного, зеленого и синего. Склоны Дидимы все еще отливали золотом, особенно ярко горевшим на фоне надвигавшихся чернильно-черных туч. Набережная, прилегающие к ней улочки выглядели уныло. Беленькие домики казались серыми. Мы зашли в деревенскую церковь – главную из шестидесяти пяти небольших церквушек и часовен на острове – и погрузились в густо пропитанную благовониями атмосферу икон, тяжелых декоративных тканей, нарядных канделябров; византийская пещера, красные огоньки лампад, зловеще светящиеся во мраке.
Потом отправились в таверну с побитым молью канюком[298]298
Таверна называлась «Ламбрис».
[Закрыть] и сидели там, предаваясь бесконечным разговорам, до полуночи. Как раз тогда таверну в буквальном смысле оккупировали киношники. Все они в какой-то степени говорили по-английски. Актер на главную роль очень красив, un trus brave cavalier[299]299
Славный парень (фр.).
[Закрыть], но в его манерах и улыбке есть что-то женственное. Ассистент оператора, полукровка, молодой и деятельный, говорит много, американский акцент. Два-три импозантных старых священника – фильм, до некоторой степени, религиозный – в рясах, как и положено служителям Православной церкви, бородатые, с благородными сократовскими лицами. Еще один молодой человек с бородкой, но совсем другого толка – в духе аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Высокий, по-богемному одетый юный художник с благородным классическим профилем и очень милой – непосредственной и застенчивой – манерой общения. Мне он показался красивее главного героя. Пришел Евангелакис, он играл, демонстрируя свое мастерство перед киногруппой. Гитарист был в ударе и импровизировал быстро и изобретательно. Режиссер-постановщик сидел за центральным столом, на его лице было напряженное, мрачное выражение, он ничем не проявлял своего интереса. Евангелакис танцевал, его грузная коренастая фигура двигалась легко – он мягко ступал и ритмично вращался; руки он выбросил для равновесия в стороны, прищелкивая пальцами в такт музыке и при каждом повороте отпуская очередную шуточку. Несколько местных рыбаков тоже пустились в пляс; трое исполняли что-то вроде танца крепко выпивших мужчин – они живописно раскачивались в замедленном «пьяном» ритме, обнимая друг друга за шеи; один из них, с краю, после каждого припева делал вид, что валится на пол, но друзья в последний момент поддерживали его. Очень спортивное представление. Потом на освободившееся пространство вышел еще один мужчина – в его танец входили прыжки через стул. Художник нарисовал карикатуру на Ш., изобразив его в виде болвана с фашистскими наклонностями, на меня – представив неопрятным арийцем, смахивающим на герцога Виндзорского, и на Евангелакиса, который сам по себе карикатурен.
Танец в Греции рождается стихийно, его исполнители часто очень искусны. Скажу больше: если мужская компания собирается в греческой таверне, где играет музыка, всегда наступает такой момент, когда необходимо встать и танцевать, – в английском пабе в такой момент рассказывают грязный анекдот. Греки тоже могут рассказать грязный анекдот, но англичане никогда не танцуют.
С нас содрали три фунта за этот вечер, – по крайней мере вдвое больше, чем следовало. Эта черта греков менее симпатична. Дорога назад в школу была вдвойне неприятна: во-первых, нас взбесил счет, и, во-вторых, ледяной ветер с гор дул нам прямо в спины.
Типичное письмо от Джинетты Пуано. Провинциальная скучноватая учтивость и правильный язык. У нее дар писать письма. Нет ни капли той живости и остроумия, какие отличают стиль Джинетты Маркайо, однако она несравненно изящнее выражает свои мысли, любовь и мечты на бумаге. Я с удовольствием ей отвечаю.
«Partout dans la ville, sur les terrasses des collines, des fontaines, nuage, flocons d’arbres en fleur»[300]300
«Повсюду – в городе, на холмах, в ручьях, облаках – как снег, летит цвет деревьев» (фр.).
[Закрыть]. От своих последних слов я сам пришел в восторг.
Она хочет, чтобы я поехал с famille thoursaise[301]301
То есть с группой студентов, в основном из Туара, с ними Дж. Ф. в предыдущем году путешествовал по Швейцарии, Тиролю и Баварии.
[Закрыть] в Испанию на следующий год. Я бы с радостью поехал – путешествие обещает быть замечательным, и она сама отличная спутница, – но я чувствую что-то вроде ответственности – теперь я придерживаюсь принципов морали только в личных отношениях – и не хочу укреплять в ней определенные надежды, хотя я и так как мог препятствовал их созреванию; «je ne veux pas voir développer une amitié désespéré, nourri de brefs rencontres et longues tristesses»[302]302
«Я не хочу, чтобы теплая дружба превратилась в безнадежную любовь, которая питается короткими встречами и долгой грустью» (фр.).
[Закрыть].
В другом месте я писал о «une énigme à la jolie taille»[303]303
Восхитительно сложенной тайне (фр.).
[Закрыть].
«Je ne veux point vous faire mal, mais non plus vous charmer au point où vous oubliez notre situation et les plusieurs distances qui nous séparent»[304]304
Я совсем не хочу сделать тебе больно, но также не хочу и обольщать до такой степени, что ты забудешь про наши обстоятельства и расстояния, нас разделяющие (фр.).
[Закрыть].
Похоже, что у «famille» планы дать концерт и, если я не смогу сам оплатить проезд до Франции, отдать выручку мне. Я тронут и несколько смущен такой заботой; честно говоря, в это трудно поверить, хотя и очень хочется.
24 февраля
Весь день гулял один. Ясный – ни облачка – сказочный день. Прошел несколько миль и никого не встретил. В центре острова необычно тихо, нет ничего, кроме местных растений. Я влезал на крутые склоны и так добрался до удаленных долин, поросших пихтами, откуда видно сверкающее лазурью море. Четко вырисовывались Пелопоннесские горы, казалось, совсем близко, несмотря на разделявшие нас десять миль залива; их снежные шапки выглядели ослепительно белыми на фоне чистого голубого неба. Атмосфера слепила чистотой и солнечным блеском; день был так прекрасен, что мне стало неспокойно, такое совершенство чуть ли не раздражало. Я перекусил, сидя на большом камне, обращенном на запад; вся срединная часть Пелопоннеса раскрылась предо мной. Залив представлялся чем-то искусственным; полоска пенистой голубой воды окружала стоявшие напротив горы. По камню ползла черепаха. Я попробовал ее покормить, но единственным ее желанием было унести поскорее отсюда ноги. Дул теплый ветер, в воздухе пахло гиацинтами, их было множество, и над ними жужжали пчелы. Ворон прокаркал над головой. Мне захотелось пить, и я с удовольствием утолил жажду апельсином. Насытившись, стянул с себя рубашку и улегся под пихтой на солнышке; овеваемый теплым ветерком, дремал, лежа на земле, слившись с ней. Солнце и обнаженная кожа сделали свое дело: во мне проснулись эротические желания. У культа солнца эротическая основа: он порожден человеком, влюбившимся в огненное светило.
Думаю, что пейзаж, открывающийся с западных высоких холмов Спеце, самый красивый в мире. Можно встать так, что, немного повернув голову, увидишь одновременно Эрмиони и Дидиму, и тогда Греция предстает обнаженной женщиной, открывающей через пейзаж все свои тайны. Это страна Одиссея, страна странствий и подвигов древних греков. Голубые моря, пихты, снежные вершины гор – все как охлажденное вино: свежее, благоухающее.
Я спускался по длинным, залитым солнцем склонам к бухте, которая даже на этом острове, где множество прекрасных заливов, выделяется своей красотой[305]305
Залив Агиа Параскеви (Святой Пятницы) – там развивается действие романа Дж. Ф. «Волхв».
[Закрыть]. Два мыса обрамляют далекий Пелопоннес; пихтовая роща растет параллельно сбегающей вниз дороге. Среди деревьев виднеются, поражая своей белизной, часовенка и вилла. Вдоль моря активно бродят, пощипывая траву, черные, низкорослые козы с колокольчиками на шеях. У часовни я увидел длинный плащ и сумку пастуха. Пустынный рай.
Домой я вернулся изрядно уставший: мне тяжело дался переход через серединную гряду. На фоне синего ионического неба Дидима пылала розовато-лиловым и пурпурным цветом, сменившимся вскоре на индиго. На расстоянии двух миль я услышал школьный звонок, звавший на урок. Раздались голоса из деревни, дети пели и танцевали.
Позже я пошел в Спеце, чтобы там встретиться и поужинать с Ш. Он зачитал отрывки из «Нью стейтсмен», в том числе из редакторской статьи с критикой королевских похорон[306]306
16 февраля 1952 г. журнал «Ныо стейтсмен» опубликовал статью под заголовком «Шанс для королевы», где говорилось, что «категорическое требование национального траура было назойливым и глупым». Там же выражалась надежда, что новый монарх «не упустит возможность изменить порядки при дворе и поддержит образ жизни, соответствующий современной жизни и надеждам народов, которыми управляет страна».
[Закрыть]. Политика и короли – как далеко все это! Мы пошли в «Ламбрис», слушали, как поет Евангелакис и другие греки, смотрели, как актеры развлекаются с четырьмя афинскими проститутками, пили пиво, потом добавили полбутылки бренди, которым нас угостил хозяин, и вернулись домой, совсем не готовые к тому, чтобы бодро встретить начало недели.
Прекрасная страна с прекрасным климатом – сегодня уже третий абсолютно безоблачный день этой волшебной весны. Безупречная природа – всего лишь тонкий слой сливок на молоке реальности. Ужасный диссонанс между красотой пейзажа и современными греками. Они слепы, живут как кроты – в подземных переходах.
Нелепое несоответствие между всеми oraisons funubres[307]307
Надгробными словами (фр.).
[Закрыть] и высокопарной хвалой в адрес покойного короля и новоиспеченной королевы. Некрофильское обсуждение до мелочей организации похорон, критика самой церемонии – критика стала такой неотъемлемой чертой современного мира, что скоро станут критиковать даже природу, – и выражение преданности. Наибольшая глупость – параллели с великой королевой Елизаветой. В то время Англия была одним племенем, сильным, но все же иерархическим; люди не возражали, что над ними есть некто высший. Теперь же мир – это улей из множества индивидуальных сот; люди не считают себя ниже других, и у них нет семейственной, национальной любви к монарху. Монархия существует только потому, что жизнь масс бесцветна и они рады любой возможности сублимироваться. Корона – тот же психологический якорь; чуть что – и благополучно возвращает нас назад.
6 марта
Спеце может стать камнем преткновения для человека, ведущего дневник. Дни убегают как вода сквозь пальцы, особенно при хорошей погоде. Все время что-то происходит, я вижусь с людьми, преподаю, играю в теннис и не делаю ничего толкового. Ни один месяц в моей жизни не пролетал так быстро, как этот февраль. Уже несколько дней идет Масленица – Апокриас[308]308
Вариант Марди грас у православных греков. Апокриас ежегодно проходит в воскресенье перед чистым понедельником, с которого начинается Великий пост.
[Закрыть]. Украшена вся школа, на стенах спален и столовой – забавные фигурки и вымпелы, повсюду красиво и чисто. Сейчас на острове полно богатых родителей и хорошеньких сестер. Погода изумительная. Нам с Шарроксом оказывала покровительство богатая супружеская пара, Гованоглоусов, они прекрасно говорят по-английски и намного образованнее остальных мам и пап из нуворишей. Приехал Сотириу, председатель опекунского совета, и совершил обход спальных комнат. Плюгавый седой старичок, слабый и дряхлый, плелся, опираясь на палку; инспектирование чуть ли не военного образца. Мальчики стояли у кроватей по стойке «смирно», пока Сотириу и его сопровождение ковыляли мимо, заглядывали в личные тумбочки и вежливо наставляли школьников. Еще один напыщенный коротышка – лет пятидесяти – шестидесяти, в рыжеватом твидовом костюме, с офицерскими усиками – исполнял при председателе роль помощника. Затем шли – директор школы, его заместитель, заведующий пансионом и длинная процессия учителей, старших учеников и родителей. Все бы хорошо, но взятый Сотириу темп похоронной процессии вызвал у самых легкомысленных из нас приступ неудержимого смеха.
Утром в воскресенье мы сидели на солнышке неподалеку от гавани, глазея на множество оживленных людей, пьющих пиво. Днем должен был состояться футбольный матч, а затем торжественная церемония в память одного из основателей. Вся школа собралась у памятника Анаргиросу. Шарканье ног, хихиканье. Одного из мальчиков послали за стулом, чтобы возложить на плечи великого человека венок. Стул поставили на нужное место. Все хорошо.
– Венок! – кричит директор. В ответ молчание. О венке забыли. Маленький, мальчик стремглав бежит за венком. Опять шарканье, смешки. Мальчуган возвращается, у него в руках большой лавровый венок. Директор стоит с венком в руках, он смущен. Он только что осознал, что выпускник школы, которому поручено возложить венок, отсутствует. Шарканье, смешки. Видно, что старшеклассники бегут не по той тропе, они заблудились. Раздаются крики. Старшеклассники, потеряв головы, бегут к месту церемонии через кусты, наступая на клумбы. Смех. Преподаватель физкультуры сердито кричит на них. Воцаряется молчание. Выпускник торопливо поправляет галстук, приглаживает волосы, ему вручают венок.
– Смир-р-рно! – кричит физкультурник.
Лица всех обращены к школе и памятнику. Греческий флаг медленно плывет вверх. Половину пути он проходит хорошо, но потом что-то в механизме флагштока заедает. Судорожные рывки, флаг немного опускается, потом резко дергается вверх. Но преодолеть помеху не удается. Все кусают губы, чтобы не рассмеяться.
Выпускник смотрит на директора, директор оглядывается; шарканье, смешки. Выпускник выступает вперед, чтобы возложить венок. Он явно не понимает, почему всех душит смех. Кладет венок у основания памятника и быстро возвращается на свое место. Кое-кто из мальчишек смеется.
Директор и старшеклассники стоят и смотрят друг на друга; директор делает знак шляпой. Старшеклассники растерянно переглядываются. Молчание становится невыносимым. Каждый ожидает, что кто-то произнесет речь.
Наступает звездный час преподавателя физкультуры.
Он свистит в свой свисток. Ученики начинают переговариваться, родители тоже зашевелились. Кризис предотвращен.
Директор говорит:
– Хорошо!
Старшеклассники склоняют головы. В душе все смеются. Физкультурник снова свистит. Ученики расходятся, смеясь и болтая. Директор останавливает маленького мальчика и заставляет его водрузить венок на плечи статуи. Старшеклассники стараются скрыть смущение.
Церемония окончена.
Только Анаргирос возвышается над этим абсурдом. Пустые глазницы его каменной головы идеалиста, человечного, проницательного, терпимого и благородного, смотрят куда-то вдаль, поверх этой нелепой толпы. Голова великого идеалиста, почти мечтателя. Его мечта очень далека от своего осуществления, но камень терпелив.
Памятник, кстати, совсем не похож на его портрет, но факты говорят, что духовный человек в нем был почти так же прекрасен, как статуя.
10 марта
Лучшим днем праздника был последний, когда мы на каике поплыли через пролив к деревушке на материке – довольно грязной – Порто-Хели. Чудесный день. Пелопоннес виден как на ладони, волны нас нежно покачивают, небо безоблачно. Мы зашли в деревенскую таверну и пообедали под рожковым деревом; ели исключительно греческую еду – праздничные белые булки, креветки, крупные, сочные оливки, больших моллюсков, лук, салат и халву на десерт; пили узо и рецину. Ш. и я сидели за столом с чьими-то родителями. Греческие танцы не прекращались, танцевали все, обнявшись за плечи, под музыку, несущуюся из граммофона, установленного у дверей. Звучал смех, лилось солнце, дул легкий ветерок. Младшие дети запускали змея; кто-то собрал большой букет темно-красных анемонов и поставил его в стакане среди тарелок на наш столик. Они простояли весь день на ветру и остались такими же свежими – больше других цветов напоминая о древних греках.
20 марта
Время летит быстро; неделю я провалялся в постели с гриппом. Больным я себя совсем не чувствую – просто нет желания снова надевать хомут, когда можно отсидеться дома. Моральная неустойчивость – вот как это называется. Слава Богу, в школе от меня не требуют ничего особенного. Могу отдавать все свое время собственным проблемам. Это место – просто находка. За ту ничтожную работу, что я здесь выполняю, получаю кучу денег и удовольствия в придачу.
Экскурсия на Спетсопулу, прелестный островок в миле к юго-востоку от Спеце. Там почти никто не живет – не остров, а жемчужина. Мы с Шарроксом отправились на долгую прогулку вдоль южной оконечности острова – по высокому крутому берегу; он постепенно разрушается – трещины доходят до самых скал. Спокойная морская зыбь и отличный вид на Пелопоннес, растянувшийся вдалеке на многие мили. Горячие Камни, сверкающее море. Мы шли по заросшей тропинке, вдоль нее росли розовые гладиолусы и ярко-желтые кустики мяты; попадались целые полянки невысоких белых лилий и очаровательного дикого лука – его еще называют трехгранной черемшой. С самого высокого места мы увидели цепь рощиц в окружении террас, нависших над морем. На этих островах, куда ни посмотришь, повсюду море, или, точнее, таласса. Я видел удода, коричное дерево, черно-белую сойку на выбеленной скале. Послышалось мощное хлопанье крыльев – рядом с утесом пролетел сокол. Эти утесы, рощи, холмы, террасы и пихты, море и небо – как рай, и все воспринимается как открытие. Каждый день приносит что-то новое – новые цветы, новые птицы. Такой пейзаж всех приведет в восторг, но пейзаж – еще не все. Птицы и цветы – это речь, движение и одежда на обнаженном безжизненном теле. Без естествознания мир – всего лишь фрагмент. Глядя на Шаррокса, я особенно это понимаю: он не знает ни птиц, ни цветов. Для него, как и для многих других, они – не имеющие смысла иероглифы.
Назад мы возвращались мимо стоявшей особняком фермы – вокруг луга, бродят пони. Вполне ирландская картина. Учителя с женами обедали на большой вилле. Все мы сидели за длинным столом, во главе с директором, по-отечески заботливым и веселым. Обед длился до обидного долго. Снаружи залитый солнцем чудо-остров, а мы торчим в столовой, что-то бесконечно жуем и обмениваемся остротами из школьного юмора. Докос, учитель музыки, желчный, лысый мужчина с землистым цветом лица, завистливый и тщеславный, выставил себя клоуном – залез на стул и изобразил однорукого дирижера: высунув из брюк палец, как будто это пенис, он, на то время пока сморкался, вкладывал в него дирижерскую палочку. Нас с Шарроксом эта шутка поразила: на обеде присутствовали жены учителей – пять или шесть, – и важная родительская чета – пожилая дама и ее муж. Но все смеялись, хотя некоторые при этом заметно нервничали, а одна дама – к ее чести – не побоялась выразить на лице отвращение. То, что в таком обществе возможна подобная выходка, многое говорит о греческом коллективе. Позже тот же Докос рассказывая непристойные истории, перешел все границы – в Англии такое было бы невозможно за обедом даже в самой современной компании. Не gaulois[309]309
Игривые (фр.).
[Закрыть], а именно непристойные. Не выношу гремучую смесь азиатского и буржуазного в Греции – вроде нечестивой свадьбы между арабом и швейцаркой. Египтиадис пропел свой обычный репертуар и подвергся безжалостному вышучиванию. Глаза его насмешливо улыбались, он как будто думал: «Как же я вас всех ненавижу!» Он привлекает к себе внимание, и потому Докос и Гиппо злобно и ядовито его высмеивают.
Можно сказать, это был день, когда Греция и современные греки вступили в решительное противоречие.
5 апреля
Карагеоргис, 4 «А». Стройный, похожий на фавна ребенок с копной черных волос, раскосыми глазами и небольшим красивым ртом. Кажется, что он постоянно где-то витает: то смотрит куда-то вбок, в какую-то таинственную даль, то становится бешеным и неуправляемым – словом, живет только в двух темпах – замедленном и убыстренном. Остро реагирует на ерунду: может от пустяка-расплыться в прелестной непосредственной улыбке, а мелкая неудача вызывает в нем приступ ярости. Сегодня, к примеру, не смог ответить на некоторые вопросы теста. Какое-то время он сидел с отрешенным и мрачным видом, потом вдруг встал, подошел к моему столу, швырнул работу и пошел на свое место. Я крикнул, чтобы он вернулся. Каждый мускул его тела был напряжен, вид оскорбленный, в глазах – мука. Внезапно я понял, что он плачет. Что-то садистское проснулось во мне, я повел себя жестко. Дело того не стоило. По словам мальчика, у него не было времени повторить материал. Я приказал ему выйти из класса. Он молча стоял, охваченный юным гневом, почти не в силах сдвинуться с места. Я разорвал его работу и сказал, что он на две недели лишается бассейна. Мальчик бросился к парте, уронил голову на руки, лицом вниз, и зарыдал. Остальные ученики продолжали трудиться. Прошло десять минут. Я написал на доске еще несколько вопросов. Карагеоргис поднял глаза – они были все еще красные от слез, но вдруг засветились радостью. Он подошел ко мне и спросил, нельзя ли ему попробовать еще раз. Подобрал разорванную работу, переписал предыдущие ответы и задумался над новыми вопросами. К концу урока он уже улыбался и объяснял то, что я говорил, другим школьникам. На перемене, играя с ребятами, он вдруг на секунду поднял глаза, улыбнулся мне счастливо и взволнованно, дружески помахал рукой и вернулся к перетягиванию каната. Воплощенный дух апреля тринадцати лет от роду; нужно ли говорить, что я его не наказал.
Сейчас, в конце семестра, я все больше осознаю дремлющее во мне гомосексуальное начало. Мне нравится проводить время с некоторыми учениками, смотреть на них, говорить с ними. Это меня не тревожит: некоторым мальчикам на исходе отрочества неопределенность половой принадлежности придает женственные черты, и они очень красивы. Озорные, полные жизни и щенячьей невинности, они как весенние песни птиц или фруктовые деревья в цвету. Иногда мне кажется, что я купаюсь в реке нежности, но вода поднимается и есть опасность наводнения. Я знаю, что никогда не потеряю головы и не позволю себе соблазнить кого-то из них. Так уж я устроен: могу признаться в потаенных мыслях и даже потешить себя фантазиями, не видя в этом зла, но дальше не пойду.
Фарс в учительской. Сегодня мы с Гиппо начали переводить на греческий язык список действующих лиц «Сна в летнюю ночь» – для драматической программы летнего семестра. Все шло хорошо до тех пор, пока не пришел черед персонажа под названием Bottom[310]310
Зад, задница (англ.). На русский язык Т. Щепкина-Куперник перевела это прозвище как «Основа».
[Закрыть]. Я объяснил, что здесь имеется в виду скорее определенная анатомическая часть, чем что-либо другое. Гиппо сказал, что единственное греческое слово с таким значением звучит очень грубо.
– А что вы говорите, когда нужно назвать именно это место? – спросил я.
– Употребляем эвфемизм. Говорим «нижняя часть спины» или «верхняя часть бедра». Вот так.
Я рассмеялся. Тут в учительскую вошел преподаватель богословия. Гиппо попросил его совета. Тимайгенис пришел в ярость.
Он что-то гневно проговорил, пулей вылетел из комнаты и почти сразу же вернулся с директором – он говорил без остановки и указывал на меня, будто я прокаженный. Завязался спор, который длился почти час. Переводить или не переводить это прозвище? Подошел заместитель директора, все высказали свои точки зрения, присоединились и другие учителя. Все единогласно (за исключением меня) решили, что Bottom – грязное и неприличное слово.
– По-гречески это звучит ужасно, – сказал Гиппо. – Просто ужасно.
Но не только Bottom оказалось непереводимо, все остальные прозвища афинских пастухов тоже вызвали глубокое сомнение. Нельзя забывать про родителей; господину Вракасу вряд ли понравится, если его сына будут называть Рылом. В конце концов решили не переводить скандальные имена и оставить их на английском.
Было видно, что директора этот случай чрезвычайно взволновал. В заключение он сказал:
– Нельзя, чтобы пьеса показалась забавной.
Он даже не представлял, какой ужасный сюрприз его ждет.
После этой в высшей степени пуританской (и типичной) бури в стакане воды из-за «гнусного» прозвища Bottom, в тот же самый день в школе произошло совершенно парадоксальное событие. Шестой класс устроил вечер в честь окончания семестра, на который пригласили десять – двенадцать преподавателей (в том числе и Старика). Мальчики украсили комнату и соорудили небольшой помост для оркестра из четырех учеников. С одобрения улыбающегося директора начались танцы. Рослые мальчики выбрали партнеров покрасивее; они танцевали самбу, танго, фокстрот, прижимаясь друг к другу явно с удовольствием. Некоторые просто весело проводили время, другие же, как мне показалось, испытывали при этом не вполне невинные эмоции. Дружеские чувства на практике вдруг оказались любовными. Для меня все это выглядело довольно безвкусным, а после утренней пуританской сцены еще и забавным.
В дополнение к характеристикам современных греков – питьевая вода и канализационные трубы проходят у них рядом; их мозги то подвергаются мощной дезинфекции, то просто смердят, и все это невероятно инфантильно. В каждом греке уживаются два совершенно разных человека.
11 апреля
Семестр близится к концу. Если не произойдет ничего чрезвычайного, я еще здесь поработаю. Учителя мне не нравятся, как и школьная система, и публичный характер (Тартюф) современного грека, но это уравновешивается восхищением красотой местной природы, пустынностью острова – можно бродить часами и не встретить ни одной живой души, только растения и насекомые, даже птиц почти нет, – восхитительным климатом и привязанностью к некоторым ученикам. Мальчики рано развиваются, в них есть цинизм, делающий их слегка faisandé[311]311
С гнильцой (фр.).
[Закрыть]; даже в самых невинных есть что-то порочное. Здесь не встретишь розовощекого английского мальчугана с личиком херувима; тут не обошлось без дьявола – в облике юных греков есть нечто от фавна, и еще они более практичны.
Юноша, сидящий слева от меня за столом, Гларос (в переводе «чайка» – подходящее для него имя: он очень красив, пернатый тезка уступает ему), интересует меня больше остальных. Он жил в Америке и служит мне переводчиком; иногда мы просто болтаем друг с другом. Высокий, стройный, очень смуглый, с явной примесью восточной крови: я вижу в его лице черты арабской красавицы. Выразительные темные глаза; нежные пухлые алые губы; смуглая, теплого оттенка кожа; невероятно длинные загнутые ресницы; от него веет обольстительной атмосферой «Тысячи и одной ночи». Он постоянно говорит о девушках; открыто обсуждает со мной других учителей и критикует школу. Однажды даже сказал мне, что не верит в православие. Не по годам развитый мальчик, эгоцентричный, темпераментный, ему совсем не место в таком неприветливом и ограниченном заведении, как эта школа.