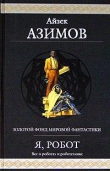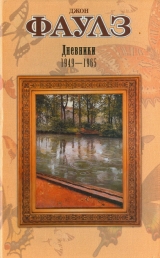
Текст книги "Дневники Фаулз"
Автор книги: Джон Роберт Фаулз
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 58 страниц)
Мы приближались к испанскому Марокко, вдали угадывалась извилистая синевато-серая линия гор, тут и там белели деревушки. Дул прохладный солоноватый ветер с Атлантики. Уже вырисовывался Танжер; высокими жилищными массивами он напоминал американские города; заходящее солнце окрашивало его в мягкие роскошные краски. Пристань, арабы, пестрая смесь языков. Тучный человек в красной феске и синем плаще. Кто-то распорядился, чтобы нас отвезли в кемпинг за городом. Был вечер, перед нами сиял город лимузинов и неоновых вывесок. Лагерь разбили посреди песчаной дюны; вокруг ничего – только несколько домиков и магазинов у ближайшей дороги. У робкого любезного араба, хозяина одного из магазинов, мы купили кое-какой еды и устроили пикник в дюнах. После Испании вечер показался холодным; высыпало много звезд. М. не была с нами, но Н. сидела одна; я почувствовал к ней новый интерес. Жуто остался в гостинице, в Танжере. Мы с Н. спустились на берег моря, где уже находился Поль. Втроем мы долго гуляли по ровному пляжу, вдали разноцветными огнями светилась бухта Танжера. Мне хотелось остаться с девушкой наедине, и я совершенно игнорировал Поля. Она шла между нами, мы обменивались разными банальностями. Прежде чем лечь спать, мы совершили поступок, который не мог не повлечь за собой неприятности, – стянули из палатки Лаффона его шляпу. Странное желание досадить ему и разозлить. Потом мы, все трое, заснули на песке. Так близко и одновременно так далеко.
День тринадцатый. Экскурсия по арабскому кварталу Танжера. В западном районе много дорогих магазинов, хромированного и зеркального стекла, офисов, жилых кварталов, роскошных отелей, на улицах ошиваются проститутки всех национальностей и разной сексуальной ориентации. Бедные и богатые, ослы и лимузины. Арабский квартал интереснее – запутанные, труднодоступные улочки, – мир, укрытый за ставнями. Женщины в белых одеяниях сидят на ступеньках, вдоль шатких стен. Оживленная толкотня на базаре. Везде я чувствовал независимый настрой, легкое презрение к туристам. За пределами своего квартала, в европейском окружении арабы держатся по-другому, но у себя или за границей города они полностью лишены чувства неполноценности. Несправедливо ждать от них приниженности, но ее ждут, это британское наследие.
Все утро ни на минуту не выпускал из внимания М., постоянно ходил за ней, отставал, если она оказывалась позади, тайно следил, чувствовал себя несчастным, если ее не было поблизости и я не мог ее видеть и слышать. С этого времени моя жизнь стала не столько отдыхом в Испании, сколько существованием в присутствии Моник или страданием без нее.
Берегом моря вернулись в гостиницу на обед. Я сел рядом с Н., чем явно ее разочаровал. Она все время поглядывала на Жуто, который сидел за другим столиком. После обеда ел мороженое в обществе М., Н., Женевьевы и Жуто. Была некоторая неловкость: я почти в открытую оказывал предпочтение М. Она была очень серьезна и не расположена к веселью. Я тоже чувствовал себя неловко, смущался. Мы присоединились к тем, кто хотел ехать к горе Танжер, неподалеку от города. Н. решила остаться. Так как Жуто еще раньше сказал, что не едет, было ясно, что Н. полностью для меня потеряна. От этого стало грустно и горько, такое настроение усугублялось тем, что к горе я ехал в такси один. Каждая машина вмещает шесть человек, и так сложилось, что именно я оказался лишним. Случайность, но мне показалось, что она отражает мое положение в группе – обособленное; меня не очень-то жалуют, скорее просто терпят. У меня такой характер, что, если я путешествую с друзьями или в группе, личные отношения поглощают меня целиком. Поэтому я предпочитаю путешествовать один, чтобы не увязнуть в эмоциях. Я мог бы бросить группу и уехать, но тогда выглядел бы смешным, продемонстрировав внутреннюю ранимость. Однако, находясь в Танжере, я все время ощущал, что у меня не складываются отношения с остальными членами группы. Я ревновал Н. к Жуто. С Моник чувствовал себя Калибаном рядом с Мирандой. Всякий раз, когда она оказывалась рядом, я считал своим долгом паясничать, озорничать, выкидывать разные штуки – то есть делать то, чего терпеть не мог и делал только ради Моник.
Грустный день; только один приятный момент – мы с Моник какое-то время шли рядом в Танжере. Шофер Андре, грубоватый и обычно ни на кого не обращающий внимания, сказал о ней:
– Elle n’est pas mal, la petite[372]372
А малышка недурна (фр.).
[Закрыть].
Для него эта фраза равносильна сборнику стихов. При этом он выглядел слегка удивленным; и я его понимал: настоящую красоту, как и другие подлинные вещи, понимаешь не сразу. Про себя я называл Моник chignonette[373]373
Шиньонетка – та, что носит шиньон, пучок (фр.).
[Закрыть]. Мягкие, плавные движения, классическая походка – держится прямо и не теряет грации; пучок, плывущий за ней и покачивающийся при ходьбе, – все это создает ее неповторимый, уникальный облик. Моник.
И все же этот тринадцатый день полон печали, путешествие кажется пресным, а мои горести – как и оказалось впоследствии – бесконечными.
Четырнадцатый день. Подъем на рассвете, идем по берегу моря в Танжер, торопимся на пароход. Я рад отъезду: значит, группа проведет день вместе. Альфред гонялся за мной по песку, дико вопил, хватался за мой оранжевый спальный мешок. Мы держались неподалеку от Моник, наша беготня проходила на ее глазах. Возможно, мне хотелось казаться юным, выбросить из жизни разделяющие нас шесть или семь лет.
Назад, в Альхесирас. На пароходе я хотел сидеть рядом с ней, даже проявил изрядную ловкость, чтобы занять место напротив. Моник писала письмо, потом подняла глаза, увидела меня и отодвинулась. Неужели причина во мне? В этот момент я решил, что меня избегают, и, чтобы как-то отвлечься, написал письмо домой. Думаю, на нее нашло одно из ее настроений, когда она становилась беспокойной, переменчивой. Все были подавлены: мы возвращались на север, то было началом конца.
Альхесирас – сущее пекло; такова вся южная Испания в середине августа. Автобус повез нас вдоль побережья в сторону Малаги; вспотевшие, измученные, мы мечтали искупаться, но Ричард, пуританин по складу характера, настаивал на соблюдении «расписания».
Заночевали у моря в Торремолиносе. Чувство облегчения от перерыва в движении. Теплое море, снова Средиземное, крутой спуск к пляжу. Вдоль прибрежной полосы рассеяны бамбуковые хижины, это придает пейзажу почти полинезийский вид.
У Моник в автобусе сменилось настроение, теперь она весела и игрива; я поддразниваю ее, она отвечает тем же. Притворяется сердитой, морщит носик и сверкает глазками; потом быстрым движением, согнувшись, безуспешно хочет толкнуть меня – сцена получается прекомическая. Ей самой смешно, хотя она и пытается это скрыть, – выдает улыбка, вступающая в противоречие с жалобным и хныкающим голосом:
– Je ne vous parle plus. Vous êtes dégoûtant[374]374
Я с тобой больше не разговариваю. Ты противный (фр.).
[Закрыть].
Губы гневно кривятся, «больше» она подчеркивает голосом, – он становится пронзительным и будто срывается от возмущения, но в глазах пляшут чертики. Я дразню ее, говорю, что она специально встала у автобуса так, чтобы видеть, как мужчины переодеваются. Встречные обвинения, шутливые удары, нескромные замечания. Зову ее бедуинкой, чем вызываю гнев.
Пятнадцатый день. Встал рано, чтобы поплавать. Потом в город – завтракать. Бренди, содовая вода и килограмм мускатного винограда. Должен съесть весь килограмм – незаменимый фрукт в жару, противоядие от пыли.
Едем в Малагу, она в нескольких милях. Суббота, начало летней фиесты, город полон туристов. По сравнению с Севильей или Кордовой Малага не оставила у меня какого-то особого впечатления. Широкий тенистый бульвар ведет к Плаца де Торос, небольшой главной площади, за которой как раз и находится заполненный людьми, ничем не примечательный квартал. Нам хотелось посмотреть бой быков, но билеты для «молодежи» слишком дорогие. К моему сожалению, Моник – среди них. Это означало, что вторую половину дня и еще один вечер я проведу без нее.
Мы маялись в ожидании билетов, и тут l’affaire[375]375
Дело (фр.).
[Закрыть] Лаффона внезапно возродилось к жизни. Наконец до него дошло, что его шляпу стащил не танжерский вор, а кто-то из нас. Он начал стенать и жаловаться на плохое настроение, на отсутствие у нас чувства товарищества и ныл до тех пор, пока кто-то не достал шляпу, жалкое мятое подобие прежней вещи, и не кинул ему. Но это только подлило масла в огонь. К сожалению, во всем, что он говорил, было достаточно правды, и вообще шутка затянулась – можно сказать, стухла. Он все время повторял:
– C’est hideux[376]376
Это безобразие (фр.).
[Закрыть].
Потом эта фраза часто повторялась во время поездки. Когда я сказал ему, что он поднимает шум из-за пустяка, он заорал:
– Может, у вас в Англии принято так поступать, а у нас нет.
При этих словах я испытал одновременно чувство вины и вспышку гнева. Он обвинял меня в том, что я похитил шляпу – до некоторой степени обвинял справедливо, – но зачем-то приплел к этому национальный вопрос. Я подался вперед, резко натянул шляпу (он уже успел ее надеть) ему на глаза и сердито сказал:
– Поосторожнее в выражениях. Я не брал твоей шляпы. Мне известно, кто это сделал, но это был не я, так что заткнись.
Этот случай не давал мне покоя: ведь я знал, что Лаффон прав. Н. тоже прекрасно знала, что я виноват. Хотя впоследствии все говорили, что он повел себя неправильно, но, думаю, многие втайне были на стороне Лаффона. И применение силы им тоже не понравилось. Я сразу же обменялся с ним рукопожатием, но Лаффон будет ненавидеть меня до конца своих дней. Хотя проявлять свою ненависть глупо с его стороны – не по причине нарушения христианских заповедей, а просто из-за дипломатических соображений. Если я когда-нибудь прославлюсь, уверен, он станет всем и каждому рассказывать, как мы дружили в юности, пока сам в это не поверит.
В гараже, где стоял наш автобус, мы познакомились с испанцем, представителем парфюмерной фирмы, он прекрасно говорил по-английски; от этого вежливого, приветливого человека невозможно было отделаться. Он пригласил нас в ресторан. Я шел с ним позади Моник, мы все время говорили на английском. На мгновение она оглянулась и посмотрела на меня, и я впервые почувствовал, что она восхищается мною.
– Здорово, правда? – сказал я сухо. – Говорю как на родном языке.
Слегка озадаченная, она наградила меня робкой улыбкой малолетки. Я пытался вытянуть из испанца какую-нибудь информацию о франкистском режиме, но он сказал, что все идет как надо. Похоже, он говорил так не из-за страха, а просто ему наплевать на политику. Испанец привел нас в винный магазинчик, где продавали изумительную малагу, вино коричневого цвета, с нежным букетом и экзотическим привкусом абрикоса. Обед в маленьком ресторанчике; я сидел рядом с Моник – место, которое трудно сохранить. Предпочитаю сидеть напротив, откуда могу постоянно смотреть на нее. Сидя рядом, я считаю своим долгом ее развлекать, а это нелегко. Мне никогда не удается говорить с ней по французски так, чтобы она хорошо меня понимала. Другие понимают, но не она. Моник морщит лоб и задумчиво произносит:
– Je ne comprends jamais ce que vous dotes[377]377
Никогда не понимаю, что ты хочешь сказать (фр.).
[Закрыть].
Поэтому я нервничаю всякий раз, когда открываю рот, чтобы поговорить с ней. Решив, что понять меня невозможно, она теперь и не пытается. Я стал говорить медленнее – так она лучше схватывает смысл. Но во время обеда она, похоже, специально делала вид, что ничего не может понять. Я чувствовал себя дураком. На противоположной стене, ближе к потолку, висело зеркало с таким наклоном, что можно было видеть столики. Моник не сводила с него глаз и улыбалась. Иногда мне, иногда другим. Я же со своей близорукостью не мог понять, кому предназначалась та или иная улыбка. Просто видел, что она улыбается, и улыбался в ответ. И пару раз слишком поздно понял, что ее улыбка мне не предназначалась. В один момент я заметил, что на меня смотрит Тити, смотрит сухо и бесстрастно, словно хочет понять, чему я улыбаюсь. Посреди обеда вошел один из опоздавших, и Моник тут же вскочила, уступая ему место. В этом проявилось не только ее великодушие (она готова в любой момент помочь кому угодно), но и неустойчивость настроения, потребность в перемене. В автобусе она всегда первая предлагает место тому, кто стоит, первая приходит на помощь; у нее повышенное чувство ответственности, материнское.
Мы взяли фиакр до Плаца де Торос. Толпы людей, оживление – все сосредоточилось вокруг высоких стен Колизея. Пробудились римские корни. Мы поднялись по ступеням, чувствуя себя актерами, ждущими за кулисами своего выхода. На втором ярусе остановились и огляделись. Солнце нещадно палило, вокруг множество возбужденных людей. Хотя мы пришли на час раньше, свободных мест, похоже, не было. Но мы все-таки пробились к поручням и там стояли, тесно прижавшись друг к другу, под несмолкаемый рев голосов. На ум приходил старый елизаветинский театр вроде «Глобуса». Окружавшие нас испанцы прекрасно смотрелись бы в партере тюдоровских времен – лучше англичан. Места в тени тоже постепенно заполнялись; черные и белые мантильи, темные очки, богатые наряды – в украшенной Цветами и флажками президентской ложе, символе баснословной роскоши. Мы же поджаривались на солнце и смотрели, как с грузовика разбрызгивают воду на песок, отчего он из светлого стал коричневато-желтым. Наконец пробил час, послышался рев, участники действа медленно прошествовали по залитой солнцем арене и встали в тенистом укрытии ложи.
Тишина, открываются ворота, арена пуста; напряженная пауза, шепот, крик, и тут жители Малаги видят, как на арену стремительно и агрессивно выбегает черный бык.
Бой быков всегда возбуждает меня – зрелищность, красота, символика происходящего перевешивают жалость к животному. В момент кульминации не садизм пробуждает в зрителях дикие, необузданные чувства, а универсальный поединок со смертью. Мало кто приходит сюда с желанием увидеть, как растерзают или поднимут на рога тореро; это игра, риск, который от лица всего человечества берет на себя один человек, – битва с судьбой. Когда погибает бык, человечество ликует. Ни в одном спорте нет такой ясной цели, нигде игра так не соответствует реальности.
Это примитивное, даже варварское развлечение, но я одобряю его: ведь ничего подобного нет в жизни зажатого современного человека – он весь во власти разума, психологии, в нем нет ничего животного, он всего лишь призрак того, кем когда-то был. Глоток спиртного по праздникам – и все. Последний бой был превосходный, особенно по сравнению с другими, весьма посредственными. Ордоньес, высокий, стройный молодой человек, – его уже наградили бурными аплодисментами за первого быка – явно решил стать героем дня. На этот раз бык достался горячий, готовый драться. Ордоньес прекрасно провел серию вероник – каждый маневр с плащом он выполнял превосходно; бык топтался, водил рогами, направляя их на стройную юркую человеческую фигуру. Матадор сделал пару стремительных оборотов, бык, словно загипнотизированный плащом, даже не пытался на него напасть. При каждом повороте зрители непроизвольно задерживали дыхание, напряжение росло; наконец Ордоньес сделал заключительный эффектный маневр и отошел под гром аплодисментов, влача за собой плащ. Но успех вскружил ему голову – находясь на вершине триумфа, он захотел большего и пошел на смертельный риск. Великолепное зрелище внезапно обернулось кошмаром; только что матадор стоял, дразня быка плащом, а через мгновение уже взмыл в воздух, подкинутый рогом, тяжело рухнул на землю – плащ отлетел в сторону, – и бык придавил его головой. Раздался дружный, полный ужаса крик, потом воцарилась мертвая тишина, все вскочили на ноги. Матадоры бросились к товарищу. Бык потерял интерес к упавшему человеку и отошел.
Ордоньес лежит неподвижно, потом шевелится. Голову от земли не отрывает. Кто-то пытается его приподнять. Ордоньес садится, сердито отталкивает помощников, пытается встать, падает на одно колено. С внутренней стороны бедра глубокий разрез. Теперь все матадоры помогают ему, он с трудом передвигает ноги. Его ведут к барьеру. Он ругается, отказывается уходить, требует, чтобы принесли плащ и шпагу, – он нанесет быку смертельный удар. Его требование не хотят выполнять. Он рыдает от боли, гнева и обиды, его лицо искажено судорогой. Однако сейчас его власть над людьми так велика, что в конце концов ему приносят и плащ и шпагу. Он берет их, отшвыривает помощников и, пошатываясь, направляется к быку. Остальные матадоры идут следом, пытаются его увести. Ордоньес говорит им что-то резкое, жестикулирует, стоит на месте, пока все не отходят, оставив его один на один с быком. Бык приближается, потом решительно устремляется вперед. Три безукоризненных оборота матадор выполняет четко, только слегка прихрамывает, когда увертывается от устремленных на него рогов. Бык останавливается в недоумении. Ордоньес приближается, трясет плащом. Бык не двигается, он почти в изумлении. Ордоньес опускает плащ, останавливается в шести футах от крупной головы. Неожиданно откидывает плащ, поворачивается к быку спиной, опускается на колени, устремляет взор на президентскую ложу и простирает к ней руки, гордо запрокинув голову.
Незабываемый момент: от безмолвного восхищения у меня по спине побежали мурашки, то же испытали и остальные зрители; наши чувства мы выразили в крике – не столько громком, сколько восторженном. Через двадцать секунд, когда он поднялся с колен, бык все еще стоял, словно его громом поразило; обрушился шквал аплодисментов, в воздух полетели шляпы, все вокруг бурлило.
Ордоньес неспешно готовился к кульминационному моменту – нацелился, с трудом согнув колено, и нанес удар; бык дернулся, так что шпага на мгновение застряла в холке, но тут же отскочила, когда животное затрусило в противоположный конец арены. Ордоньес быстро, несмотря на хромоту, двинулся за быком, осыпая проклятиями других матадоров, которые в очередной раз пытались отговорить его от опасной затеи. Я видел, как при каждом шаге лицо его искажается от боли. Но он ни разу не взглянул на свою рану и не думал о ней. Ордоньес предпринял вторую попытку, неспешно, неумолимо нацеливаясь шпагой, – казалось, сама смерть не помешает ему убить этого быка. Потом стремительно бросился вперед – прямо на рога – и точным движением вонзил шпагу Несколько секунд – и бык свалился замертво.
В честь храброго матадора разразилась бешеная овация, в воздух полетели тысячи шляп, платков, сигарет – все пошло в дело. Только сейчас, месяц спустя, я понимаю: человек всего лишь убил животное. Тогда же его действия казались величайшим проявлением мужества, такого я еще никогда не видел. Но ведь человек рисковал жизнью всего лишь ради обычного зрелища – артисты на трапеции делают то же самое. Тот день, похоже, был самым жарким за многие годы. «Que calor! Que calor!» Все повторяли: «Que calor!»[378]378
Какая жара! (фр.)
[Закрыть] Мы неспешно шли по тенистым боковым улочкам в надежде найти ресторан, где могли бы поесть. Наконец мы нашли, что искали, но было так жарко, что не было сил есть. Большинство из нас устроилось ближе к выходу, все сидели безмолвные, измученные. Я дважды выходил пить пиво. Но сколько ни пьешь, пройдет десять минут, и снова мучает жажда. Там была и Моник, она пришла с Клодом, и я равнодушно отметил, что в их отношениях появилось нечто интимное. Говорящий по-английски испанец тоже пил пиво; я был настолько слаб, что даже не вступил с ним в разговор. Я подарил Моник свою бумажную шляпу от солнца и прибавил:
– Pas mal, hein, pour deux pesetes[379]379
Недурна, если учесть, что цена ей две песеты (фр.).
[Закрыть], – тем самым подчеркивая незначительность подарка.
Моник рассмеялась, примерила шляпу, скорчила гримаску, а через пять минут, когда пошла есть, я обнаружил свой подарок за стулом, он валялся там скомканный. Обед затянулся, я устал от него и отправился, не дожидаясь остальных, с Полем и англоговорящим испанцем на ярмарку. Мы прошли мимо семейства, расположившегося за гаражом, – видимо, его владельцев; в нарядных одеждах они вышли подышать воздухом и хлопали в ладоши, отбивая ритм двум девчушкам, ловко и изящно танцующим в андалузских платьях; их внешняя непохожесть, быстрые ножки, развевавшиеся белые, в красный горошек, длинные платья – все дышало гармонией здесь, на узком тротуаре под уличным фонарем.
Ярмарка была очень внушительная, множество огней, великолепная иллюминация, сотни ларьков, балаганов, танцплощадок, гонки с призраком, аллеи любви и все прочее. Какофония звуков легкой музыки, танго, самбы, пасодобля; невероятная толчея, позвякивание фиакров, медленно прокладывавших путь через толпу. Нет ни темноты, ни звезд. Как отличается эта ярмарка от маленькой ярмарки в Кордове! Я поискал взглядом остальных, но огромное пространство их поглотило. Поль, испанец и я стреляли в тире, метали кольца. Я выиграл дешевенькую статуэтку Мадонны. Можно было взять и другой приз, но я выбрал Марию, чтобы подарить Моник. Почти сразу я стал придумывать, как бы обыграть подношение, репетировал, оттачивал смешные фразы. Испанец ушел, оставив нас вдвоем. Мы с Полем пустились в обратный путь по территории ярмарки; я, печальный, ушедший в себя, скучал без остальных. К месту встречи на главной площади мы уже бежали. У автобуса стояла одна Моник. Я произнес заготовленную речь и вручил статуэтку. Моник была в игривом настроении, много смеялась. В автобусе сидела рядом с Клодом. Он обнял ее за плечи. К счастью, на коленях у него сидела Женевьева. Он изо всех сил старался демонстрировать любовь к каждой из них. Женевьеве, похоже, это нравилось, Моник – нет, хотя она не выказывала раздражения, когда он прикасался к ней. Он брал их руки в свои, прижимался бедрами, локтями, обнимал за плечи. Хотя это были всего лишь проявления дружеских чувств, я чувствовал раздражение. Зачем обесценивать любовь?
Мы разбили лагерь в нескольких милях от Малаги. На полпути в горы. Я положил спальный мешок под оливу, неподалеку от группы Моник. Нужно следить, приглядывать, что к чему. Они всегда спали вместе, в обнимку, и мне хотелось выяснить, лежат ли рядом Клод и Моник, – особенно теперь, когда я услышал, как Женевьева отошла от них, сказав обиженно: «Спокойной ночи». Сквозь ветви оливы светила луна. Я уселся и какое-то время сидел, пытаясь разглядеть, насколько близко друг к другу находится интересовавшая меня парочка, но так ничего и не увидел. Тогда я снова лег, поглядел на небо, нашел, что его темная синева смотрится очень печально, и почти сразу же заснул.
Шестнадцатый день. Встал на рассвете. Рассвет в горах – всегда необыкновенное зрелище. Я поднялся на ближайший холм и увидел далеко внизу Малагу. Это утро мне хорошо запомнилось – зеленовато-голубой воздух, прохлада после раскаленной равнины. Но особенно потому, что в автобусе рядом со мной сидела Моник. Некоторое время она стояла, потом кто-то сказал:
– Рядом с Джоном есть место, – и она подошла и села.
Я чуть не урчал от удовольствия, как кот после сметаны: ведь с одной стороны от меня был прекрасный пейзаж, с другой – Моник. Я пытался поговорить с ней серьезно, но это оказалось трудно. Я нервничал, старался быть интересным, забавным. Она была сонная – не то чтобы скучала, просто не выглядела заинтересованной. Я спросил, окончила ли она школу.
– Да.
– Ты работаешь на дому?
– Нет, в лаборатории.
– В лаборатории?
– Oui, je fais des analyses![380]380
Да, я беру анализы! (фр.)
[Закрыть] – Черные глаза смотрели на меня искоса, почти враждебно. Если б я стал гадать, чем она занимается, эту работу назвал бы последней.
– Какие анализы?
– Всякие… иногда не очень приятные. – В ее глазах промелькнула усмешка.
– Vous chassez les baccilles, alors?
– Oui, les baccilles.
– C’est intéressant?
– Oui. Ça m’intéresse[381]381
– Следовательно, ты ищешь микробов?
– Да, микробов.
– Это интересно?
– Да, мне интересно (фр.).
[Закрыть].
– Лаборатория большая?
– Нет. Не большая.
И все в таком духе.
Она всегда отвечала кратко и четко, очень серьезно, разумно; отвечала точно на вопрос, словно он написан на бумаге, вроде анкеты, отметая все не относящееся к делу. Неожиданно я увидел ее в новом свете, увидел лаборантку в белом халате – сидит, склонившись над микроскопом, а потом отдает результаты своих исследований очкастому начальнику. Существование почти монашеское, стерильное, суровое.
– Большой у тебя отпуск? – спросил я.
– Как раз три недели, – ответила она.
Неожиданно я ощутил себя болваном, бездельником, скучным сентиментальным школьным учителем, немощным старцем рядом со стройной и юной девятнадцатилетней естествоиспытательницей. Я прекратил разговор, огорченный, что она, в свою очередь, не задает вопросов мне, и стал равнодушно и бесстрастно смотреть в окно. Замыкаясь в себе, она становилась очень далекой. Не в этом ли был ее особый шарм? И еще – полная эмоциональная открытость. Когда она была веселой, то веселье в ней било через край; когда становилась печальной, видно было, что это всерьез. Она не подстраивалась под остальных, не старалась оправдать возложенных на нее ожиданий. Я видел, как ее пытались вывести из состояния замкнутости, видел ее слабую улыбку – такая улыбка бывает у человека, выходящего из сна. Никакого лукавства, какое обычно сопутствует склонной к расчету женской психологии.
Мы остановились довольно высоко над долинами, чтобы бросить еще раз взгляд на Малагскую равнину, однако тепловые испарения сглаживали на таком большом расстоянии краски. Моник вышла из автобуса передо мной и направилась к Клоду, тот взял ее за плечи и осторожно встряхнул. Она высвободилась из его рук, но тоже мягким движением, и стала о чем-то смеяться с Женевьевой. Я не чувствовал к Клоду особой ревности: он был влюблен в Моник, но она не отвечала ему взаимностью – это я видел. Однако, в своей маленькой группе, они не скучали друг с другом. Много смеялись, подолгу танцевали. Я видел, как они втроем нашли место, откуда удобнее обозревать окрестности, и мне стало горше некуда. Когда пришло время ехать дальше, я нарочно медлил, чтобы дать возможность Клоду сесть рядом с Моник и тем самым подсыпать мне соли на рану. Но они сидели порознь. Я молча сел рядом с ней. Вскоре Моник стала клевать носом и задремала, но каждые пять секунд просыпалась от тряски. В очередной раз проиграв и позабыв о гордости, я поджидал удобного момента. Когда, после особенно сильного толчка, она подняла голову, я мягко произнес:
– Спи… на моем плече… если хочешь.
Она улыбнулась своей детской улыбкой, нерешительной и просящей.
– Ça ne vous gênerait pas?[382]382
Тебе это не помешает? (фр.)
[Закрыть]
Я пожал плечами:
Je n’ai pas sommeil. Allez-y[383]383
Я не хочу спать. Давай! (фр.)
[Закрыть].
Она придвинулась и положила голову мне на плечо. Меня пронзило острое, удивительно острое ощущение полного счастья. Она немного расслабилась и еще теснее прижалась ко мне.
– Ça va?
– Oui, c’est confortable[384]384
– Ну, как?
– Удобно (фр.).
[Закрыть].
Она замолчала, a меня захлестнула волна счастья. Раньше я, самое большее, касался ее руки. Сейчас же ощущал тяжесть ее тела, чувствовал его плотность – совсем новый уровень. Ее голова, волосы ласкали мою щеку. Мимо прошел Поль, взглянул на меня как-то странно, чуть ли не с ревностью, как мне показалось. Я оглянулся не улыбаясь, с видом даже некоторого превосходства – ни дать ни взять петух на навозной куче.
Сидевший за мной Мишель рассмеялся:
– Ah, ah, c’est comme ça que ça commence [385]385
Похоже, что-то начинается (фр.).
[Закрыть].
Тити тоже:
– Да, похоже.
Уголком глаза я следил за Клодом, вид у него был грустный.
Но мое счастье длилось недолго: автобус остановился у колодца, где можно было умыться и побриться. Когда мы все собрались у воды, зазвучала болтовня и повсюду распространился запах мыла, я вдруг обратил внимание, что Моник с нами нет, и сразу же отметил, что Клод тоже отсутствует. Побрившись, я бросился к автобусу – вокруг никого. Оглядевшись, тоже никого не увидел, но мест, чтобы укрыться от чужих глаз, было великое множество. Открыл автобусную дверцу и вошел внутрь с печалью в сердце; тут я ее и нашел – она крепко спала, устроившись на широком заднем сиденье: голова на руках, плечи вздернуты, в лежачем положении хорошо вырисовывается тонкая талия, изящная линия длинных ног. У нее поразительная природная грация; великолепным сложением, свободной позой, независимостью она казалась спящей богиней.
Автобус возобновил движение, Моник вернулась на прежнее место, я сел рядом. Некоторое время она была оживленной, болтала со всеми, кроме меня, потом снова стала позевывать и искоса посматривать на мое плечо. Я похлопал по нему, приглашая прилечь, и она склонила головку.
– Ça ne vous gêne pas?
– Pas du tout[386]386
– Я не помешаю?
– Нисколько (фр.).
[Закрыть].
Но мне в очередной раз не повезло. Мотор закашлялся; каждый раз, когда начинался подъем, в нем что-то постукивало. Какое-то время мы ехали неровно, с толчками, потом последовала серия жутких стуков, и автобус остановился. Тогда мы еще этого не знали, но, по сути, то был конец нашего отдыха.
Шофер выискивал поломку, а мы, обступив его, молчали. Впереди, в четверти мили от нас, виднелась деревушка. Вокруг пустынное жнивье, голые холмы, долины, к северу – основная горная цепь, высоко идущая изломанная линия. Андре вылез из-под автобуса с серьезным лицом:
– C’est pour deux heures, au moins[387]387
Здесь работы часа на два, по меньшей мере (фр.).
[Закрыть].
Часть передаточного механизма не работала, такую поломку в деревне не устранишь, даже если там есть мастерская. Мы толпой побрели к домам. Довольно большая деревня, почти городок, под названием Колманар вся состояла из белых, выжженных солнцем домов. Главная улица шла вниз, под уклон; с нее открывался потрясающий вид на серо-голубые горы. Первые два дома были кофейни. Мы пошли во вторую, где на заднем дворе стояли столики под решетчатой, увитой виноградом крышей, и заказали кофе. Поль взял еще консервированные персики. Клод сидел рядом с Моник, держал ее за руку, обнимал за плечи. Она смеялась, склонялась к нему. Кто-то вбежал и сказал, что начинается месса. Все католики повскакали со своих мест. Клод увел Моник, держа за руку. Поль тоже ушел, и я остался один.
Вошли два чернорубашечника. Среди нас были двое или трое юношей, которые всегда ходили в черных рубашках, – полные ничтожества. Им хотелось погулять, повидать «le gibier du pays»[388]388
Какая здесь водится дичь (фр.).
[Закрыть]. Мы отправились на небольшую экскурсию – я руководил ею. Поднявшись на холм, вышли за пределы деревни, миновали редкую оливковую рощу и спустились в долину, заросшую опунцией. Я был мрачен: мне ужасно хотелось побыть в одиночестве, а эти два черных попугая трещали не переставая. В час дня они заговорили об обеде. Я сказал, что есть не хочу, а они пусть идут обратно. Как только чернорубашечники скрылись из вида, я стал взбираться по склону долины, ориентируясь по вершинам деревьев. Вдоль тропинки тонкой струйкой бежал ручеек из прохладного родника, таившегося в зарослях папоротника. Я вышел на небольшую рощицу, потом на другую – зеленую и тенистую, какую можно встретить в Англии. Множество птиц и полное безлюдье. Посидел немного в тени, у родника, чувствуя себя совсем несчастным. Первый раз я признался себе, что влюблен в М., признав также и горькую правду – она не проявляет ко мне никакого интереса. Обычно эти два фактора взаимодействуют: когда видишь невозможность взаимности, гордость не дает тебе погрузиться в чувство с головой. Но М. таинственным образом проскользнула в мое сердце, похитив его прежде, чем я это понял, и теперь унесла навсегда, даже не подозревая, что натворила. В этом bosquet[389]389
Лесочке (фр.).
[Закрыть] я чувствовал себя вне туристской группы, вне обычного течения жизни, вне всяческих обязательств и понимал меланхолическую психологию затворника. Этот час, проведенный на природе, был часом прозрения. Я понял, что, преследуя М., не испытаю ничего, кроме горя; и тогда остаток отпуска принесет мне только печаль и горечь, которые отравят прежние добрые чувства к остальным членам группы. Все было не совсем так, но этим утром я возвращался, понимая сущность моей маленькой трагедии; как обычно, пребывание на природе меня очистило.