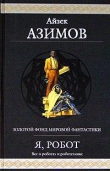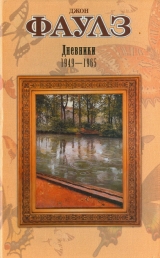
Текст книги "Дневники Фаулз"
Автор книги: Джон Роберт Фаулз
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 58 страниц)
Часть третья
ОСТРОВ И ГРЕЦИЯ
2 января 1952
В такси до Афин – через обширный пригород, протянувшийся от Пирея до столицы, – грунтовая дорога, ветхие домишки, пальмы. Мы также проехали мимо апельсинных деревьев, сгибавшихся под тяжестью плодов, ярко пылавших на солнце. Эти вроде бы незначительные вещи важнее всех многочисленных памятников, виденных мной ранее. В Афинах я разыскал отделение Британского совета, познакомился с Боллом, советником по образованию, – лысеющим усатым чиновником в очках, равнодушным и бездеятельным. Он направил меня в гостиницу поблизости от площади Омония, где жили мои новые коллеги.
Следующие два дня я провел в Афинах с Шарроксом и Принглом, попивая винцо и слушая их рассказы о школе. Принглу за сорок, любит выпить, легко раздражается, начитанный, но не очень умный. О литературе говорит, прибегая к мыслям самих писателей и критиков, и использует, по сути, перекрестные ссылки. Здесь мне с ним трудно тягаться. В таком разговоре можно принимать участие только на том же уровне – делиться информацией, ссылаться на известные имена – личное мнение тут значения не имеет. У Прингла неприятные, глубоко посаженные глаза-бусинки. Длинные и довольно грязные ногти. Он работал в школах Индии, Судана и в других местах. Жалкий неудачник, шумно восхищающийся отношением Роя Кэмпбелла и Хемингуэя к бунту[274]274
Родившийся в 1901 г. в ЮАР Рой Кэмпбелл создал себе имя как поэт, автор мемуаров и сатирик, избравший мишенями группу Блумсбери, поэтов Одена, Дей-Льюиса и Спендера. Он разделял любовь Хемингуэя к путешествиям и приключениям, но во время гражданской войны в Испании поддерживал другую сторону. Свое восхищение франкистами он выразил в поэме «Цветущее ружье» (1939), заслужившей суровую критику за предположительно фашистские взгляды автора. Кэмпбелл погиб в 1957 г. в автомобильной катастрофе в Португалии.
[Закрыть]. Иронию по этому поводу, как я успел заметить, не переносит. Он рассказал мне множество историй о школе – атмосфера там, похоже, действительно не из легких: преподаватели плетут интрига, желая выслужиться перед директором и добиться популярности у учеников. Что до самих учеников, то они недисциплинированны, излишне любопытны и несдержанны в проявлениях как любви, так и ненависти. Атмосфера искусственная, тепличная, в таких условиях любые чудачества обретают преувеличенные размеры.
Шаррокс – высокий мужчина, утонченно красивый, так и видишь его с букетом лилий на Пиккадилли; изысканная обходительная речь, безукоризненное произношение – я заметил только раз или два ланкаширские оговорки. Похоже, он хорошо знает Афины и Грецию, у него здесь много друзей. По словам Прингла, Шарроксу недостает огонька, он пробыл на острове больше, чем кто-либо, – все потому, что ему удается находиться здесь в равновесии. Он, несомненно, poute manqué[275]275
Никудышный поэт (фр.).
[Закрыть]. С Принглом проявляет удивительную гибкость в общении – и это при том, что никогда не бывает с ним согласен[276]276
Денис Шаррокс впоследствии стал близким другом Дж. Ф. Он вырос в Саутпорте, где посещал школу Короля Георга V, затем после военной службы изучал языки и литературу в Ливерпульском университете. С 1948 г. преподавал на английском отделении Колледжа Анаргириоса и Коргиаленеоса. В то время Дж. Ф. не знал, что Кеннета Прингла выгнали из колледжа за гомосексуальные связи с учениками. Директор попросил Шаррокса сопроводить Прингла до Афин, а заодно встретить и привезти на остров нового преподавателя.
[Закрыть].
С первого взгляда Афины не производят впечатления – огромный город, беспокойный, полный движения, все в нем работает нерегулярно, много богатых людей; между площадью Омония и площадью Конституции бедняков почти не встретишь. Женщины красивы и очень женственны, среди них не увидишь мужеподобных лиц мышиного цвета, так же как не встретишь и подлинно классических греческих черт, – зато турецкое наследие повсюду: круглые щечки, восточные выразительные глаза с поволокой, полные губы, приоткрытые и слегка надутые. Все женщины нежны, у них кроткий, податливый вид – нет и намека на современное фригидное равенство полов. Многие гречанки умеют загадочно улыбаться одними глазами – теплой манящей улыбкой, sympathique[277]277
Приятной (фр.).
[Закрыть]. Языка я совсем не понимаю – на слух он мягкий, шелестящий, отдельные звуки трудно уловить, много гласного «и».
В Акрополь я отправился в пасмурный день. Удушливый и спертый воздух, на всех тротуарах какая-то грязная слизь – можно поскользнуться как на льду. Пройдя мимо заурядной современной церкви, я выбрал, как мне показалось, правильный путь к Акрополю – через старый квартал, заселенный беднотой; на улице много мясных лавок с рядами освежеванных туш молодых барашков, а также прилавков, заваленных яркими апельсинами с еще не оборванной листвой и прочими фруктами. Босой мужчина в лохмотьях тащил огромный мешок и при этом пел, раскачиваясь из стороны в сторону. Я поднимался все выше, минуя низкие белые домики, крытые красной и коричневато-желтой черепицей; я хотел попасть на дорогу, идущую вверх под самой стеной Акрополя. Но, как сказал мне местный юноша, я выбрал неправильный путь. Пришлось снова спуститься на основную дорогу и оттуда уже идти к Пропилеям[278]278
Парадный крытый вход в Акрополь.
[Закрыть].
Не знаю, как описать мое впечатление от Акрополя – все в нем я видел раньше: в книгах, на фотографиях, рисунках. И все же у меня не было общего представления об ансамбле, то есть о самом главном. Парфенон – величественное творение, как на него ни посмотри: вблизи или снизу, находясь за стеной. Погруженный в раздумья, он утратил связь со временем. Я видел во всем грусть и канувшее в прошлое время – было холодно, моросило, посетителей очень мало, если не считать фотографов, собственным дыханием согревавших руки. На фоне темно-серых склонов горы Гиметтос Парфенон казался красно-коричневым. Парные колонны двухъярусной колоннады образуют секции в виде ваз, из которых открывается прекрасная перспектива. Особенно хорош вид с восточной колоннады, если смотреть на север – туда, где два кипариса словно заключены в рамку.
По свинцовому небу плыли спутанные облака. Было очень холодно. Я смотрел вниз на город, на старые византийские церкви, на древнюю Агору, на Гефестейон[279]279
Небольшой храм на западе Агоры у подножия Акрополя, построен около 450 г. до н. э. и посвящен Гефесту, богу огня.
[Закрыть]. Над Пелопоннесом небо расчистилось – облака стали ярко-золотыми, по морю побежали серебряные тени, над темно-синими вершинами гор облака разошлись, приоткрыв зеленовато-голубое небо. Но все это было далеко от меня, на Акрополе по-прежнему моросило и дул пронизывающий ветер.
Эрехтейон очень красив. Парфенон тоже красив, но мужественной красотой, а этот женственный, изящный, гармоничный[280]280
Храм возведен в честь Афины и Посейдона-Эрехтея, в нем усыпальница Цекропса, легендарного основателя Афин; строительство храма завершилось к 395 г. до н. э. Когда стоишь на северной стороне Акрополя, особенно заметно, что этот храм – одно из наиболее совершенных творений древнегреческой архитектуры.
[Закрыть].
Я спустился к гостинице, раздосадованный тем, что не знаю, как относиться к Акрополю: он не вызвал во мне живой реакции.
В этот вечер мы много пили – Прингл был сварлив, категоричен и под конец здорово надрался. Ш. (Шаррокс), напротив, был сдержан и трезв. Вздорность Прингла вызвала у меня отвращение и досаду, захотелось поскорее лечь спать. Но Прингла нельзя остановить. Вечер закончился в ночном клубе рядом с гостиницей, мы проторчали там два часа и изрядно потратились. Большинство клиентов клуба – бизнесмены, Прингл называл их «папас»; две-три женщины décolleté[281]281
Декольтированные (фр.).
[Закрыть] развлекали посетителей – ходили по залу, танцевали и пили шампанское. Одна, пострашнее других и не с таким глубоким вырезом, сидела с нами или, точнее, с Шарроксом, который просто ее терпел. Вдруг Прингла что-то разозлило, и он с криком прогнал женщину. А потом так смеялся, что у него из глаз полились слезы. Я следил за карикатурным поведением бизнесменов и развязностью девушек – у одной были иссиня-черные волосы, широкие податливые бедра; даже густо наложенные румяна не портили хорошенькое личико. За ней увивалось четверо или пятеро бизнесменов.
Мы ушли только в половине пятого утра. Нам с Шарроксом надо было успеть на пароход, отплывавший в восемь часов на Спеце. Прингл жил в соседнем номере, после нескольких промахов он все-таки вставил в замок ключ и открыл дверь. Вскоре за окном запел петух, было слышно, как Прингл орет на него:
– Пошел отсюда… Кукарекай в другом месте!
Потом он просто бубнил:
– А ну вали отсюда… Пошел прочь!
То были последние слова, которые я от него слышал. Этот странный плюгавый неудачник с яростным темпераментом написал несколько романов, много путешествовал и много пил на своем веку. Его писательская манера язвительна и неприятна, к тому же и маловыразительна, если судить по письму, которое он мне прислал. Очень взрывной характер, никакой беспристрастности, легко обижается, может быть даже вредным, однако у него бывают интеллектуальные прозрения и точное понимание вещей.
Я проснулся в 6.30, чувствуя себя прескверно. Протянул руку за таблетками от морской болезни, случайно столкнул их с полки, и они провалились в сток раковины. Решетки не было, и они исчезли навсегда. В отчаянии я позвал горничную, та – носильщика, чтобы узнать, нет ли в трубе смотрового отверстия, оказалось – нет. Таблетки уплыли. Теперь тошноты не избежать.
Однако все сложилось совсем не так плохо. На такси мы добрались до Пирея и сели на пароходик, ходивший на Парос и Спеце, – когда-то это была яхта Чиано[282]282
Галеаццо Чиано (1903–1944) – очень богатый итальянский граф, был министром иностранных дел в правительстве Муссолини, а также его зятем. Под влиянием военных поражений итальянских войск в 1942 г. Чиано склонялся к сепаратному миру с противниками Германии, что стало причиной суда над ним и казни за предательство.
[Закрыть]. Я спустился в каюту и продремал четыре часа. Был прекрасный день, и плавание наше проходило среди восхитительных пейзажей. Но я лежал в темной каюте, расплачиваясь за то, что вчера пошел на поводу у Прингла. Когда я поднялся на палубу, ее всю заливало солнце, море было ярко-синего цвета, оно сверкало и искрилось, а мы входили в залив, на одном конце которого виднелась деревушка с чисто побеленными домиками – Эрмиони[283]283
Острова Парос и Спеце расположены на южной стороне залива Сароникос, как раз к северо-востоку от Пелопоннеса. Пароход из Пирея сначала останавливался на Паросе, потом в Эрмиони, и наконец, на Спеце. Описание вымышленного острова Фраксоса в «Волхве» точно воспроизводит географию острова.
[Закрыть]. Яркая белизна домов на фоне невысоких голых гор, слева – живописный мыс, поросший сосной.
Через полчаса мы прибыли в Спеце – довольно большое поселение на северной стороне вытянутого зеленого острова; вдали виднелись покрытые снегом вершины Пелопоннесских гор, оранжево-красное побережье залива Арголикос, протянувшееся на милю к северу, и несколько лишенных растительности островов, чудесным образом пребывающих в равновесии, как детские волчки (мираж), среди искрящихся волн.
Островные деревни – невероятно белые и чистые – похожи на собранные в кучу кубики; они – как кристаллы у подножия поросших сосной склонов, на краю голубой воды. В Спеце лодка доставила нас на берег, к причалу. Я познакомился с двумя учителями. На меня поглядывали с любопытством. Мы зашли в небольшой ресторанчик; похожий на испанца гитарист исполнил несколько греческих песен. У греческой музыки есть общие черты с андалузской, арабской и, конечно, турецкой музыкой. Она очень своеобразная, пряная, диссонирующая, в ней много ниспадающих нот, рваных ритмов, восточных интонаций. Чистым сильным тенором гитарист пел, обращаясь к только что вернувшемуся из Америки греку; тот уже выпил с дружками много рецины и теперь танцевал в греко-турецкой манере, двигаясь между столиками. Гитарист пел импровизированную песню о нем, там было много озорных намеков, колких шпилек, и всех это очень веселило.
Потом мы пошли в школу. Я не ожидал, что она занимает так много места – пять больших зданий в несколько этажей, широкие коридоры без всякой мебели, пол из камня. Когда говоришь, звук сильно резонирует – так бывает в церкви, морге, тюрьме. В моей комнате – 30 на 30 футов – мебели достаточно.
Школа расположена в парке у моря, отсюда слышно, как шумят, разбиваясь о гальку, волны. Много кипарисов и оливковых деревьев. Гибискус в цвету. Прекрасно оборудованный гимнастический зал, есть футбольное поле, теннисные корты, даже большие. Не школа, а мечта – великолепное место, прекрасное оборудование. Школа рассчитана на четыреста человек, но в настоящее время в ней учится только сто пятьдесят, и тенденция к сокращению учеников сохраняется. А сколько всего можно было бы тут сделать – открыть международную школу, школу совместного обучения. Однако Шаррокс считает, что надежды на перемены нет никакой.
Я встретился с заместителем директора – приятным мужчиной с морщинистыми веками и открытой улыбкой. За нашим обедом присутствовало несколько учащихся. Я совсем не знаю греческого, остальные учителя не говорят по-английски, так что я общался только с Шарроксом.
6 января [284]284
Просматривая дневники спустя сорок лет после их написания, Дж. Ф. сказал следующее: «Думаю, можно считать, что эта январская запись положила начало “Волхву”».
[Закрыть]
Утром я вышел немного погулять. За ночь похолодало, море было неспокойным. Я не ожидал тут встретить птиц, однако увидел на берегу двух зимородков, пустельгу, вроде бы клушицу и еще несколько птах. И множество цветов. По словам Шаррокса, птиц на острове не было, однако то, что я увидел, давало надежду. Разнообразие природной жизни возбуждает меня – естественник обладает несомненным преимуществом перед всеми остальными. Когда я оказываюсь в новой стране, знакомство с ее птицами, цветами и насекомыми значит для меня – если говорить о получаемом удовольствии – не меньше, чем знакомство с людьми и их искусственным миром. Природа – наше извечное прибежище.
С Шарроксом я пошел в Спеце, чтобы купить необходимые вещи. В маленьком ресторанчике, где с потолка свисало побитое молью чучело канюка, мы съели жареную каракатицу – очень вкусную, – крупные оливки и жареный картофель. Все были очень дружелюбны, настроены мирно, по-товарищески.
Сегодня я познакомился с остальными преподавателями, и так как все они были пока для меня загадками, сосредоточился на одном – старался запомнить непроизносимые греческие фамилии.
Ужинать я сел за стол с семью учениками – с одной стороны моим соседом оказался критянин, который и двух слов не мог связать по-английски, с другой – турок, тот говорил вполне прилично. Однако будет трудно заниматься с ними в течение семестра, используя словарный запас слов в сто, не больше.
Итак, начало положено. Работа, похоже, не из трудных, если исходить из количества часов. Четыре занятия в день, составляющие в совокупности три часа, и два дежурства в неделю – еще пять. Итого – двадцать три часа в неделю. Грех жаловаться! Мальчики живые, непосредственные, энергичные; более женственны в поведении, чем английские подростки. Я видел, как вернувшийся после каникул мальчик поцеловал друга в щеку. Старшие более дружелюбны и ласковы с младшими и оказывают им больше внимания, чем осмелился бы их английский ровесник. А в целом внешний облик и одежда учеников мало чем отличаются от того, что видишь в Англии.
Мальчикам, однако, не удается наладить определенный порядок в своей жизни; у них нет организованных игр, и после семи школьных занятий они еще два часа сорок пять минут тратят на приготовление домашнего задания. Это слишком много. Педагогическая методика явно устарела. Школа нуждается в реорганизации. Частично дело в отсутствии университетских традиций вроде тех, что существуют в Оксфорде и Кембридже (в Англии) или в Эколь-Нормаль и Сорбонне (во Франции). Основная масса преподавателей не очень образованна. Свой предмет они знают, но в остальном мало чем интересуются – разве что перемыванием друг другу косточек. Так же себя ведут и их коллеги в Англии.
Но сам остров – драгоценный камень, Остров сокровищ, рай. Я совершил длительную прогулку в удаленные от моря холмы – по сосновым рощам, горным тропам, – в холодное и яркое безмолвие. Был прекрасный ясный день, с Пелопоннеса дул легкий ветерок, погода была почти такая, как в Англии в теплый мартовский день. Пихты растут редко, они невысокие и бесформенные, поэтому не загораживают великолепные пейзажи, а напротив, выгодно их оттеняют. Когда смотришь на них издали, кажется, что перед тобой одни круглые вершины, как у пробковых деревьев. Удивительнее всего в этих горах – полное безмолвие: ни птиц (в районе школы их множество), почти нет насекомых, ни людей, ни животных, только полная тишина, ослепительный свет, голубое море внизу и Арголисская равнина с низкой цепочкой гор посредине. Чистота и простота ощущений, какой-то особый средиземноморский экстаз витает в воздухе, пропитанном запахом сосны, зимней свежестью и морской солью.
Долгое время я никого не встречал, только слышал перекличку пастухов вдалеке – звук разносится здесь великолепно. Казалось, что маленький катер, который направлялся к дневному пароходу, пришвартовавшемуся у поселка, пыхтит на расстоянии нескольких сотен ярдов. Он же находился в двух или трех милях. На своем пути я наткнулся на обсерваторию, непонятно по какой причине установленную в горном лесу. На другой вершине, дальше к востоку, был виден монастырь, белизну его очертаний особенно подчеркивали сторожившие его черные кипарисы[285]285
Монастырь Св. Николая, являвшийся также кафедральным собором острова, расположен на горе за городом Спеце. Св. Николай – покровитель города Спеце и всех моряков.
[Закрыть]. По мере подъема вид становился все красивее. Напротив Арголис – как рельефная карта, с неровными очертаниями, изрезанный заливами, с розовато-оранжевыми скалами по краям и темно-зелеными пихтовыми лесами в глубине. Но эти леса настолько открытые, настолько воздушные, что совсем нет ощущения мрачности – того, что есть на дальнем Севере. Переиначивая пословицу, можно сказать, что за этими деревьями виден лес, деревья дают отдохновение, приют от нестерпимой жары на открытых равнинах. Арголис, похоже, густо заселенный остров – там есть пара беленьких деревушек и еще стоящие в изоляции фермы и коттеджи. Пустует только гористая местность в центре острова. Справа, недалеко от Идры, виднеются очаровательные острова, а сама Идра – голубая, бледно-зеленая и розовая – колышется в изумрудно-синем море. Эти большие острова с остроконечными горными вершинами, крутыми обрывами и утесами гармонично располагаются относительно друг друга. Краски очень живые, но нежные; пастельные, однако не расплывчатые – акварель, хотя и довольно четкая.
Справа, по ту сторону залива Науплия, – высокие горы центральной части Пелопоннеса, их снежные вершины кажутся розовыми облаками, слабо поблескивающими под косыми лучами солнца. Далекие горы, скалы, деревни и безграничный простор моря.
Я взбирался все выше и наконец выбрался на неровную дорогу, шедшую по гребню горной гряды; меня заливало солнце; те же пихты росли и на южном склоне – вплоть до самого побережья, гораздо более безлюдного, чем северное, там не было ничего, кроме нескольких коттеджей и одной или двух вилл. Солнце сейчас стояло над Спартой; море между Спеце и Пелопоннесом ярко сверкало, его оживлял легкий бриз, он волновал и рябил воду.
Далеко внизу, рядом с коттеджем, горел костер, дым поднимался вверх; там же, где я находился, легкий прохладный ветерок смягчал жару. Неподалеку мужчина (первый, кого я встретил на своем пути) рубил сучья. Еще двое мужчин на ослах выехали на дорогу. Один из них, поравнявшись со мной, придержал животное, посмотрел на меня с улыбкой и что-то энергично произнес. На нем был грязный голубой берет и потрепанные штаны; загорелое лицо лоснилось, как старая крикетная бита, черные усы были великолепны. Он еще раз повторил ту же фразу. Я что-то пробормотал. Он с удивлением уставился на меня.
– Anglike, – сказал я.
– А-а! – понимающе кивнул он, слегка пожал плечами и поехал дальше не оглядываясь. Его товарищ на другом осле, который был еле виден под горой наваленных на него пихтовых веток, проезжая мимо, дружески кивнул:
– Каl'emeras[286]286
Добрый день (гр.).
[Закрыть].
– Emeras, – отозвался я и пошел дальше.
Некоторое время я шел по дороге. Миновал рощу, где прямо из-под моих ног вылетел вальдшнеп. Проскользнула ящерица. Было очень тепло, но не душно; свернув с дороги, я направился к обрыву, обращенному на запад, и сел на камень прямо у края пропасти. Мир был у моих ног. Никогда еще не ощущал я такой вознесенности над миром, не испытывал чувства, что он раскинулся у моих ног. Отсюда лес ниспадающими волнами шел к морю, сверкающему морю. Берег Пелопоннеса был полностью лишен глубины и деталей – просто широкая синяя тень на тропе солнца; даже в бинокль ничего не разглядеть за исключением снежных шапок. Фантастический эффект, и в течение нескольких минут я переживал невероятное возбуждение, как если бы произошло чудо. Я действительно никогда в жизни не видел ничего прекраснее открывшейся предо мною картины – сочетание сияющего голубого неба, яркого солнца, скал, пихт и моря. И каждый из перечисленных элементов в отдельности был настолько безупречен, что захватывало дух. Похожее чувство я пережил в горах, но там стихия земли как бы отсутствует – переживая восторг, ты удален от всего. Здесь же она повсюду. Какой-то высший уровень познания жизни, всеобъемлющая эйфория, которая не может долго продолжаться. В тот момент я не смог бы описать свои чувства – потрясение и духовный подъем заставили позабыть о себе. Я словно парил в прозрачном воздухе, утратив чувство времени и способность к движению, меня удерживал только величайший синтез всех элементов. И затем – благоухающий ветерок, знание, что я в Греции, и к тому же проблеск того, чем была Древняя Греция; и тут же неприятное воспоминание о серых улицах, серых городах, о серости Англии. Подобные пейзажи в такие дни бесконечно способствуют росту человеческой личности. Возможно, Древняя Греция – всего лишь результат воздействия пейзажа и света на чувствительных людей. Это объяснило бы свойственную им мудрость, красоту и ребячливость; мудрость покоится в высших сферах, а греческий ландшафт полон высоких мест, горы возвышаются над равнинами; красота в природе повсюду, простодушие пейзажей, чистота, которая усиливает подобную ей чистоту и простоту; что до ребячливости, то ведь такая красота не человеческая, не практическая, не губительная – и разум, взращенный в таком раю, сам становится его копией, и после первоначального подарка (Золотой век), люди не могли не начать творчески слабеть. Красоту создают, когда ее недостает, здесь же она в избытке. Ее не создают, ею наслаждаются.
Такие фрагменты являются хорошей опорой.
Я пустился в обратный путь, размышляя об Острове сокровищ. Солнце село, позолотив вершины; свет в долинах стал зеленоватым, мрачным. В одной долине стоял непрерывный звон от колокольчиков на козах. Коз было двадцать или тридцать, пастух регулярно выкрикивал:
– Ахи! Хиа! – и издавал мелодичный, пронзительный свист.
Я видел, как он идет меж деревьев в окружении коз, – высокий мужчина в серо-голубых штанах с заплатами светло-серого цвета на коленях и черной куртке. Я поспешил вниз по тропе, чтобы догнать пастуха, но тут мой взгляд упал на нечто, растущее сбоку от дороги. Я опустился на колени, не веря своим глазам: то была цветущая паучья орхидея, маленькое растение, не больше шести дюймов, с одним большим цветком – его пурпурная, в пятнышках губа дерзко торчала, слегка прикрытая бледно-зелеными чашелистиками, – и еще одним зеленым бутоном. Опустившись на колени, я вглядывался в цветок, позабыв о пастухе и его козах, чьи колокольчики позвякивали все слабее. Смеркалось. Горы казались теперь темно-синими, а долина – черной. Похолодало. Я быстро пошел по козьей тропе – путь оставался неблизкий – и наконец достиг места, откуда мог видеть школу. Край обрыва был весь покрыт анемонами – маленькими цветками, не больше трех-четырех дюймов, розовыми и розовато-лиловыми; они колыхались на слабом ветерке.
Я быстро спустился по террасам оливковых деревьев, миновал разрушенную ферму и оказался на дороге, которая через несколько минут привела меня к школе. Думаю, я совершил одну из моих самых лучших прогулок. Педагогическую деятельность можно принять как необходимое зло, когда знаешь, как прекрасна окружающая среда. Но в такой день – не день, а мечта – преподавание и все с ним связанное представляется ничтожным. Вечером, после ужина, я пил кофе с Шарроксом, Гиппо[287]287
Гиппо – прозвище Потамианоса, грека, преподававшего в колледже английский.
[Закрыть] и Тараканом, который нес всякую чепуху. Под конец Гиппо сказал, что «совершил прекрасную прогулку по городу и прекрасно провел время». Тени великих – они живут на таком острове и не видят его. Чудо не повторится.
Однако тем временем мы, бледнолицые северяне, можем еще кое-чему поучиться.
Кессерис, 5 «В»: «Я хочу стать археологом и узнать побольше о древних людях, обладавших удивительными дарованиями».
12 января
Невероятно мягкая, ясная ночь; цвета не сливаются – матовое море, гармония белых домов и темных кипарисов. Была суббота, и днем преподавателей собрали, устроив поистине кафкианскую разборку. Главный вопрос в повестке дня касался учеников, которые провели ночь на Паросе, где пили и играли в азартные игры, вместо того чтобы сразу после посещения Афин вернуться в школу. Здесь принято, чтобы каждый пустяк обсуждался всеми без исключения учителями на особом заседании. На сегодняшнем было два лагеря: один более снисходительный, либеральный; другой – консервативный, алчущий крови, во главе его стоял архиковарный Тимайгенис, преподаватель теологии, законченный Тартюф. Директор открыл дискуссию поразительными словами:
– Нам не позволено наказывать учеников, но эта провинность требует наказания.
Он суетился, как старая бабка, темпераментно нападая на каждого преподавателя, который высказывал взгляды на дисциплину, идущие вразрез с его собственными. Шаррокс заметил, что большинство учеников считают школьные «судилища» не более чем фарсом.
– Но ведь и мы, взрослые, относимся к нашим греческим судам так же, – отозвался директор.
Атмосфера на грани безумия.
Так как была суббота, мы отправились ужинать в Спеце, в ресторанчик, где играет замечательный гитарист. Сложением заставляющий вспомнить Санчо Пансу, лукавый, злой, изобретательный импровизатор и остряк, он сидел в окружении приятелей. В ресторанчике было много рыбаков и местных торговцев. Мы пили рецину, к ней я пока не привык, хотя и понимал, что ее придется полюбить, раз уж я нахожусь в Греции, – это была капля дегтя в бочке меда, – съели по большому блюду жареной картошки, бараньих котлет и печенки. Гитарист сложил о нас песню, а мы поставили ему и его друзьям пива. Подняли стаканы. Высокий толстый пожилой лодочник в синей кепке спел с гитаристом дуэтом песню – пел он высоким тенором, очень темпераментно, выводил трели, приподняв голову, так что горло его вибрировало, как у певчей птицы. К ним присоединился юноша, его тенор звучал сильно и скорбно.
Сменить обстановку было для меня облегчением, хотя атмосфера в школе была вовсе не так плоха, как я ожидал, – мрачновата, но не безысходна. Живые, неугомонные мальчики могли привести кого угодно в ярость, но они могли быть и другими – нежными, любящими. В классе они галдели, перешептывались, постоянно вскакивали с места, тянули изо всех сил руки, задавали вопросы, смеялись. Тишина здесь – вещь относительная. Но причина всего этого – их рвение. Они хотят учиться. Хуже обстоят дела с педагогами, большая часть которых – неуверенные в себе, плохо образованные пожилые женщины, придерживающиеся системы, в основе которой тяжелый труд и жесткая дисциплина.
В парке при школе растет множество пихт и кипарисов; в просветах между их кронами небо еще синее. Как прекрасна форма кипариса: темное пламя, памятник или фонтан. Самый распространенный сорняк в парке – оксалис, или кислица, его яркие желтые цветки раскрываются только при свете солнца. И все это множество как-то очень по-человечески покачивается на тонких, грациозных стебельках.
В этих каменных зданиях необычный, гулкий резонанс. Каждый звук усиливается, становится звонче, разносится эхом и обретает черты, свойственные определенным учреждениям – тюрьме, моргу, больнице, школе, казарме. Из радиоприемников несутся какие-то загадочные отдаленные звуки. Каждый этаж разделен на три продольных отсека и центральный коридор, такой же широкий, как расположенные по обе стороны комнаты, в нем-то и концентрируются все звуки. Сейчас, когда я пишу эти строки, из приемника соседа доносится женский голос, поющий по-арабски, – звуки музыки вдвойне экзотичны, они приходят откуда-то издалека, из прошедших веков, ностальгические, печальные, как мертвая красота.
Сегодня днем состоялся футбольный матч. Уровень игры хороший. На игроках были желтые и черные футболки в красную и белую полоски. Все играли с жаром, без знания техники – на буро-красной земле ученики проделывали немыслимые пируэты, устремляясь за мячом или высоко подпрыгивая в надежде его достать. Матч проходил между двумя классами, и вся школа собралась на бетонных трибунах для зрителей, из городка тоже пришло много народу. Мальчишки вооружились игрушечными трубами, свистками, они кричали и улюлюкали. Мы, преподаватели, сидели на почетном возвышении в центре трибуны и смотрели на поле, за которым тянулся ряд кипарисов, белые здания школы, сиренево-голубой пролив и арголисские горы в предвечернем солнце, – там, за мирными голубыми очертаниями, укутанные бело-розовыми облаками таятся Микены, Тиринф и прочие исторические жемчужины. На таком фоне школьная деятельность кажется муравьиной возней, а игры – профанацией настоящих поступков. Дисциплина, организация, начальники, белые стихи, футбольные ворота – все это лишь пенка на вечности.
Сегодня приехал еще один преподаватель английского языка – Египтиадис; это пожилой человек, его седые волосы подстрижены так коротко, что он кажется почти лысым, у него вид борца или бывшего заключенного. Бычья шея, крупный рот, мало зубов, массивное тело и хорошие манеры. Он девятнадцать лет жил в Штатах и прекрасно говорит по-английски. Как и на многих других языках. Во всяком случае, на нескольких он с нами заговаривал; похоже, полиглотство – предмет его гордости, хотя, возможно, знание других языков сводится у него к заучиванию нескольких изречений. В нем есть что-то жуликоватое. Несомненно, всем скоро надоест слушать, как он, подобно попугаю, будет бубнить отрывки из молитв или пословицы на разных языках. К несчастью, он мой сосед.
Тамарус, 4-й класс: «Тапочки – туфли ночи».
Потамианос – самодовольный юнец с пухлыми губами, пухом на щеках и кудрявыми, зачесанными назад волосами; у него облик полного энтузиазма, нравственно чистого молодого подвижника, гордости духовной семинарии. На самом деле он толстокожий эгоист. У него есть несколько часов в классе практики английского языка, и он простодушно сообщает нам, что ученики в восторге от его методики, и критикует доброго старого Египтиадиса.
Сегодня он подошел ко мне в преподавательской и спросил, как я «намереваюсь решить (!) на этом острове проблему потребности в женщине».
– Мне хватает коз, – ответил я.
– Так вот почему вы лазаете по горам? – спросил он.
– Конечно! – сказал я.
– Перед тем как покинуть Пирей, – сказал он, – я провел два часа с женщиной в гостинице. Кончил четыре раза за два часа. Раньше больше трех у меня не было.
– Вот как! – отозвался я.
– Мы с Папириу (учитель физкультуры) хотим пригласить профессионалку из Афин, – сказал он. – Хотите присоединиться к нам? Приедет моя девушка. Все, что ей надо, – это жилье и питание. Докос, учитель музыки, тоже готов вступить в долю, и, возможно, мистер Шаррокс, – так что это не влетит нам в копеечку.
И он вопросительно посмотрел на меня взглядом доморощенного Руссо, невинного и порочного. Я дал ему полчаса на то, чтобы выговориться, и за это время узнал все о его личной жизни.
– Мечтаю о вдове, – признался он. – Вдова поможет достичь многого.
Позже о том же самом он говорил с Шарроксом – этот агрессивный глупец чрезвычайно высокого мнения о себе. Он пел в музыкальном салоне, не имея даже отдаленного представления о том, что такое музыка; он заливался, как еще не известный миру Карузо, предвкушающий будущую известность.
Последний soirée musical[288]288
Музыкальный вечер (фр.).
[Закрыть] оживил Египтиадис, он предложил имитировать (с помощью сложенных чашечкой рук) крик совы, шум американского поезда и – подумать только! – гимн команды гребцов Итона. Докос, лысеющий очкарик с загорелым лицом клоуна, играл отдельные места из «Риголетто», танцевальные мелодии, популярные греческие напевы, «Травиату», Штрауса и, наконец, Буальдье, оперы которого, по-видимому, считал вершиной западноевропейской музыки[289]289
Франсуа Адриен Буальдье (1775–1834) – крупнейший французский оперный композитор начала XIX в.
[Закрыть]. Докос играет очень громко, с большим пылом, иногда фальшивит – должно быть, он прежде работал в модном ресторане, где нужно уметь переиграть все посторонние шумы.