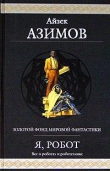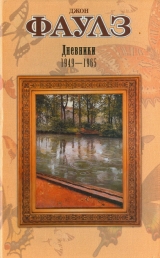
Текст книги "Дневники Фаулз"
Автор книги: Джон Роберт Фаулз
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 58 страниц)
15–30 апреля
Пасхальные каникулы. Казалось – не столько сознательно, сколько бессознательно, – необходимые; теперь же, вернувшись, вижу, что становлюсь почти во всех отношениях островным, замкнутым человеком.
Ездил на Крит с Шарроксом. Вести дневник было трудно. Удавалось делать лишь краткие записи – одну-две ключевые фразы (ключи часто от пустых комнат). Мгновенное фиксирование легко оборачивается просто красивой фразой, ловушкой, сладкоголосой сиреной; это сбивает с пути и вносит ненужную путаницу. Стоит подождать, и перспектива появится; если же в момент записи происходили вещи, которые, на твой взгляд, были важны и заслуживали внимания, но впоследствии забылись, значит, память распорядилась по-своему. Raturer le vif[312]312
Задеть за живое (фр.).
[Закрыть] – вот что нужно.
Кроме того, и Шаррокс и я стесняемся наших литературных амбиций, хотя и проводим много времени в беседах о писателях и литературном творчестве. Его мир полностью сводится к литературе. Но мы никогда не показываем друг другу наши сочинения, не обсуждаем нашу работу; писать в присутствии другого означало бы пойти – настолько мы сдержанны в этом плане – на почти непристойное сближение. Есть много общего между застенчивой девственницей и еще не печатающимся молодым писателем – оба испытывают адские муки, не могут быть искренними и патологически робки. Те немногие записи, что я сделал, написаны в редкие минуты, когда я оставался один. Точнее, в те редкие минуты, когда мне хотелось писать и я был один.
11 мая
Этот семестр отличается от остальных. Новый распорядок – занятия с восьми до часу, потом дневной сон. Каждый день перед ленчем плаваю. Жарко; небо обычно затянуто легкой дымкой облаков, трава пожухла, пыль и потрескавшаяся земля. Иногда дует ветер – горячий и совсем не освежающий. Вечером душно, донимают комары. Дни знойные, сухие, безжизненные, жизнь кажется безрадостной. Гор не видно, они постоянно затянуты дымкой. Я жажду дождя, грома, прохлады. Иногда мне кажется, что я в полубессознательном состоянии, ослабевший, заторможенный. Ничего не пишу, в том числе и стихи. Дни пылают и догорают, пылают и догорают – безжалостно, как дуговая лампа.
Ежедневно плаваю по часу с маской. Это делает существование терпимым, появляется стимул жить. Мгновенный шок от вхождения в воду, затем медленное движение над камнями и морскими водорослями; я рассекаю воду над таинственным и полупрозрачным иным миром – морских ежей, морских звезд, голубого песка и темных щелей, зелени и медуз, театральным миром балета или немого кино, где все движения грациозны и непредсказуемы. Здесь много видов рыбы, чаще всего встречаются разновидности брамы: размеры этих рыб колеблются от пенни до большой столовой тарелки. Эти серебристо-серые диски с черным пятном у хвоста плавают стайками и даже пристраивались за мной – особенно когда я переворачивал камни; так дрозды внимательно следят, как копает садовник. Я видел длинных полосатых рыб, уродливых и нелепых морских ершей, оригинальных маленьких ярко-красных и ярко-желтых морских собачек, великолепных рыб с длинными ярко-изумрудными боками, синими плавниками и хвостом. И зеленых, с оранжевыми плавниками и пятнами на спинке. И маленькое царственное существо с шестью лапками и громадными относительно крошечного тельца, ярко переливающимися лазурными плавниками-веерами. И крупных рыбин жемчужного цвета, вроде лосося, с печальными глазами; они плавали вокруг меня – очень близко, но мне никогда не удавалось их поймать. Я боюсь осьминогов и акул. В Греции от акул ежегодно погибают лишь один-два человека, но об этих чудовищах трудно забыть – есть что-то завораживающее и пугающее в плавании над глубокими пещерами и подводными грядами в голубовато-зеленой воде. На расстоянии камни кажутся неподвижно застывшими фигурами, они таятся и поджидают тебя.
Мицо, школьный почтальон, перебрал сегодня все письма, чтобы узнать, нет ли корреспонденции из Англии. Нашелся большой конверт на имя учителя, покинувшего школу еще до войны. На нем я увидел слово «Бедфорд». В конверте оказался альманах «Выпускники Бедфорда», посланный по непонятной причине в нашу школу, хотя Ноэль Пейтон уволился еще в тридцатые годы. Я прочитал альманах и словно вновь посетил забытые места; ожили старые воспоминания. Внутренне я еще не примирился с Бедфордом, хотелось о нем забыть. Впрочем, последние годы мне там нравилось. Однако школа года на два затормозила мое умственное развитие. Я стал взрослеть только на последнем курсе Оксфорда. Дух альманаха казался старомодным, затхлым. Наивный викторианский мир школьных ценностей, сентиментального былого товарищества. Из альманаха я узнал новости о моих ровесниках. Похоже, они так и не стали самостоятельными личностями – участвуют в проекте «Выпускники Бедфорда», держатся вместе. Тоже иллюзия – по крайней мере на 99 процентов; я же предпочитаю полный разрыв с прошлым, стопроцентную изоляцию.
14 мая
Пять миноносцев и две подводные лодки таинственным образом объявились у берегов Спеце и встали на якорь. Рейд греческого флота. Зловещие очертания в мирных водах.
* * *
Генри Миллер «Колосс Маруссийский»[313]313
В 1939 г. Генри Миллер (1891–1980) ездил в Грецию повидаться со своим другом Лоренсом Дарреллом. В Афинах Даррелл познакомил его с писателем и блестящим рассказчиком Георгосом Кацимбалисом, незаурядным человеком, жившим в Марусси, предместье Афин. «Колосс Маруссийский», впервые опубликованный в 1941 г. сан-францисским издательством «Колт-пресс», – портрет Кацимбалиса, написанный любящей рукой, и рассказ об их совместном путешествии – по инициативе Кацимбалиса – по Греции. Влюбленный в эту страну Миллер называл греков «деятельным, любознательным и пылким народом» и восхищался их «противоречивостью, непоследовательностью и хаотичностью – этими неподдельными человеческими качествами».
[Закрыть]. Энергичный, мощный стиль, хотя мне не по душе этот постоянный, бьющий ключом энтузиазм; к концу книги складывается впечатление, что говорит приходской священник, пытающийся оживить скучное чаепитие. Взгляд Миллера на современного грека кардинально отличается от моего, и непонятно, кто из нас прав. Мне кажется, прав я, хотя, возможно, эта уверенность слишком субъективна. В настоящий момент мне трудно найти в современном греке что-нибудь хорошее. Миллер по крайней мере заставляет об этом задуматься.
«Сейчас Греция – единственный райский уголок в Европе». Греческие пейзажи подобны музыке Моцарта. Миллер рисует, выдавливая краску из тюбика и размазывая большим пальцем. Однако по сравнению с его ярким письмом мой стиль скучный и пресный.
23 мая
День в духе Миллера. Сегодня я отправился бродить по холмам. Яркое солнце, приятный ветерок, все вокруг сияет. В глубине острова все выжжено солнцем – цветет только голубовато-лиловый тимьян и желтоватый утесник. Но пихты дают тень. Птиц нет, мало бабочек, зато много ос, пчел, мух, кузнечиков. Небо свободно от облаков, пшеница желто-соломенного цвета. На противоположной стороне небольшой долины три девушки пели ритмически мощно и резко. Я никогда не слышал такого пения, оно было в полном соответствии с сухостью и великолепием дня. Только отчасти это напоминало песню, в пении не было нежности, полутонов, оттенков, – так можно петь только на открытых, залитых солнцем холмах. Девушки пели в полный голос – неистовые юные жрицы солнца. Перед тем как они запели, я и представить не мог, что на фоне такого пейзажа может что-то звучать. И вдруг девушки подарили ему голос. Они спустились по тропе к водоему, потом пошли обратно. У одной были обнаженные загорелые руки, черные волосы. Я не видел, красива ли она. У меня был бинокль, но пользоваться им не хотелось. Девушка подоткнула верхнюю юбку, солнце засверкало на нижней. Еще с полчаса я слышал их пение. Оно все больше удалялось.
Июнь
Мопассан «Мисс Гарриет».
Читая Мопассана, я почувствовал, как меня охватывает волна безысходности. Ни один писатель не превзошел его в наитруднейшей технике письма – реализме. Я не надеюсь когда-нибудь достичь такого мастерства.
Здесь я бездельничаю. Греки заразили меня своей эгоцентричностью, медленным сползанием от солнечного блеска к загниванию. Загнивание на солнце – вот что такое жизнь здесь. У меня есть время, но нет желания его использовать. Я недоволен всем, что делаю сейчас и делал раньше.
Ученики, учителя, школьная система – все действует мне на нервы. Греки изменили меня, теперь я подавлен, полон презрения и je-m’en-foutiste[314]314
Зд.: равнодушие (фр.).
[Закрыть], ожесточенный и яростный, всегда готовый излить на другого свою злобу. Меня выводят из себя мелочи, ничтожные случаи. Единственное, что осталось во мне от пуританина, – чувство времени, оно заняло место нечистой совести. И то, что оно бездарно пролетает, мучает меня. Червяк в бутоне лотоса.
4 июня
Прекрасные дни. Жаркое солнце, безоблачно. Небо насыщенного синего цвета, море – сама нежность. Приближается день ежегодного школьного праздника, царит суматоха – репетиции, подготовка костюмов, новое расписание, бесконечный список необходимых дел.
Как-то я шел вдоль берега к Византийской бухте; солнце – как комета, ветер, на склонах холмов никого – ни птиц, ни животных; мало цветов и бабочек. Даже рептилий не видно. В такие минуты понимаешь, что на острове ощущается нехватка воды. Деревья дают тень, растительность есть, но какая она скудная, жухлая. Сейчас буйно цветет только тимьян, однако в тени рожкового дерева я видел семейство ярко-розовых васильков, звездочки герани. Залив пустынный, еще более пустынный, чем небо. На одном конце пляжа стоит развалившаяся мельница. Я плавал, рассматривал рыб, потом выплыл за границу бухты – туда, где скалы ступенями таинственно и пугающе уходят в сине-фиолетовую бездну. Когда плывешь над подводной пропастью, появляется ощущение полета, как у птицы. Выбежав на берег, я бросал камешки, стоял на солнце. Казалось, прошло не больше часа. Вокруг по-прежнему не было никаких признаков присутствия человека. Все еще во власти четырех стихий, я заторопился в школу, чтобы успеть на ленч, и там с удивлением обнаружил, что опоздал на два часа.
Поход в деревню. В сумерках холмы окрашены по-кошачьи мягким, серо-голубым цветом, их контуры ярко вырисовываются на фоне слабого лимонно-голубого сияния безоблачного неба. Над темной стеной Пелопоннесских гор огненно-красные завитки облаков. Ветер покрыл море рябью, острова вдали затянуты призрачной – серой, розовой, голубой, фиолетовой – дымкой. Кроваво-красный гибискус у ослепительно белых домиков. Деревенские дети играют у дороги, пожилые женщины сидят и болтают на крылечках. Мы проходим мимо древней сгорбленной старухи в черной юбке, синей линялой кофте и серой повязке на голове; она прижимает к груди три крупных незрелых лимона цвета сегодняшнего заката. Мгновенная восхитительная картина – не щемящая, а ласкающая душу. Маленькие девочки в красных платьицах на краю моря.
Мы сидели в небольшой таверне «У Георгоса», смотрели на Дидиму, отделенную от нас морем; постепенно ее очертания затягивались тьмой. Ели жареную жирную рыбешку, в большом количестве поглощали оливки, огурцы, запивая все пивом. Говорили мало.
На открытом воздухе прошла репетиция отрывков из пьес Мольера на французском языке. Все собрались посмотреть на это зрелище под звездами. Люди, запинаясь, произносили французские слова. Мальчишки смеялись над одноклассниками, которые исполняли в платьях женские роли. Из-за тучного ученика, игравшего Аргана[315]315
Арган – ипохондрик из пьесы Мольера «Мнимый больной».
[Закрыть], репетиция прервалась на две минуты – он вышел в бархатном пурпурном костюме, остановился и молчал, густо покраснев и от смущения, и от злости. Постановка никуда не годилась. Школьникам – простительно, а вообще пьесам Мольера требуются профессионалы высшего класса.
Потом пел хор – марши, патриотические песни, школьные. Все песни на один манер. Докос, учитель музыки, с жаром дирижировал. Когда он резко соединял руки, его пиджак взмывал вверх, открывая на всеобщее обозрение засаленные сзади брюки. Все давились от смеха.
– Il a de belles fesses[316]316
У него красивые ягодицы (фр.).
[Закрыть], – сказал я учителю физики.
Лоснящийся зад то появлялся, то пропадал, гипнотизируя всех нас. Прозвучала соната Моцарта, потом что-то из Гайдна, «Plaisir d’Amour» на двух визгливых скрипках. Учитель богословия тихо что-то бубнил; он твердолобый византиец и, должно быть, недолюбливает Моцарта.
Я спросил Глароса, понравился ли ему и его товарищам вечер.
– Не знаю, – ответил он. – Мы спали.
В нем есть привлекательная утонченность и изощренность соблазнителя – в тринадцать лет. Теперь я всегда сажаю его рядом с собой за столом. По крайней мере он бегло говорит по-английски. Озорной, очень красивый, глубоко презирает школу, из-за него я теперь всегда тороплюсь в столовую. Не могу сказать, что влюблен в него. Однако если почему-то он не выходит к столу, я чувствую острое разочарование.
Странный, по-своему красивый сон. Как будто я живу за городом в некоем удивительном доме. Ближайшие соседи – в нескольких милях, там живет девушка, ждущая от меня известий. Я не могу ее навестить. Кто-то, какой-то старик – наверное, ее отец, – постоянно звонит, желая что-то сказать, но это касается не дочери, а чего-то другого, потому что, когда однажды надо мной пролетал самолет, он разрешил мне сказать (кому?), что на нем мое письмо. Помнится, я направил бинокль в ту сторону, где жила девушка, и долго смотрел. Я увидел блондинку (Кайя)[317]317
То есть Кайю Юл, датчанку, с которой у Дж. Ф. был роман во время его пребывания на юге Франции летом 1948 г. См. Введение, с. 12.
[Закрыть] в красном плаще и резиновых сапогах, за ней шел мужчина, в котором я угадал соперника, и почувствовал ревность и злость. Потом пришло известие, что девушка покончила с собой. Следующее, что помню: я сижу за столом, в комнату входит Дионисос, один из школьных официантов, и говорит: «Она написала стихи о тебе». В руках у него большой лист, на нем множество напечатанных строф. Неожиданно я ощущаю прилив радости. Не помню, чтобы я испытывал горе по поводу смерти девушки. Переданный Дионисосом лист бумаги становится в моих руках книгой. Странной книгой, полной сюрреалистических фотографий и всяких печатных трюков. Название – нелепая игра слов. Я его не помню, но автором значился А. К. в роли Графа. К моему величайшему сожалению, я увидел дату издания – 1916 – и печально улыбнулся, решив, что это шутка. Но когда стал читать книгу, то заметил, что она необычно напечатана: казалось, каждая ее страница покрыта тонким слоем кремовой краски, – и тогда я понял, что книгу реставрировали. Некоторые страницы выглядели черными, рисунки и печать невозможно было различить под закрепляющими эмульсиями. На других же поверх них чернилами были нанесены новые записи, а фотографии четко показывали, что 1916 год – неверная дата. На глаза мне попалась фотография девичьей головки поразительной красоты – классические черты лица, высокие скулы и большой выразительный рот. Девушка была похожа на Марлен Дитрих, или, скорее, печальным выражением лица, на Грету Гарбо. Проглядывало и что-то общее с Констанс Фаррер, но девушка была гораздо красивее; длинные волосы обрамляли ее лицо. На одной фотографии она радостно улыбалась. На другой, напротив, была очень грустной – смотрела куда-то вдаль, а над ней висел муляж черепа. Я увидел там и свою фотографию, на ней отсутствовал рот, – вообще вся нижняя часть лица была плоская и невыразительная. Внизу – подпись, что-то вроде: «Садовник» или «Мой любимый садовник». Надо сказать, тема сада проходила сквозь всю эту книгу воспоминаний. Необычный фронтиспис – нарисовано окно, за стеклом широко улыбается бледное лицо. Поверх окна крупными буквами написано: «PAPADOPOULOS, A MOI LA REVANCHE!»[318]318
«Пападопулос, я отыгрался!» (фр.)
[Закрыть] (Интерполяция – посредством Дионисоса – в основной сюжет сна?)
Самым интересным для меня в этом сне было лицо девушки. Я сразу же ее узнал, и меня охватила нежная, романтическая грусть при мысли, что она умерла. Когда я проснулся, мне показалось, что я хорошо ее знал. Но где? Очевидно, что не в жизни (если это не К. Ф. и Брейфилд). Может, она пришла из другого сна? Я потом еще видел ее во снах, но содержания их не запомнил.
10 июня
Летний школьный праздник «В кругу семьи»; на три дня родители превратили остров в ад. Бесконечные рукопожатия, лицемерие, интриги, обжорство. Всей школой мы спускались к пристани, чтобы приветствовать прибытие «Нереиды» – парохода, на котором приплыли комитет[319]319
Школьный совет управляющих.
[Закрыть] и основная масса гордых родителей. На пристани мальчиков, одетых в белые костюмы, выстроили в два ряда, меж ними, подобно новобрачным, проходили гости. Наиболее почтительные учителя – по сути, весь греческий личный состав – окружили важных персон; обычная восточная возня за право пожать руку человеку, занимающему более высокое положение. Множество льстивых улыбок и притворной веселости. Напыщенность греческих высокопоставленных чиновников и низкопоклонство подчиненных отвратительны. Это приводит меня в ярость, и я становлюсь мрачным.
Долгий уик-энд, полный всяческих церемоний, богато одетых некрасивых женщин и тучных мужчин в серых костюмах. Все родители одинаковы – буржуа, нувориши; говорить с ними невозможно. Исключения все же есть; отец Везироглу, обворожительный доктор с усами моржа, от него исходит ощущение мудрости и добродушия. Еще один замечательный пожилой человек, у него юный сын, и нельзя не заметить, как нежно они любят друг друга, как поглощены общением; отец задумчив и молчалив, да и сын тоже говорит мало, их переполняют эмоции и чувство удовлетворенности. Но остальные довольно мерзкие. Никогда еще Мольер и Моцарт не метали бисер перед таким количеством свиней.
Устроили спортивные соревнования, стадион был набит до отказа. Когда поднимали греческий флаг, все встали. В середине подъема что-то треснуло, и, ко всеобщему ужасу и моему восторгу, флаг рухнул на землю. Члены комитета – мы сидели в королевской ложе – были в ярости, ученики оцепенели от страха, директор почти в слезах. Быстренько принесли еще один флаг и прикрепили к мачте. Я сожалел, что флаг не достиг вершины. Он был огромен, а мачта хлипкая и тонкая, как розга. Думаю, тогда зрелище было бы еще веселее. Все пошло обычным порядком, но атлетические соревнования прервали в середине: приехал заместитель премьер-министра, Венизелос[320]320
Софокл Венизелос (1894–1964) – лидер Либеральной партии, разделившей власть с Национально-прогрессивным союзом. Его отец, Элефтериос Венизелос (1864–1936), бывший премьер-министром в 1910–1915, 1924, 1928–1932 и 1933 гг., – самый влиятельный греческий политик первой половины двадцатого столетия.
[Закрыть]. Все приостановилось, смешалось, оркестр заиграл до нелепости слащавый приветственный марш. Великий человек, пяти футов росту, пересек поле, вызывая представление о диктаторе на отдыхе, за ним толпой следовали разные знаменитости. Краснолицый белобрысый коротышка щедро помахивал всем рукой политика, расточал вежливые улыбки политика и демонстрировал грубовато-добродушные манеры политика. Даже четырехлетний карапуз мог бы догадаться, что популярность этого дяди раздута, что он всего лишь марионетка, ничтожество. Послышались вежливые аплодисменты, один или два энтузиаста что-то выкрикнули. Все презирают Венизелоса. Известно, что он держится только за счет заслуг отца и крупных капиталистов, чьи интересы он поддерживает. И как все же характерно, что греки его терпят, называют «великим», несмотря на всю его очевидную заурядность. Он вознесся, и его чтут. Ни один человек в Греции не добился большего.
Мы с Шарроксом в этот вечер лицезрели писателя Кацимбалиса. Это его Генри Миллер назвал Колоссом в «Колоссе Маруссийском», плохой книге, как мне теперь кажется и в чем я убедился, увидев воочию Кацимбалиса. В нем есть что-то от обманщика и прирожденного болтуна, у которого одна забота – произвести впечатление на окружающих. Дородный, крепкий мужчина лет примерно шестидесяти, седая шевелюра, брюки цвета хаки и трость. Что-то армейское есть в его облике, наигранная веселость. Его портрет в книге Миллера, похоже, так же точен, как описание Пароса[321]321
В «Колоссе Маруссийском» Миллер описывает свое пребывание на острове вместе с Кацимбалисом и поэтом Сефериадисом.
[Закрыть].
Кацимбалис находился в обществе семейства Тэтем, директора Британского совета в Афинах и его жены. Муж – высокий, весь во власти условностей, типичный англичанин; из тех, про которых понятно, что они преподавали в Итоне, еще до того, как они сами об этом скажут. Жена – великанша с лошадиным лицом, из среды крупной буржуазии. Жеманная, неглупая, пьющая джин женщина, явно презирающая мужа. Он курит трубку – старший офицер, который снизошел до общения с подчиненными. Не могу сказать, чтобы он мне решительно не нравился; ему повезло, что у него такая противная жена, – по контрасту с ней он смотрится неплохо. Это особы, помешанные на карьере, снобы, коллекционирующие знаменитостей, однако они очень влиятельные люди, и потому я предал себя, став послушным пай-мальчиком и энергичным спортсменом. Похоже, литература их не интересует.
Наша пьеса (в основном моя) имела (как мне кажется) успех. В амфитеатре было много народу, тысячи две или около того, над шутками смеялись. Думаю, результат стоил наших мук. После спектакля обычные горячие, неискренние поздравления. А во время представления за кулисами сплошные волнения. В «Сне в летнюю ночь» были заняты двадцать греческих мальчиков, а с ними не очень-то поспишь! Эта необычная труппа обожала торчать за кулисами. Постоянный страх провала и борьба – чтобы его избежать.
После того как все кончилось, мы с Шарроксом пили до 2.30 в таверне «У Георгоса» и любовались морем. Ш. несколько разоткровенничался – сказал, что не умеет быть грубым с людьми. Как обманчива внешность, скрывающая застенчивую, робкую личность! Под конец он напился и, когда мы возвращались, пытался поджечь наш театр на открытом воздухе. Но, увидев, как пламя стало распространяться, быстренько его затушил. Он делал это дважды, но не в его натуре дать себе волю. Думаю, все, на что он способен, – это прожигать в пустом театре дырочки в декорациях.
Сейчас все вернулось к норме, воцарился покой.
11 июня
Пустота и поверхностность нашей школы. Наш коллега Аб-делидес, учитель французского, старый, страдающий заиканием румынский грек, эгоистичный, обидчивый, нервный и злой старик, задал своим дребезжащим, невнятным голосом вопрос на греческом языке Афанассиадису, нашему двенадцатилетнему школьному шутнику. Тот без всякой задней мысли, совсем не желая обидеть учителя, ответил, не подумав, по-английски. Абделидеса это вдруг задело за живое, он вскипел, стал орать и колотить мальчишку, пока тот не разревелся. Абсолютно неадекватная реакция. Когда Абделидес проходил мимо меня, я спросил:
– Mais pourquoi? Qu’est-ce qu’il a fait?[322]322
За что? Что он сделал? (фр.)
[Закрыть]
– Je l’ai demandé (типичная грамматическая ошибка) une question, il m’a répondu en anglais. Voilà le type![323]323
Я задал ему вопрос, а он мне ответил на английском языке. Вот типчик! (фр.).
[Закрыть]
Бедняга Афанассиадис стоял и рыдал, иногда издавая беспомощные протесты.
* * *
Экзамены Абделидес превращает в фарс. Раздав вопросы, он тут же начинает ходить по комнате, подсказывая ученикам ответы: нужно, чтобы результаты его деятельности пристойно выглядели. Гиппо, присутствовавший на одном таком экзамене, вернулся, кипя от возмущения, и спрашивал меня, как ему поступить. Он был готов закатить скандал. Я посоветовал ему пойти к директору. К моему удивлению – я-то думал, он ищет для себя выгоды, – Гиппо спросил у директора, мог ли он в качестве наблюдателя помешать учителю помогать ученикам. Директор довольно резко ответил, что его обязанность – следить за дисциплиной, и больше ничего, и прибавил, что Абделидес поступает правильно, помогая ученикам.
Тимайгенис, учитель богословия, предупредил учеников, что они получат высший балл, если напишут хотя бы одну страницу на его экзамене.
Иногда на меня нападает тоска – сегодня мне пришлось пять часов надзирать за учениками, готовящими домашние задания. Мальчики с четырех до девяти находятся взаперти, их выпускают только два раза, на десять и на двадцать минут. На сегодня у них такое расписание: подъем в 6.00, занятия 6.00—7.30, завтрак, экзамен 8.00–10.30, занятия 11.00–13.00, обед, сиеста 14.00–16.00, занятия 16.00–21.00, ужин, сон – 22.00. Очень плотный график – сегодня вечером они сидели с остекленевшими глазами, шуршали бумагами, зевали, дерганые, уставшие. Им даже не разрешают плавать – за исключением особых дней, когда они слишком измучены, чтобы заниматься.
Мелкие интриги, лицемерие, убогость школьной системы душат меня. Атмосфера, близкая к иезуитскому колледжу, здесь – поколение за поколением – губит учеников. Ненормально жесткие порядки, слишком большие нагрузки, нечестность и лживость на всех уровнях – в суждениях, оценках, целях, результатах. Мальчикам следовало бы бегать по острову, им нужно дать больше свободы, достаточное количество времени для разного рода увлечений, игр, а в оценках проявлять больше строгости. Но прежде всего – жесткая система наказаний. Пусть наказанием станет свежий воздух – без него школа навсегда пребудет затхлым учреждением, теплицей, где зреют компромиссы, интриги; местом, презираемым учениками и ненавидимым учителями.
Тем временем наступает время дружной трескотни цикад; солнце непрерывно шлет с неба раскаленные лучи; море синее и, как всегда, ласковое, великолепное. Слава Богу, бриз не прекращает дуть.
Светоний – о Нероне, самом удавшемся злодее в его галерее. Он встал на сторону зла по собственному выбору – логическому, в то время как другие поступали так по традиции или по собственной слабости. Чувствуется, что Нерон мог бы с тем же успехом стать хорошим человеком, – во всяком случае, выдающимся артистом и мыслителем вроде Ницше или Камю. Во многом виновато его положение. Как личность Нерон мог бы проявить себя по-другому, но он понимал, что логическим концом абсолютной власти неизбежно является абсолютное зло.
Его слова: «Ни один правитель еще не знал, какой властью он на самом деле обладает». Страница, на которой описана смерть Нерона, – великолепный образец исторического сочинения, живой, обстоятельный. Его предсмертные слова: «Какого артиста теряет мир!» – отражают сущность абсолютной власти. Вот где была его игра. А его замечание по поводу завершения баснословно дорогого Золотого дома[324]324
Так называли огромный дворец, который Нерон построил для себя после большого пожара, уничтожившего половину Рима (64 г. н. э.).
[Закрыть]: «Наконец-то я буду жить как человек».
Наше отношение к прошлому. Нерон привлекает меня своей исключительной жестокостью, уникальной сардонической чернотой. Нельзя сочувствовать веку, в котором он был тираном. Слишком далеко отстоит тот во времени. В прошлом предпочитают видеть разнообразие, яркость и жестокость. Любить историю означает любить страдания своих сородичей. Любить беспристрастность суждений, отстраненность удовольствия. Историк – садист. Если мы говорим, что сочувствуем прошлому, то только по традиции. Логически нет никакого смысла жалеть fait accompli[325]325
То, что уже свершилось (фр.).
[Закрыть] и что невозможно исправить. Каким бы варварским ни было прошлое, оно стало истиной, а истина неприкосновенна, неизменяема.
Госпожа Адоссидес, la grande dame[326]326
Знатная дама (фр.).
[Закрыть] Спеце. Мы с Шарроксом посетили ее поместье на противоположном конце острова; там плантация оливковых деревьев и небольшой, но комфортабельный дом, окруженный живописными террасами: яркие цвета, блеск солнца и защита для цветущих кустарников. Сама хозяйка – тучная пожилая дама, седовласая, глаза доброжелательно взирают из-под нависших век, сбоку к ним подходит морщина – она, как говорят, свидетельствует о гуманности натуры. О терпимости и глубине ума.
Она много занимается благотворительностью, свободно говорит на пяти языках, энергичная, умная, прямая. Несколько придирчивая и жесткая старая дама. Всю войну 1914–1918 гг. она работала сестрой милосердия, во время второй ей тоже пришлось нелегко; с тех пор она постоянно сотрудничает с Красным Крестом, отыскивая по всей Европе следы пропавших греков и оказывая помощь жителям пострадавших деревень в Северной Греции. Глубочайшее презрение к ЮНЕСКО, выпускающей брошюры, в то время, когда люди голодают. Она знает много военных историй, подробно рассказывала о кочевниках. Казалось, боль и страдания завораживают ее, несмотря на все старания их облегчить.
Мы сидели и смотрели, как солнце опускается за холмы. На ближайший кипарис села сова и издала зловещий крик. Нас накормили ужином, очень хорошим ужином, на открытом воздухе при свете лампы; звезды мерцали на бархатном небе. Госпожа Адоссидес рассказывала о Сопротивлении, итальянцах, своей неприязни к джазу. Влиятельная умная женщина, политический лидер тысяч людей.
Она вызывает у меня восхищение, но не любовь.
На днях я поймал маленького осьминога. В маске все кажется крупнее, чем есть на самом деле, и он тоже выглядел довольно большим. Я ударил его острием палки, но он уполз под камень, который мне после долгих усилий удалось перевернуть. Несколько деревенских мальчишек с испугом и восхищением следили с берега за моей титанической борьбой. Они явно ждали чего-то необыкновенного. Когда я вышел на берег с малышом осьминогом, извивавшимся на конце палки, и бросил его на камни, чтобы его добили, они не могли скрыть своего презрения. Один, самый маленький, поднял осьминога и сказал примерно следующее:
– А почему вы не вытащили его просто рукой?
Осьминог был не больше фута длиной. На следующий день я видел еще одного осьминога – меньше уже быть, наверное, не может. Но я все равно не мог себя заставить взять эту кроху в руки. В облике осьминога, этой текучей, колышущейся массе, даже если она миниатюрна, есть что-то ужасное.
21 июня
Конец близок. Семестр заканчивается через три дня. Младшие школьники уезжают завтра. Предчувствия грядущих перемен, планы, прощания, чувства как ностальгические, так и прямо противоположные.
Последние недели солнце отчаянно палит, оно повсюду. Весь день дует жаркий восточный ветер, звенят tzitzikia, греческие цикады; они живут на каждой пихте, на каждой ее ветви. Провожу долгие часы в море, плаваю среди рыб. В столовой всегда рядом Гларос, между нами установились особые отношения – вроде идеального (платонического) брака. Его ясные темно-карие глаза с ослепительными белками иногда встречаются с моими. Я заглядываю под его ресницы, мы читаем мысли друг друга. Думаю, он догадывается о моих чувствах, хотя я избегаю физического контакта с ним. Я получаю все большее удовольствие, когда вхожу в помещение, где живут младшие школьники; мне нравится ходить среди них, быть рядом, смеяться над ними и вместе с ними. Все они загорели и стали как маленькие мавры – раскованные, эгоцентричные, полные энергии, – никаких розовых щечек и льстивых речей. Нежные, грациозные линии тел – уже на грани половой зрелости. Не вижу ничего предосудительного в моем восхищении и в том, что позволяю его себе. Можно находиться между пороком и страхом перед ним, жить на краю дозволенного. Ученики восьмого класса, нынешние выпускники, приводят меня в восторг. Они тискают хорошеньких мальчиков из младших классов и нежно им улыбаются. Внезапное осознание преимуществ убежища.
Пытаюсь шантажировать комитет – прошу дать мне расчет, хотя и мучаюсь мыслью: не убиваю ли я утку, несущую золотые яйца. В конце концов, на здешнее существование грех жаловаться – все время светит солнце, нагрузка в среднем два часа в день – и это за 520 фунтов в год. Нет нужды иметь идеалы, чувство ответственности, не надо волноваться, что избрал второсортную métier[327]327
Профессию (фр.).
[Закрыть] – ведь на Спеце трудно всерьез считать себя учителем.
Вечером сижу на террасе у моря в таверне «У Георгоса» и смотрю, как солнце опускается за кипарисы и белые домики, ветер стихает, море успокаивается, горы Арголиса постепенно синеют и наконец становятся бархатисто-черными, а над ними загораются звезды. И в этой тишине, жуя оливки и прислушиваясь к разговору рыбаков за соседним столиком, я понимаю, что живу, живет мое тело.