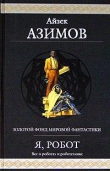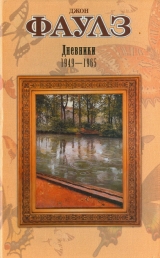
Текст книги "Дневники Фаулз"
Автор книги: Джон Роберт Фаулз
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 58 страниц)
«Билли-лжец». В этом фильме играет девушка, Джули Кристи; ее пробуют на роль Миранды. У нее то самое лицо – лучше, чем я ожидал. Исполнительницы с лучшими внешними данными им не найти. А Клегга будет играть Теренс Стэмп. Ставить фильм должен Джон Шлезингер, но, увы, ему послали сценарий.
29 августа
Ищем дом в Лондоне. Элиз занята этим целыми днями. А я не очень-то представляю, где мне хотелось бы жить: в Лондоне, или за границей, или за городом. Да и в плане финансов это не так уж греет, при нынешних ценах. Самые дешевые дома, в самых паршивых районах, стоят около десяти тысяч фунтов. А в Хэмпстеде не меньше пятнадцати. Нам придется занимать не меньше половины стоимости покупки. И поневоле думаешь о тех писателях, которые всю жизнь прожили в жалком положении должников.
Уайтинг «Бесы». Превосходная пьеса[758]758
Джон Уайтинг (1917–1963) положил в основу своей пьесы книгу Олдоса Хаксли «Бесы Лудена», описывавшую реальный случай одержимости дьяволом во Франции в XVII в. Премьера пьесы состоялась в театре «Олдуич» в 1961 г.
[Закрыть]. Печать гения, редчайшая вещь в современной литературе. Мысль сделать ее как мозаику коротких сцен – это да. Если надумаю писать Робин Гуда, надо взять ее на вооружение.
Гений – это когда признаешь в другом достижение, на которое сам в данной ситуации неспособен и которого сам бы стремился достичь. В подобных случаях неизменно испытываешь восторженный шок. Ибо любопытное свойство гения в том, что он убивает зависть.
4 сентября
Издательство «Литтл, Браун» выражает желание, чтобы я съездил в Америку и принял участие в рекламной кампании романа.
Голдинг «Повелитель мух» и «Воришка Мартин». Первый роман лучше, хотя его финал и неверен. Ральф должен погибнуть, а Земля – оказаться под властью темных сил[759]759
В романе «Повелитель мух» (1954) за Ральфом начинается охота, как только терпит крах его попытка объединить сверстников по школе в подобие цивилизованного сообщества на острове, где они оказались в результате воздушной катастрофы; в итоге его спасает от гибели появление военного судна.
[Закрыть]. Второй роман tour de force[760]760
Блестящий образец (фр.).
[Закрыть] отображения физического мира; однако флэшбэки в нем разительно слабы[761]761
Герой-повествователь романа «Воришка Мартин» (1956) – офицер британского флота, в результате кораблекрушения выброшенный на скалистое побережье посреди Атлантического океана. Лихорадочно пытаясь выжить, он вспоминает подробности своей былой жизни.
[Закрыть]. По-моему, Голдинга по большому счету можно упрекнуть в следующих недостатках: 1) следуя традиции Кафки (Рекса Уорнера), он рисует экстремальные ситуации экспрессионистически – а экспрессионизм и экстремальная ситуация плохо сочетаются друг с другом, одно подставляет ножку другому, ослабляет эффект воздействия; 2) его диалоги несовершенны; 3) его пространные описания физических ощущений и действий в конце концов делаются взаимоисключающими – то есть на практике читатель перелистывает эти страницы. Правило: чем экстремальнее и фантастичнее описываемая ситуация, тем реалистичнее (фотографически четче) и строже должны быть описания и диалоги. Примеры: «Робинзон Крузо», «Слепящая тьма». И наоборот: чем обычнее ситуация, тем более экзотичными и фантастичными могут быть язык и диалоги. Примеры: «Улисс», «Миссис Дэллоуэй».
«Коллекционер» – на третьем месте в списке бестселлеров журнала «Тайм».
Перелет в Америку. Он пугает меня. Статистика ничего не значит. Шансы выжить, похоже, пятьдесят на пятьдесят. Не то чтобы смерть что-то значила. Странно, но сейчас я был бы не против погибнуть. Несмотря на незавершенность всего на свете.
14–23 сентября
Как и большинство людей, называющих себя социалистами, я впервые отправился в Штаты, волоча за собой чемодан, битком набитый накопленными за всю жизнь предубеждениями против этой страны – предубеждениями, смягчаемыми немалой долей симпатии к американской литературе и немногим блестящим выходцам из Америки, с которыми сталкивался то тут, то там в Европе, и усугубляемыми всем остальным. Так или иначе мне предстоит объяснить, как неделю спустя я возвратился оттуда по-прежнему социалистом (на свой манер), но к тому же безнадежно влюбившимся. Не то чтобы в этой стране не было изъянов, напротив, они так же явственно различимы, как прыщи на физиономии подростка; однако никто никогда не потрудился рассказать мне, сколь неотразимо наивен, мил и симпатичен этот бедный юнец. И потому, рискуя тем, что все мои знакомые в один голос заявят, что я непростительно сентиментален, замечу, то, что я напишу, будет по большей части во славу Америки. Хотя бы для разнообразия.
Подлетая к Бостону, вооруженный комплексом неполноценности qui-vive[762]762
Настороже (фр.).
[Закрыть], приземляешься. Череда неряшливых одноэтажных зданий, грязный коридор, облупившиеся стены, оконные рамы казенного бурого цвета, на стеклах окон зеваками намалеваны снаружи бесформенные каракули, пауки света, пробивающиеся поверх голов сотрудников управления по иммиграции. В Европе такое считалось бы национальным позором, а здесь полагается нормальным, непритязательным. Ага, думаю, вот презренный ирландец из Бостона, ну поглядим. Подхожу к самому малосимпатичному из чиновников. Он пробегает глазами мою анкету. Рвет, достает другую и аккуратно заполняет ее за меня. А когда я бормочу извинения, отзывается:
– Сделали бы понятнее. Ну вот, – продолжает, – надеюсь, вы прекрасно проведете у нас время.
С этого момента я не перестаю удивляться.
Встречал меня Нед Брэдфорд, главный редактор издательства «Литтл, Браун», невозмутимый интеллектуал-администратор. Очки, увеличивающие голубые глаза. Кварталы Бостона, которые мы проезжали, тоже выглядели обшарпанно – непритязательно. Потому что именно такого, приезжая в Штаты, не ожидаешь: грязи, ржавчины, обшарпанности – словом, обычных простительных недостатков старых цивилизаций.
По автомагистрали движемся на юг к Маршфилду, минуя места с английскими именами: Веймут, Брейнтри; а чуть позже их сменяют, смешиваясь с английскими, благозвучные индейские названия: Нантакет, Кохассет, Сайтуэйт. А потом Плимут А потом Кейп-Код.
Самое большое потрясение – красота жилых домов в сельских местах Новой Англии: коттеджей, хижин и домишек в кейпкодском и колониальном стиле. Прекрасные строгие цвета, в которые они выкрашены. В основном белые, а ставни и другие фрагменты отделаны в серое, синевато-стальное и опять же белое; то тут, то там промелькнет темно-красный дом с оконными рамами и дверями, окрашенными белым. И дома не теснятся, подпирая друг друга. В Америке земля дешевая, а это влияет на национальное сознание. В этих краях, если вы намерены строить дом, нужно купить по меньшей мере акр.
Атмосфера, царящая в доме Брэдфорда, построенном в 1780 году, – абсолютно неофициальная, замешенная на полном бытовом благополучии (воспользуюсь этим словом, начисто игнорируя тот уничижительный оттенок, с каким его обычно употребляют). Просто здесь живут непринужденно и приятно, среди изящных вещей, наслаждаясь простором, газонами, озером, лесом.
– Мы просто хотим жить сами по себе, – говорит Пэм Брэдфорд, – И по-своему.
Одной из трагедий Америки мне представляется то, что, испытывая двустороннее давление – давление конформизма и весьма поверхностного потребительского процветания, порядочные люди, интеллектуалы впадают здесь в ностальгическую тоску по уединению (отголоски Торо), а непорядочные – в секс, пьянство и сеансы психоанализа. Фыркать над неврозами, по рождаемыми богатством, нетрудно. Я и сам нередко так поступал. Но социализм игнорирует эту сторону американского приключения на собственный страх и риск. Между тем и в этом, как во многом другом, они по-пионерски предугадывают и наши будущие пути.
Дух пионеров. В кухне старая плита. «Когда случается ураган, приходится все делать на ней». Рядом со всеми атрибутами современного комфорта она выглядит неуместной. Неуместной и, разумеется, до глубины души трогательной. Таков еще один пример не столь очевидного обаяния этой страны. Тесное соседство сложной бытовой техники с девственными лесными чащобами. С деревьями без конца и края.
В понедельник утром под дождем отправляемся обратно в Бостон. Он кажется невообразимо уродливым, неприветливым, грязным, хотя окрестности Бикон-Хилла по-своему привлекательны.
– Это красивые места, – говорит Нед.
Он не прав. Изящной городской архитектуры здесь кот наплакал. Несколько со вкусом отделанных эркеров и дверей в колониальном стиле, но по большей части – нескончаемые ряды приземистых викторианско-эдвардианских домов из бурого песчаника. И утомительные пробки автомобилей с удлиненным корпусом. О, с каким апломбом американцы управляют своими громоздкими машинами! Даже дряхлые, побитые жизнью старики, оказываясь за рулем, напускают на себя беспечно-неприступный вид, силясь сойти в могилу, не утратив дежурных признаков мужественности. Жалкое зрелище, маскирующее тоску по утраченному человеческому достоинству.
Боб Фетридж. Заведующий отделом рекламы и продвижения издательства «Литтл, Браун», ему, как все утверждают, я в наибольшей мере обязан популярностью книги.
– Вид у него как у детектива в торговой лавке, – говорит Нед Брэдфорд.
Но он всего-навсего стеснительный нервный человечек с колючим, напряженным взглядом. Мне он нравится. В мою честь устроен торжественный обед в приватной клубной столовой; на нем присутствуют оба Артура Г. Торнхилла – старший и младший. Старший – костлявый старикан, не чуждый доброй старой гордыни своими издательскими деяниями и откровенно презирающий тех собратьев, кто, стремясь укрепить позиции на книжном рынке, опускается до порнографии (вроде «Скрибнерса», недавно опубликовавшего «Фанни Хилл»). Младший – вышедший из стен колледжа начинающий администратор, старающийся во всем напоминать англичанина и не совсем уместный в кресле одного из глав корпорации. Вокруг, очевидно насторожившись, разместились заведующие разными отделами, подгадывая момент вставить нужное словцо, продемонстрировать ожидаемое «непредвзятое» мнение, процедить реплику в сторону (для смеха). Сами по себе люди – приятней не придумаешь, либералы; однако на таких встречах довлеет должностная иерархия, понуждающая всех и каждого действовать по заведенному шаблону, а в основе этого шаблона – опять же власть.
Власть – это и есть Америка. Невроз власти; применение власти; поэзия власти; психология власти. Длинные автомобили, широкие струящиеся автомагистрали и эстакады, высоченные здания, масштаб и простор. Здесь все, даже самый обычный разговор, все, чему свойственны масштабность, энергия, размах, становится символом, эмблемой, метафорой власти.
Летим в Нью-Йорк. Всю дорогу небо затянуто облаками, но вот мы снижаемся, и перед нами Гудзон, Ист-Ривер, статуя Свободы и гигантская гроздь небоскребов на Нижнем Манхэттене. Останавливаем типичнейшего, по заверению Боба Фетриджа, нью-йоркского таксиста: с гортанным бруклинским акцентом («Трэ-э-тье, авэну-у»), говорящего не закрывая рта, с места в карьер предлагающего стать нашим проводником по Гринвич-Виллидж («Я был копом в полиции нравов, я вам все покажу»).
Университетский клуб. Очень степенно и пристойно. Женщинам вход воспрещен, и вообще зеркально напоминает лондонские, вплоть до дремлющих в креслах старых развалин в читальном зале. Но у меня отличный просторный номер, роскошная ванная. Добротный уют. В окна просматривается дворик Музея искусств, а на расстоянии десяти ярдов Пятая авеню.
Поэзия Нью-Йорка: город под облаками, вершины небоскребов тонут в поднебесье. Солнечный свет, застекленные скалы парят в голубом небе, заоблачные города. В дали необозримых проспектов – умиротворенность в духе Клоде Моне. На зелени листвы – ласкающая дрожь солнечных бликов. Нью-Йорк оживлен, прохладен, юн. Девушки в платьях без рукавов.
Знакомлюсь с Наоми Томпсон, рекламным агентом издательства «Литтл, Браун», – лет сорока близорукой американкой со скандинавскими корнями, пухлой, любящей покомандовать и по-своему сумасшедшей; из нее как из рога изобилия сыплются рекламные восторги и искушения. Вся сиюминутная, пребывающая в непрестанном напряжении, она, как бармен-алкоголик, поглощает и исторгает галлоны литературных слухов. А где-то глубоко в ней ждет пробуждения милая домашняя женщина нордического склада.
Ритм Нью-Йорка. На пути от одного интервью к другому вскакиваешь и выскакиваешь из такси. Это вовсе не так нервирует, как можно предположить (или как любят посетовать местные жители). В Нью-Йорке напрочь отсутствует суета. Входишь в студию, пожимаешь руки, проверяют микрофон, отвечаешь на вопросы, пожимаешь руки, выходишь. Никаких пустопорожних благоглупостей публичной жизни Лондона, которые так изматывают.
Американцы интервьюируют гораздо лучше англичан, проще, раскованнее, стремясь не столько уколоть, сколько выяснить, во что ты действительно веришь, для чего делаешь то или другое, кто ты на самом деле. Моя задача – объяснить им, что такое экзистенциализм, по-прежнему прочно ассоциирующийся в американском сознании с битниками и Норманом Мейлером – нью-йоркским шутом гороховым, по нечаянности снискавшим в народе репутацию гуру. Раз или два меня попытались уткнуть носом в дело Профьюмо, но в целом общественность понимает, что весь этот скандал – не более чем фурункул, который нужно было вскрыть; и как бы то ни было, при той скорости, с какой деградируют на Западе сексуальные нравы, ни одна страна не может позволить себе роскошь высмеять другую, кивая на такой прецедент.
— О да, мы посмеиваемся, – сказал мне один из жителей Нью-Йорка. – Посмеиваемся, а пальцы держим скрещенными[763]763
Скандал с лордом Профьюмо не сходил с газетных полос с марта месяца, когда министр обороны Великобритании опроверг в парламенте слухи о своих «неподобающих» отношениях с Кристиной Килер. В июне Профьюмо признал, что ввел парламент в заблуждение, и подал в отставку. В августе того же года популярный в высшем свете врач Стивен Уорд, некогда познакомивший министра с Кристиной Килер в поместье лорда Астора в Кливдене, покончил самоубийством, будучи привлечен к судебной ответственности за то, что жил на средства, добытые безнравственным путем.
[Закрыть].
Дни пролетают так быстро, что кажется, будто все происходит во сне. Поднимаюсь в 7.30 – для того чтобы позавтракать с Нортоном Мокриджем из «Уорлд телеграм». Это не чурающийся отеческой фамильярности тип (вроде бы редактор отдела городских новостей, и брать такого рода интервью ему не приходилось уже много лет) с усыпанной веснушками лысой головой и внешним добродушием, отличающим ньюйоркцев постарше. Светскость американцев – вещь очень импонирующая. Следует долгая серьезная беседа. Однако интервью за завтраком – на самом деле занятие весьма утомительное. В 9.30 моего собеседника сменяет Митчелл Краусе; таких, как он, я чую за километр. Нервный, деланно доброжелательный, изворотливый, как акула, и столь же «неподдельный», как мышь из пластика; прямо-таки гремучая смесь мнимого и настоящего коварства. Во время разговора то и дело с опаской оглядывался по сторонам, пальцы подрагивали. Похоже, моя флегматичность выводит из равновесия не слишком опытных – и не слишком искренних – интервьюеров. И меня это радует.
Потом три головокружительных часа с Маргерит Лэмпкин – знаменитой интервьюершей отдела культурных новостей «Кон-де-наст». Стройной девушкой в солнцезащитных очках, с неврозом, который она преподносит как самые дорогие французские духи, и луизианским акцентом, убаюкивающим, как нескончаемая любовная ласка (что ей прекрасно известно). Я общался с нею и Брюсом Дэвидсоном, асом фоторепортажа журнала «Вог», очень неглупым, неформальным – словом, «простым пареньком» вроде Джеймса Дина. Он почти все время отмалчивался, будто застенчивый подросток. А ведь это самый высокооплачиваемый журналист в самом высокооплачиваемом журнале в Штатах. Между нами тремя как-то спонтанно установился дружеский контакт в духе «Новой волны»: последовала серия снимков в невероятных позах на фоне здания компании «Сигрэм». Маргерит работала с Теннесси Уильямсом, жила с Ишервудом, знала Фредди Эйра. Все это сыпалось из ее уст в неповторимом кисло-сладком тоне.
– Мо-ой второй муж был таким у-умным. Вы не представляете. С ним было так интере-есно дни и ночи напролет, с мои-им му-ужем… – Ох эти ее бесконечно тянущиеся гласные.
– Бросьте, – говорю, – вы же специально выворачиваете слова.
– Не-ет.
– Черта с два.
Она наморщила свой милый носик с удивлением, столь же неподдельным, как фарфоровая безделушка Фаберже.
Мы двинулись в сторону Центрального зоопарка; зоопарки мы все терпеть не можем. Раз десять мою персону запечатлели на фоне полярных медведей. Прогуливаемся по парку, и тут мне приходит идея сделать ряд снимков в стиле Антониони: в смехотворных и неожиданных позах. Будто я Марчелло Мастроян-ни, а она Моника Витти. Дэвидсон приходит в восторг и танцует вокруг нас, словно Ариэль. Глядя на нас, люди на тротуаре застывают от удивления и сами столбенеют, озадаченные и слегка шокированные. А мне по-настоящему весело. Мы провели друг с другом пару часов, не сказав ни единого серьезного слова, и, после всех тяжеловесных выяснений, что я имел в виду под одним, под другим, вдруг сделалось так легко, так безыскусно.
До постели добрался в половине второго, а уже в 6.15 вновь поднялся: предстояло главное событие недели – интервью в самой престижной утренней телепрограмме «Сегодня с семи до девяти». Она транслируется на всю страну и имеет очень высокий рейтинг. Меня усадили между женой Сааринена[764]764
Имеется в виду Алине Сааринен (1914–1972), выдающаяся исследовательница искусства и архитектуры, вдова финского архитектора Ээро Сааринена (1910–1961).
[Закрыть] и Бобби Кеннеди, так что издательству остается сгорать от восторга. Я чувствовал себя непринужденно, никаких заминок, хотя обсудили мы и не все, что мне хотелось бы.
Интервью с Льюисом Николсом из «Нью-Йорк тайме». Грузный, обрюзгший человек с физиономией огромного мопса. Обладает типично нью-йоркским мрачноватым остроумием в самом концентрированном виде. Мне это импонирует, это трезвое преуменьшение всего и вся, сведение всего наивного к чему-то из области патологии – синдром Олби. Он был слегка навеселе и, очевидно, недоволен жизнью как таковой. Я тоже начал понемногу балансировать на грани дозволенного, и примерно час мы оба разыгрывали укороченный вариант пьесы «Кто боится Вирджинии Вулф?»[765]765
В пьесе Эдварда Олби, премьера которой состоялась на Бродвее 13 октября 1963 г., Джордж и Марта – супруги, напивающиеся за полночь в компании припозднившихся гостей-коллег Ника и Хани, – играют в жестокие игры, обвиняя друг друга во всевозможных слабостях и пороках.
[Закрыть]. Я, как мог, разошелся по части американцев.
– Господи, до чего же я ненавижу англичан, – снова и снова повторял он, извергая слова из своей чарлзлоутоновской пасти. Так мы и ходили взад и вперед по туго натянутому канату между раздражением, грозящим вылиться в битье посуды, и шутливым не-принимайте-всерьез-я-вас-просто-подначиваю; такое, впрочем, у ньюйоркцев вполне в обычае. Но под конец взяли себя в руки и закончили беседу на вполне миролюбивых тонах.
Моя книга – из тех, какие приняты в Нью-Йорке на ура. Всюду, где бы я ни показывался, люди стремились о ней поспорить, подискутировать о том, что я имел в виду, – и все оттого, что одна из затронутых в ней тем – тема импотенции: сексуальной, физической и психологической. Пьеса «Кто боится Вирджинии Вулф?» – о том же. Она задевает за живое постольку, поскольку речь идет о власти и импотенции, а отнюдь не из-за других вещей, о которых в ней говорится.
– Все американки хотят, чтобы их поимели в подвале, – заявила мне одна дама. – Мы все без ума от вашего злодея.
От такого поворота разговора я растерялся: ведь подобный эффект книги никому не мог прийти в голову. Однако, как бы я ни настаивал на этом, американцы мне не верят.
Пятничное утро. Мой желудок взбунтовался: слишком много крабов, устриц, виски, сигарет. Я принял две лошадиные дозы хлородина и остаток утра продремал, не совсем понимая, что вокруг происходит.
Глория Вандербилт. Едва стало известно, что эта девочка-женщина выразила желание встретиться со мной, у многих глаза выкатились из орбит[766]766
Ставшая в 1934 г. в возрасте десяти лет наследницей огромного состояния рода Вандербилтов, она получила прозвище «бедной богатой девочки» после того, как ее делу об опекунстве над нею.
[Закрыть].
– Вандербилт! – восклицают они. – Господи Боже!
Грейси-сквер, роскошный особняк, вверх на лифте, который ведет прямо в холл. И за угол. Очень стройное существо девичьего вида с седеющими черными, забранными вверх волосами и морщинками вокруг темных глаз; все это помогает взглянуть на нее как на обычного человека. И то, что она не красит волосы, и то, что не прячет следы пережитых печалей. В ее кабинете, отделанном готическим деревом, плохая картина в углу (ее собственной кисти) и застекленная дверь на террасу. Шампанское и горка икры в огромной хрустальной вазе со льдом. И трое редакторов журнала «Космополитен». Двое заместителей – приятные, обходительные, но главный – слишком вертлявый, слишком словоохотливый, лысеющий, очкастый, не упускавший случая впечатлить обожаемую Глорию. Мы пили шампанское (каждые полчаса она незаметно исчезала и возвращалась с новой бутылкой) и разговаривали, атмосфера постепенно теплела, я рискнул поиграть в игру «а если подумать серьезно…» и таким способом немного заткнул редактора. Глория мне подыграла и не раз говорила «да, да, да»; она, не приходится сомневаться, женщина, которой катастрофически недостает искренности, серьезности, какой она смогла бы доверять, и вообще – недостает того, во что она смогла бы поверить. Мы обнаружили, что нам обоим нравится Кэтрин Мэнсфилд.
– О, вы должны посмотреть, что есть у меня в спальне.
Я отметил про себя эту фразу, которая в любом другом месте Нью-Йорка с ходу вызвала бы каскад двусмысленных острот. Над ее наивностью смеяться не принято. Глория рассказала историю о Сэлинджере. Одна из ее подруг написала ему письмо, извещая, что хочет покончить самоубийством, вскрыв себе вены. «Режьте глубоко и держите руки под холодной струей, – написал он в ответ. – Кровь побежит быстрее». Подруга до сих пор жива. И еще одну историю – о девушке, которая писала ему длинные невразумительные письма. В один прекрасный день он ответил: «Не думаю, что хочу знаться с девушкой, которая пишет так плохо, как вы». Но вот через несколько лет вышла его повесть «Над пропастью во ржи». С тех пор девушка ходит и причитает:
– Но это же мои письма!
Еще она говорила о Трумэне Капоте и Уне Чаплин, своей «лучшей подруге», – да, она именно такая, американская девушка из общества. На самом же деле Вандербилт показалась мне наименее претенциозной и самой уравновешенной из всех, с кем я встречался в Нью-Йорке. Ну, разумеется (если уж отреагировать на это типично по-нью-йоркски), она может себе позволить быть уравновешенной. Бедняжка, она же всего-навсего самая богатая девушка в мире. Однако, познакомившись с нею, я затруднился сформулировать правильный социалистический ответ. В любом случае, она так подкупила меня своим пониманием того, что я попытался сделать в «Коллекционере» (который она уже прочла), что я с самого начала был застигнут врасплох. Оказалось также, что у нас одинаковые взгляды на искусство и писателей.
В восемь часов мне надо было пойти на пьесу Олби, но она все не отпускала нас, показывая апартаменты. Больше всего похожие на маленький дворец. Вверх по ступенькам поднялись в сад на крыше, на съемочную площадку высоко над Ист-Ривер – удлиненные белые стулья, кустарник, скульптуры и весь Нью-Йорк, распростершийся внизу. Она взяла меня под руку и заставила повернуться.
– Вот откуда я подглядываю. У меня есть полевой бинокль.
Кругом стоят многоквартирные дома. Так мы обнаружили еще одно любопытное совпадение во вкусах. Потом спустились на нижнюю террасу. Тросы, привязанные к огромным лампам, как насекомые, облепленные чудовищными геометрическими паразитами. Река автомобилей, движущихся внизу по набережной, пульсирующий поток яркого света. А на террасе, где мы стоим, все почти по-тибетски мирно и неподвижно. Комната с огромной каминной полкой, сделанной из позолоченных консолей в стиле Людовика XV и XVI, на каждой драгоценная ваза, отдает неожиданным сходством с магазинной витриной. По стенам развешаны ее картины: дети с цветами в руках смотрят на вас задумчивым, боязливым, уводящим в неведомое взглядом. Таким же, как взгляд ее карих глаз. Полотна слишком большие, впечатление от них удвоилось бы, будь они поменьше. Но в пастельных тонах и странной нездешности лиц есть некое очарование на манер Матисса. Они оказались намного лучше, нежели я ожидал.
Потом мы зашли в ее спальню, и там, на камине, стояла «уникальная фотография» («Я купила негатив») Кэтрин Мэнсфилд; на ней она выглядела очень серьезной, прямой, черные глаза словно бусинки смотрят прямо в твои со смутным беспокойством. Стоя рядом со мной, Глория сказала:
– Я поставила эти вещи рядом с ней, потому что она их так любила.
Две фигурки дрезденского фарфора: пастушки на фоне стены цветов.
У двери она берет обе мои руки в свои, другие гости порядком смущены, но мне-то ясно, что она хочет сказать, несмотря ни на что, несмотря ни на что.
На улице, в такси, мы отзываемся о ней как об уникальном феномене американской жизни, который она воплощает. Точнее, отзываются они. Ведь всем этим жертвам слишком больших денег время от времени хочется выпорхнуть из золотой клетки, а мне, писателю, ведомо, как держать дверь открытой – как, впрочем, и всем писателям с сотворения мира. Мы можем на миг освободить их, а всем им хочется быть свободными – хотя бы на миг.
Парни из «Космополитен» явно используют ее; она уже просила их перестать помещать ее лицо на обложке. Однако ей хочется быть писательницей, и, по-моему, в данный момент она пользуется своим именем, чтобы быть напечатанной; радости ей это не доставляет, но устоять она не в силах.
Словно всю жизнь пробыла Золушкой на балу. Всю эту неделю я тоже чувствовал себя Золушкой. О Золушке на балу можно написать пьесу, и в этой пьесе не будет ничего детского. Только блеск и тревога. Ветер, внезапно дующий в занавески, нежданный ветер, гуляющий по комнате. Потом звук сирен, доносящийся снизу, с реки, все громче, все ближе. Внезапная застенчивость, робость, что ее обуяла.
Айдлуайлд[767]767
Нью-йоркский аэропорт, построенный на одноименном поле для игры в гольф; в скором времени его переименуют в международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди.
[Закрыть]: магия дверей, автоматически раскрывающихся при вашем появлении, напоминает о фильмах Жака Тати. В холле БОАС – трое бизнесменов из Англии: все с трубками, в коричневых шерстяных костюмах; все смеются. Услышав шутку, один разражается хохотом, поворачивается, отходит на четыре шага, затем возвращается. До чего бесхитростные людишки. Не выношу агрессивной мужественности иных американцев, но эта мышино-козлиная непробиваемость английского самца просто тошнотворна. Весь обратный путь эта троица сидела впереди меня, строя глазки стюардессам, задавая глупейшие «забавные» вопросы.
– А снаружи нет дождя? (Само собой разумеется, на высоте 35 тысяч футов дождя быть не может.)
Стюардесса скалится дежурной улыбкой:
– Мне выйти и проверить, сэр?
Ха-ха-ха. Потешили девушку остроумием.
В Айдлуайлде отрываешься от земли в восемь вечера, в сумерки. А спустя четыре часа над Ирландией брезжит рассвет. Весь полет занял чуть больше шести часов. Назад на Черч-роу, 28; странно сознавать, что еще девять часов назад ты спускался по Пятой авеню, что отсюда в центр Нью-Йорка попадаешь скорее, чем, допустим, поездом в Венецию.
Равнинный ландшафт, отсутствие акцента – это Англия. Таково мое первое впечатление. Воздух словно выкачан. Америка горделиво высится, Англия стелется по земле. Я имею в виду, в архитектурном смысле слова. И нехватка силы: ток внезапно отключается, темп замедляется, давление падает, супермен скукоживается до обычного человека, власть становится фикцией, ее замещают общественный престиж и кастовая система.
Едем с Элиз инспектировать понравившийся ей дом в Долине здоровья. Не думаю, что вытерпел бы его и в лучшие времена, но смотреть его после этого опыта, заглядывать в крошечные комнатушки, чувствовать себя как в коробке, лицезреть его нынешний мелкобуржуазный комфорт, будто приглашающий зажить тихой, маленькой жизнью… Я был сыт всем этим и до Америки. Но теперь я чувствую, ощущаю всеми фибрами, что мне необходима открытость, простор. Завоевывать стоит не Англию, а Америку. Завоевывать из Англии, но живя ближе к Америке, к энергии, к мощи. В пределах возможного мы должны создать обстановку, в которой я смог бы, говоря словами американцев, задействовать себя как писатель. То, что англичане существуют внутри своей истории и во имя своей истории, – штамп; но именно это я почувствовал, возвращаясь сюда. Как и то, что Америка и американцы каким-то смутным – и даже возвышенным – образом открыты контурам и масштабу человека двадцатого столетия и неизмеримой сложности его проблем. Думаю, точно такое же чувство испытывает и человек, живущий в России. Это ощущение – в данном контексте – не связано с размерами страны; оно лишь сигнализирует о степени, в которой страна понуждает индивидуума посмотреть в глаза проблемам современного существования. Отнюдь не самое главное, как обставлена жизнь изнутри; но существование человека (мое существование) обусловлено тем пространством, в котором он обитает. Это как с ракетами. Необходимо выйти к более широким горизонтам.