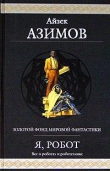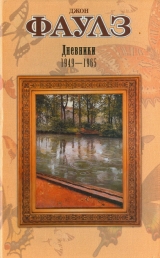
Текст книги "Дневники Фаулз"
Автор книги: Джон Роберт Фаулз
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 58 страниц)
Эта огромная котловина в окружении горных пиков – совершенно особый мир с низинами, поросшими сочной травой и цветами, стойбищами пастухов. Горное убежище. За то время, что я добирался до седловины, небо расчистилось и мир стал прекрасен. Я почувствовал себя свободным, здоровым, без малейших признаков усталости. По камням я пробирался со скоростью пастухов, получая удовольствие от необходимости постоянно принимать мгновенное решение и проявлять чудеса ловкости. Взобравшись на седловину, я увидел сразу несколько пиков. Проблема заключалась в том, чтобы определить, какой из них Ликерий[344]344
У горы Парнас две вершины, между ними небольшая разница в высоте: Ликерий (Волчья гора) – 2457 м; Геронтоврахос (гора Старика) – 2380 м.
[Закрыть], самая высокая точка Парнаса. Все казались примерно одной высоты, хотя самый дальний, по другую сторону огромной котловины, был вроде бы выше остальных. Я видел двух пастухов, но они были очень далеко от меня, слишком далеко, чтобы идти и спрашивать. Я склонялся к компромиссу: можно взобраться на один из ближайших пиков, сочтя его самым высоким, – все равно я уже на Парнасе. Солнце клонилось к закату. Я спустился и вновь поднялся на другую седловину. Горные вороны кружили над головой; цветы были повсюду – горные астры, золотисто-желтые, похожие на маргаритки цветы и множество ярко-розовых гераней. Когда я оказался наверху новой седловины, то до того момента невидимый пик-великан обрисовался четко. Правильная форма, округлая вершина; но расположен слишком далеко, чтобы успеть подняться на него до темноты, – так, во всяком случае, мне казалось. Почувствовав разочарование, я попытался лгать самому себе. Можно сочинить историю о том, как я забрался на вершину, полагая, что именно она – высочайший пик Парнасских гор. Ближайший пик был с южной стороны, туда я и решил направить свои стопы. За ним находилась еще одна котловина, богатая растительностью, – там паслась крупная отара овец и стоял пастуший лагерь.
Почти все облака разошлись, и вид с вершины пика был превосходный. Но в миле к востоку все тот же непокоренный округлый купол вздымался надо мной, по-прежнему дразня и мучая. Я сел рядом с пирамидкой, сложенной из камней, и съел немного шоколада. Заходящее солнце подчеркивало все контуры, темно-синие тени, фиолетовые холмы внизу – в долинах и на равнинах. Вдалеке виднелось голубое море. Мною овладела усталость, я испытывал удовлетворение, но не совсем полное. Я вновь посмотрел в бинокль на Ликерий, бессознательно припомнив тот символический смысл, какой придавал его покорению.
И вдруг, почти бессознательно, я направился к Ликерию, несмотря на поздний час и сильную усталость. Прежняя решимость вдруг ожила во мне и заставила идти. Я почти бежал вниз по склону к подножию Ликерия и стал взбираться на пик с немыслимой скоростью. Но подъем был слишком крутой – не взбежишь. Я замедлял шаг, останавливался отдохнуть, смотрел на мир у моих ног. Ближе к вершине наткнулся на цветущие фиалки, крупные пурпурные цветы, – изумительное зрелище; неподалеку цвела золотистая камнеломка. Вспугнул двух глухарей и крупных коричневых куропаток, с шумом вспорхнувших с земли. Дальний склон Ликерия обрывистый – просто огромная пропасть. В состоянии нарастающей экзальтации я, совершив зигзаг, ступил наконец на ровную плоскость, на которой тоже была выложена каменная пирамидка. Чувство победного ликования, полного удовлетворения охватило меня – наслаждение чуть ли не на молекулярном уровне. Солнце еще не опустилось за горизонт. На расстоянии двадцати миль ни одного облачка, небо чистого и ясного синего цвета; и пьянящее ощущение, что высоко вознесенный над миром ты теперь вдали от всего – городов, обществ, тревог, верований, времен, – ты центральная точка во Вселенной: ведь ты решился, достиг цели и теперь пожинаешь плоды. Природный монастырь духа.
Вокруг были другие горы, долины, равнины, моря, но у меня не было никакого желания знать их названия – достаточно просто сознавать, что их великое множество. Горные стрижи рассекали воздух, падали вниз, в пропасть, или проносились на сумеречный восток. По позолоченным вершинам тянулись длинные тени.
Кто-то написал на прекрасном классическом греческом языке слово φωζ – «свет», выложив его камнями рядом с пирамидой. Даже я загорелся и решил оставить письменное свидетельство. На листе бумаги написал: «Джон Фаулз, 4 июля 1952; вечернее небо ясное, видимость прекрасная, на южном склоне цветут фиалки. Я один, с горными стрижами и музами». Лист засунул в жестяную банку и поставил ее в середину пирамиды. Становилось холоднее, солнце садилось. А я все стоял, очарованный высотой, вознесенностью над землей, мирской суетой, стоял, наслаждаясь грандиозным, божественным одиночеством.
Это был один из тех моментов, ради которых стоит жить. Они – вознаграждение за месяцы, проведенные в пустыне, за годы пребывания в темноте. Вырваться из времени, раствориться в природе, почувствовать, что ты по-настоящему существуешь, богоподобный настолько, насколько это способен вообразить смертный.
Такие приключения надо переживать в одиночестве. В обществе других людей они теряют ценность. Нужно одному преодолеть все испытания – усталость, путь по незнакомой местности, тишину. Все это в конечном счете войдет в торжество победы. Никаких проводников, никаких карт. Только ты.
Я спустился по крутому склону. Ниже меня, возвращаясь в загон, двигалась отара овец. Достигнув подножия пика, я увидел девушку пятнадцати-шестнадцати лет с бронзовым от загара лицом и хитрющими, слегка кокетливыми глазками, она шла в мою сторону. На ней было старое коричневое пальто, на голове коричневый платок, и все же эта одежда не могла скрыть ее красоты. На лице девушки играла озорная улыбка, я ее явно забавлял. Нас разделяли двадцать или тридцать метров. В ее чистом, четком голосе звучали властные нотки – это присуще людям, подолгу живущим в одиночестве; многого в ее речи я не понимал. Однако уловил легкое презрение ко мне. Ведь она постоянно живет в тени Парнаса; подняться на пик, с которого я только что спустился, для нее пара пустяков – час, не больше, и потому моя гордость в ее глазах смехотворна. Меня заставили почувствовать, что я чужой на этом высоком этаже мира. Мне же казалось невероятным, что такая хрупкая девушка может существовать в столь уединенном месте. Ее отара из двухсот овец, медленно пощипывая траву, направлялась к лагерю. Мы заговорили о волках. Похоже, я вызвал ее восхищение, сказав, что собираюсь вернуться в хижину.
– Это далеко, – предупредила она. – Придется идти в темноте.
Я ответил, что хорошо знаю дорогу, и показал направление. Некоторое время мы шли параллельно друг другу, но на некотором расстоянии. Потом я простился с девушкой, она пошла к овцам, что-то тихо напевая, а я смотрел ей вслед.
Назад я шел быстро, несмотря на то что сильно ныли ноги. Сумерки сгущались, ветер стал ледяным и колючим, воздух – морозным. Я прыгнул с камня на тропинку. Раздался щелчок, и ступню пронзила резкая боль. Я угодил в волчий капкан. Высвобождаясь из него, я провел несколько ужасных минут. К счастью, капкан был без зубцов и держал меня всего лишь за пятку. И все же потребовались большие усилия, чтобы его разжать. Я продолжил путь; от напряжения пальцы на руках онемели, потом их охватила жгучая боль. Я прошел под большой скалой, впадина у ее подножия была заполнена водой и льдом. Высоко по скале проходили ледяные прожилки, там же наверху вовсю, как разбушевавшееся море, шумел ветер. Я спустился к пастушьему лагерю, который прежде уже видел. Но стоило приблизиться, как ко мне бросились собаки, они рычали и свирепо лаяли. Три огромные собаки – черная, серая и белая. Я замахнулся на них палкой, и тут они набросились на меня. Одна вцепилась зубами в палку, другая примеривалась к моей спине. Я уже не сомневался, что быть мне искусанным, но в этот момент выбежал молодой пастух и отозвал их. Страшно хотелось пить. Пастух подвел меня к хижине; снаружи большой кусок спрессованного снега понемногу подтаивал в миске. Я жадно выпил эту воду из жестяной кружки. Вода была ледяная, очень вкусная. Я рассказал пастухам о капкане. Они рассмеялись; оказалось, его поставил молодой пастух. Да, волки здесь водятся, два или три. Пастух же, с которым я говорил на следующий день, сказал, что их здесь много.
Я продолжил путь в темноте. Света луны и отблеска ушедшего дня хватало, чтобы ориентироваться на местности. Однако я часто спотыкался, падал, много раз останавливался и искал взглядом удлиненную серую постройку. Ветер свирепствовал, порывистый и холодный. Наконец я добрался до хижины. Со всех сторон слышался звон колокольчиков невидимой отары и лай собак. Навестить меня пришел пастух – молодой человек с серьезным лицом и низким голосом. На нем была теплая, толстая шинель. Он помог мне зажечь лампы, но они вскоре погасли и я развел яркий огонь в печи, подбрасывая туда крупные поленья. Было очень холодно, и бушующее пламя согревало душу. Я сел на скамью и разговорился с пастухом. Его мучил конъюнктивит – немудрено на таком ветру. Он часто выходил из хижины и пронзительным свистом подзывал овец. Пастух звал к себе, но у меня не было сил двигаться. И он ушел, растворившись в ночи под завывание ветра.
Странное, почти нереальное, обособленное существование – и это в 1952 году! Трудно вообразить склад ума пастуха, пасущего скот в горах, – его жизнь состоит из смены дня и ночи, пересчета голов, дойки, холодного света звезд, тишины, ледяного ветра, страха перед волками и ужасающего одиночества, словно он живет на другой планете.
Я сидел и смотрел на огонь, слишком уставший, чтобы есть. Страшно хотелось пить, но воды не было. Я запер дверь на засов, забрался в спальный мешок и заснул. За день я преодолел около пятнадцати миль – по неровным горным дорогам, карабкаясь на крутые каменистые склоны. Лето в Арахове я сменил на парнасскую весну. Посреди ночи я услышал шум борьбы и рвущейся плоти: волк, лиса или пастушья собака пытались кого-то задрать. Но у меня не было сил встать и посмотреть, что происходит. Солнце стояло уже высоко, когда я окончательно проснулся, проспав более двенадцати часов.
Покинув хижину, я пустился в обратный путь мимо пастушьего tгура[345]345
Греческое название, обозначающее жалкое жилище.
[Закрыть]. Два дочерна загорелых пастуха доили овец – по одной-две струи от каждой. Ведро набралось только после дойки Двадцати или тридцати овец. Пастухи дали мне напиться и угостили жирным кислым сыром. Я съел его с видимым удовольствием и внутренним отвращением, залпом выпил кружку все еще теплого молока и распрощался с пастухами.
Спуск занял много времени. Распухшие ноги болели, солнце пекло сильно. В хвойных лесах было много птиц и бабочек – сорокопуты с рыжими спинками, синицы, дрозды-дерябы, пестрые дятлы, разные виды рябчиков и тысячи бабочек репейниц. Я шел краем Левадийского плоскогорья, часто отдыхал; аппетита по-прежнему не было. На краю плато, откуда шел спуск в Арахову, ноги у меня так разболелись, что я мог идти только прихрамывая.
Но один Парнас я все же покорил, а если как следует постараюсь, может, покорю и другой[346]346
«Здесь я имел в виду литературную славу, успех, – писал Дж. Ф. в 1996 г. – Именно после этого восхождения я впервые поверил в себя как писателя. Надо ли говорить, что это было связано не с осознанием писательского мастерства, а с ощущением поворота в жизни. Тогда же я понял, что полюбил Грецию».
[Закрыть].
Часть четвертая
ДАЛЕКАЯ ПРИНЦЕССА
12 июля 1952
Ли. Англия – пасмурная, бесцветная, туманная, холодная. После Греции она кажется подлеском, сменившим открытый простор. Здравомыслящие ничтожества вместо людей, дотошно разработанный семейный порядок. Жизнь не глубинная, а поверхностная. От удовольствий ограждают, удерживают, и ты никогда не радуешься в полную силу. У англичан не дела, а делишки. Ни отдыха, ни солнца, ни любви. Очередное временное пребывание в семье вызывает прежние ощущения: никакой теплоты в отношениях, строжайшее подавление всякого проявления чувств; два дня ко мне проявляли легкий интерес, делились новостями. Мне нужна жена, новый центр личной жизни, хотя бы для того, чтобы заново открыть тепло любви и испытать неведомое чувство близости.
О. (мой отец) сегодня днем принес в мою комнату написанные им рассказы – довольно толстую стопку печатных страниц. Взаимное смущение. Он сразу же снизил тон, отозвавшись о рассказах как о забаве. Некоторые из них я прочитал. Они лучше, чем я думал, но недостаточно хороши для опубликования, хотя не исключаю, что кто-то мог бы их напечатать. Самые худшие, а их большинство, – полуюмористические описания деревенской жизни, старомодные герои взяты прямиком из «Панча». Но есть и вполне приличные рассказы, однако у отца нет чувства слова, литературного мастерства. Ему стоило бы вернуться к войне[347]347
Отец Дж. Ф. при предыдущей встрече показал сыну роман, в основу которого были положены его воспоминания о Первой мировой войне.
[Закрыть].
23 июля
Завтра опять уезжаю – сначала в Туар, затем в Испанию[348]348
Дж. Ф. собирался присоединиться к той же самой группе студентов, с которой путешествовал в прошлом году по Швейцарии, Тиролю и Баварии.
[Закрыть]. Я чувствую, что мне следует сидеть за машинкой, копить деньги, стучаться в двери Би-би-си, однако в настоящий момент я не способен ни на что, кроме подготовки к предстоящему путешествию и повседневной работы. Никакого творчества; все, что написал прежде, кажется незрелым, рыхлым, наивным. Слишком много рефлексии. Когда вернусь, засяду на месяц за пишущую машинку. Если вернусь. Когда много путешествуешь, катастрофы неизбежны.
25 августа
Испания. Необычный месяц, обжигающий, знойный, мрачный, печальный, мучительный для меня, и все же я ни за что не отказался бы от него, хотя он и принес мне много горечи. Я чувствую себя еще более одиноким и неприкаянным, чем прежде. Меня околдовала Моник Бодуэн; эти три недели были не столько отдыхом в Испании, сколько безнадежным обожанием Моник. Под конец мне с трудом удавалось скрывать то, что я ею очарован. А непосредственно в момент расставания меня пронзила такая острая боль, какой я не испытывал уже много лет, боль от страшного осознания, что любовь между нами невозможна, время безжалостно, а человеческий жребий тяжел – это видно и на моем примере. Красота чувственных влечений, неизбежность смерти и разлуки. Я до сих пор нахожусь в состоянии транса, оторванный от действительности, потерянный; встреча с ней была отблеском иного мира. Шанс полной реализации, счастья в моем мрачном существовании. Я не столько любил ее самое, сколько тот идеал, который с легкостью создал из ее подлинной сущности. Я видел в ней прообраз совершенной женщины, а в ее юности – отражение той нежности и непосредственной радости, какой не было в ее годы у меня. Даже сейчас, когда со дня нашей последней встречи прошло две недели, я вспоминаю ее по сто раз на дню. Помню все то время, какое мы провели вместе, ее улыбки, настроения, позы, минуты задумчивости, жесты, одежду, атмосферу – все. На глаза мне постоянно попадаются вещи, напоминающие о ней; даже самые незначительные ассоциации живо воспроизводят ее облик. Часто представляю ее рядом – она улыбается, что-то говорит. Я стал грезить наяву. Но это состояние лишено чувственности – даже поцелуя с ней не могу вообразить. Я глубоко убежден, что она близка мне по духу, что мы сущностно похожи. Мое состояние можно назвать романтической, платонической идеализацией, ничего такого прежде я не испытывал. Может быть, это из области мазохизма. Ведь были и сейчас бывают такие минуты, когда моя печаль сладка, как сладка и пронзающая душу память о ней. Я понимаю, что мы не могли бы вместе жить; умом сознаю, что в ней есть нечто холодное, отчужденное, что-то от монахини. Над ней имеют власть провинциальные предрассудки, она католичка; в ней есть эгоизм, напористость, у нее стереотипные вкусы и представления о любви и браке, которым я не соответствую. Но по своей сущности и очарованию она моя Джоконда.
В Париж самолетом. Выхолощенное путешествие: радость от непосредственных контактов с незнакомыми местами и людьми тут заменяется удовольствием от расчетов. Столько-то миль за столько-то часов. Современная тенденция – к абстракции. Но я не вижу в скорости никакого очарования и не понимаю, как расстояние может выражаться цифрой. Однако было приятно вновь оказаться в Париже – все равно что вернуться в свой настоящий дом. Чуть ли не первым человеком, кого я встретил там, была моя студентка из Пуатье; припомнилась прошлая жизнь, пробудив во мне ощущение нечистой совести. Я старался держаться как можно любезнее, но при первой возможности распрощался с ней. Пришлось заплатить 525 франков за комнату на чердаке – просто обдираловка, – но это не помешало мне чувствовать себя бесконечно счастливым: ведь я снова увижу Туар.
Еду в Туар поездом по хорошо знакомым местам. Не могу дождаться, когда буду на месте, – нетерпелив, как любовник. Напротив расположился француз средних лет, в синем берете; иногда он обращается ко мне, но его произношение малопонятно. Запах «Голуаз»; старая женщина и ее внучка завтракают – длинный батон, колбаса, ветчина, яблоки; в коридоре голоса. Прилив любви к французам, к их стране, образу жизни, языку. Французы – народ здравый и эгоцентричный, их жизнь гармонична; они знают о своем животном начале, но не отрицают и духовное. Живут для себя, но проявляют при этом благоразумие. Они принимают иностранцев, оценивают их по заслугам, не заискивают перед ними, но и не проклинают. Общество личностей, золотая середина, именно они наследники Древней Греции. Я почувствовал это в поезде и продолжал чувствовать на протяжении всего пребывания там. Чем больше я путешествую и живу за границей – Англия стала теперь для меня чужой, – тем больше восхищаюсь Францией и вижу, что она моя страна. И физически и духовно именно здесь я дома – так я не ощущаю себя нигде.
Мужчина напротив говорил о Бресюире, своем родном городе. Мы проехали Сомюр. В коридоре я мельком увидел знакомое лицо – то была одна из моих самых плохих и вредных прошлогодних учениц. Долговязая уродина. Я видел, что она собирается подойти, и потому упорно смотрел в окно, чем привел в замешательство даже уроженца Бресюира. В Туаре я еще раз встретил ее, на этот раз в толпе, и тогда ограничился несколькими нелюбезными фразами, оставшись верным мнению, сложившемуся обо мне в Пуатье.
Туар. Когда я прошел через билетный контроль, у меня возникло ощущение, что я никуда не уезжал. Все девушки и Андре пришли меня встречать; казалось, я только час назад расстался с ними. Застенчивая Моник, очаровательная Тити, Андре, похожий на добродушного медведя. Меня немного расстроила прозаичность нашей встречи – в душе я ждал песен, восторженных приветствий, слез, трогательной игры городского оркестра. Но через какое-то время я оценил простоту и естественность такого приема – как будто я действительно с ними не расставался. В доме Андре я почувствовал то же самое. Тот же стол, за ним пятнадцать или двадцать человек, прекрасная еда, вино в избытке. Тот же громкий смех, деловые разговоры, остроумная болтовня. Младшие сестры и служанка на одном конце стола; племянники, братья, их жены и родственники жен – на другом. Андре напротив меня, еще больше похожий на медведя; он расспрашивал меня о птицах, книгах и жизни в Греции.
После обеда Андре повел меня к Джинетте Пуано, в мебельный магазин ее родителей. Она так изменилась, что я на мгновение утратил дар речи. Стала еще более элегантной и ухоженной; великолепная косметика, золотистые волосы причесаны по-новому. Думаю, она нарядилась ради меня: ведь она знала о моем визите. И все же за год она расцвела, это был уже не подающий надежды прошлогодний бутон. Джинетта провела нас по коридору, заставленному мебелью в буржуазном вкусе, и пригласила в небольшую заднюю комнату. Налила куантро. В присутствии Андре я не знал, что говорить. Мы все чувствовали себя неестественно, скованно. Были паузы, нервозность. Но я тем не менее от всего получал удовольствие – от ее элегантности, от неловкости нашего общения. Я надеялся, что Андре оставит нас вдвоем. Под конец я встал и попрощался – о том, что мы оба помним прошлое лето, сказали одна или две понимающие улыбки. И еще мне показалось, что она заметила, насколько я поражен переменами в ней, и это доставило ей – с ее обостренным чувством юмора – явное удовольствие.
Едем. Первое утро путешествия. Я понимаю, что оно не будет таким запоминающимся, как поездка в прошлом году. Много новых людей, и они мне сразу же инстинктивно не понравились. К тому же я чувствую себя старым, неприлично старым среди этих юных ребят. Да и нахожусь здесь не по праву; ведь я относительно много путешествовал, и многие могут решить, что моя цель – только внести в свой список еще одну страну. Ко мне утратили интерес как к новичку, я уже не был новой забавной игрушкой, а старая игрушка не занимает воображения. Такое впечатление у меня сохранялось, можно сказать, на протяжении всего путешествия.
Мы прибыли в Бордо и там пообедали. К югу от Бордо, в Ландах, пустынные места, в этих песках растут только вереск и сосны. И вот там-то у нас прокололась шина. Я бродил среди деревьев. Вокруг никаких признаков жизни, нет даже птиц. Зато оживленное движение на дороге – артерия в недействующей конечности. Остальные члены группы устроились на обочине и болтали между собой. Этот пейзаж действовал на меня угнетающе, и я вновь почувствовал себя чужаком. Наконец мы продолжили путь, теперь уже с большим опозданием, и до самого интересного из запланированного на день – морского побережья в Биаррице – добрались уже в темноте. Помнится, мы с Моник задержались у магазина, где купили фрукты. К этому времени мы уже вспоминали старые шутки, поддразнивали друг друга. Я видел в этом единственную возможность как-то приблизиться к ней, а она так добра, что не могла отказаться от предложенной игры. Не думаю, что кто-то из нас получил от этого удовольствие.
Следующий день. Подъем на рассвете. Едем вдоль побережья на юг до Ируна. Много зелени, мысов и заливов – как в Бретани. Переезд через границу. На полицейских высокие черные каски, вроде ведерок для угля. Один из таможенников, закончив работу, увез по рассеянности наши бумаги – взял не тот кейс. Пришлось долго ждать. Жуто гонялся за Моник возле церкви. У убегавшей Моник глаза горели как два черных алмаза.
К Сан-Себастьяну мы ехали по зеленой местности, обезображенной рекламными щитами. Сан-Себастьян – растянувшийся вдоль побережья, международный station balnéaire[349]349
Бальнеологический морской курорт (фр.).
[Закрыть], его пляжи и заливы переполнены. Мы отправились купаться, на нас глазели со всех сторон. Некоторым полицейские не дали дойти до воды под предлогом, что на них слишком обтягивающие купальники. Составной частью купального костюма испанок являются скромные юбочки, мужчины носят длинные трусы. Испанские горожане среднего достатка напоминают мне жирафов или страусов. Консерватизм в умах упорно поддерживается и постоянно нарушается.
Обед в просторном зале из темного дерева; каждая группа за своим столом. Несколько раз встречался глазами с Моник. У нас появилась привычка улыбаться друг другу полудружески-полуиронично, когда нас разделяют пространство, голоса и прочие вещи. В конце концов от острого желания проявить к ней дружественное отношение мои улыбки стали болезненно-кислыми и саркастическими.
Дождь прекратился сразу после обеда. Миновав узкое ущелье – подлинный вход в Старую Кастилию, мы оказались на сухом и бесплодном плато – в нем можно видеть ключ к разгадке испанского характера. Гнетущий пейзаж – в нем нет ни изюминки, ни очарования, ни смысла. Вся северная Испания, от Бургоса до Мадрида и дальше, – окультуренная пустыня. Подлинная пустыня доставила бы мне куда больше удовольствия. В Бургос мы прибыли вечером и поужинали в гостинице, напомнившей мне типичную английскую гостиницу в сельской местности. У окна попрошайничали дети. Опять глаза Моник из-за другого столика (ровно две недели назад, как раз в то же время, когда пишутся эти строки, – в шесть часов вечера я сидел рядом с Моник и ехал из центральной Франции на север, поглощенный только своей соседкой: склоненное ко мне лицо, легкая улыбка – знак, что она в серьезном настроении).
Я вышел позже, с Полем Шале. Немного поговорили. Было холодно, мы зашли в кафе pi выпили коньяку. Так как Андре большую часть времени проводил с невестой, я часто общался с Полем. Иногда он раздражал меня, как раздражают все простые и деятельные люди. В этот вечер в Бургосе я думал о Моник; начинался тот кошмар, когда ежеминутно думаешь, где она, если ее нет поблизости. У Поля несколько тем для разговора: фотография, спелеология, путешествия. Бедняга, я только под конец путешествия понял, что он влюблен в Армель. Он все время находился поблизости от нее, смотрел на нее преданным и жалким собачьим взглядом. Потом мы пошли в пансион спать. Бальзаковский старик с огромной связкой ключей открыл парадную дверь; у него ключи от всех домов на этой улице. Тоже бальзаковское занятие.
Третий день. Выехали поздно: у Мишеля Годишона украли рюкзак со всем содержимым. Первая из многих краж; почти всюду у нас пропадали вещи. Похоже, воровство – национальный спорт испанцев; еще один побочный продукт фашизма. Правь сверху силой, и внизу исчезнет нравственность. Пообедали в небольшой деревушке. Я купил в булочной каравай и поделился им с Моник. Обычная вещь, но я и сейчас помню ее глаза, помню, как она стоит рядом со мной у прилавка и считает деньги. Ее маленькие ручки.
После Вальядолида равнинная местность все еще сохранялась, но уже стали появляться невысокие горы, синеватые, с округлыми вершинами. Сосновые рощи, кое-где гнезда аистов; ясный солнечный свет пронизывал местность, придавая ей некоторое сходство с Провансом весной.
В этот раз мы остановились на ночлег в горной деревушке, где нас очень хорошо приняли. Мы пошли на сельские танцы. Там собралась вся деревня. Теплая погода и вино всех взбудоражили. Кто-то заиграл на старинной шарманке, и деревенские жители пустились в пляс. Следующий танец был вальс, тогда и наша группа вышла в круг. Молодежь вначале танцевала нормально, но под взглядами нескольких сотен крестьян с серьезными лицами трудно не уступить желанию покривляться. Они стали вводить новые элементы, кричать и петь, танцевать в джазовой манере. С каждой новой мелодией их танец становился все более Диким и смешным. Крестьяне ничего не понимали, стояли открыв рот, иногда на лицах проступало легкое неодобрение. Такое обычно случается, когда крестьянин впервые попадает в столицу. Я выпил много коньяку и стоял, разглядывая окружающих. Некоторое время провел с Моник у окна и едва не пригласил ее танцевать. Но танцую я ужасно, а к этому времени твердо знал, что с ней мне не хочется плохо танцевать.
* * *
Четвертый день. Потратили несколько часов на осмотр Авилы. Городской кафедральный собор, как и все прочие испанские соборы, портит громоздкий клирос – он уродует неф. Потом пошли осматривать монастырь на окраине города. Я шел рядом с Моник и показал ей шарж в газете. Думаю, как раз в тот момент, когда она склонилась над газетой, я осознал, что именно со мной происходит. Во всяком случае, этим утром я не сводил с нее глаз и, как только появлялась возможность, шел рядом. Ее стройная гибкая фигурка изящно покачивалась при ходьбе; в знойную погоду Моник становилась вялой и всегда отставала от группы; волосы она зачесывала назад и укладывала в невероятно большой пучок, элегантно затянутый красно-белым шарфиком, концы которого свободно свисали, – со всех сторон ее головка выглядела одинаково безукоризненно. Я мысленно просил, чтобы она улыбнулась, рассмеялась, – тогда шарфик колыхался, пучок подпрыгивал, а сама она гибкой веточкой склонялась от смеха.
Мы осмотрели монастырские крытые галереи, где прогуливался Торквемада[350]350
Монастырь Св. Томаса. Томас Торквемада (1420–1498), глава инквизиции в Испании, похоронен на территории монастыря.
[Закрыть], и гробницу Дон Жуана.
– Того Дон Жуана? – спросил я гида, но он, похоже, никогда не слышал ни о Моцарте, ни о Мольере.
Но я все-таки коснулся надгробия из белого мрамора – холодного как лед[351]351
Это гробница не легендарного Дон Жуана, а принца Хуана (1478–1497), единственного сына Фердинанда и Изабеллы.
[Закрыть].
После Авилы пошли горы и грозы. Я спал как сурок. Сьерра-де-Гвадаррама – невысокие горы, но после однообразной Кастилии на них приятно смотреть. Мы подъехали к Эскориалу[352]352
Сосредоточенные в одном месте огромная крепость, монастырь и дворец построены Филиппом II (1527–1598) в пятидесяти километрах к северо-западу от Мадрида.
[Закрыть], казарменным постройкам, возвышающимся над равниной. Мне вспомнился Версаль, аскетический Север. Оживление, царящее в просторном внешнем дворе, пришлось мне по душе – многочисленная детвора гоняла мяч, матери болтали, было много туристов, бродяг. У кассы я встретил двух англичан, малорослых, усатых, аккуратных и обнищавших. Я был счастлив, что нахожусь в группе. До чего мне противны почти все соотечественники! Эти двое были еще вполне безобидны. Я заговорил с Моник по-французски, чтобы им насолить. Красивая девушка и иностранный язык. Хорошо их приложил.
Ненавижу походы в сопровождении гида. Гобелены и королевские апартаменты. Королевское подземелье – сплошное безвкусье, мрамор и позолота; вход – как в дорогой ресторан; все это по крайней мере забавно. В картинной галерее – великолепный Эль Греко, демонический, нечестивый, живой. Испания – византийская страна; Эль Греко, должно быть, сразу почувствовал себя в ней как дома.
Пятый день. Утром мы умывались у колодца в саду расположенного рядом дома доктора. Мне нравилось смотреть на моющихся девушек, и я часто подгадывал, чтобы совпасть с ними по времени. Не буду лицемерить и говорить, что к этому не примешивалось сексуальное любопытство. Но в основном это было чисто эстетическое наслаждение. Девушки походили на кошек или на какое-то другое животное из семейства кошачьих; они словно вылизывали себя и терли фланелевыми мочалками. Кое-кто расстегивал пижамную куртку, оголял плечи, некоторые совсем снимали куртки и оставались в бюстгальтерах – розовом шелке на белой коже. Одна девушка, а именно Женевьева Буано, миниатюрная, деликатного сложения, кокетливая, была особенно очаровательна, занимаясь туалетом: она делала все с серьезностью котенка и прекрасно понимала, насколько обольстительна при этом, потому что выбирала для умывания как раз то время, когда вокруг было много мужчин. Ни она, ни другие девушки никогда не умывались торопливо, тратя много воды, нет, всегда легкие похлопывания, растирания, поглаживания.
Каждое утро Моник с серьезным выражением лица, в бледно-голубой пижаме с ее инициалами на кармашке и красном шарфике на шее идет умываться.
Мадрид. На первый взгляд веселый современный город, в нем много роскошных зданий, красивых клумб, фонтанов, тенистых бульваров. Много воды; в городе есть нечто от Парижа. Но он не так интересен.
Мы отправились в Прадо. Это супермузей – не музей, а торт с кремом, слишком плотный, чтобы переварить. От Веласкеса я бросался к Эль Греко, от Эль Греко – к Гойе, потом к фламандцам, от них к итальянцам, потом снова к фламандцам – уж очень они хороши! Веласкес, как мне кажется, великолепный зануда, открывший позу и экспрессию. Гойя поразил меня своей техникой – я даже не подозревал о его удивительном даре, смелом, решительном мазке. Он даже превосходит Эль Греко или Веласкеса. Великий дух – гений и социалист. Защитник бедных. Сильное негодование, эмоциональность в «Расстрельной команде», его шедевре. Тонкая и безжалостная сатира академических портретов – на них скоты в пышных нарядах.