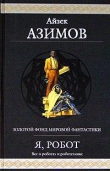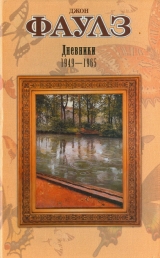
Текст книги "Дневники Фаулз"
Автор книги: Джон Роберт Фаулз
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 58 страниц)
Это ужасающе торопливое бегство англичан к родным пенатам: можно подумать, что они так рады вернуться восвояси!
Британцы образца 1962 года, кажется, все еще верят, что Британия – лучшее, что есть на белом свете. Что она чище, обходительнее, честнее, цивилизованнее. Ранее я замечал, что итальянцы – не что иное, как масло или жир в европейском бульоне; в таком случае британцы – просто вода.
В Риме нам довелось прочесть занятную книжку – запрещенное в Англии сочинение бывшего лакея «Моя жизнь с принцессой Маргарет»[714]714
Имя автора – Дэвид Джон Пейн; книга вышла в том же году в США в издательстве «Голд медал букс».
[Закрыть]. Написана она (вполне возможно, кем-то другим) надоедливым, словно вывернутым наизнанку языком; автор предстает перед читателем как вуайер или фетишист. Он постоянно прибегает к оборотам речи – и в особенности эвфемизмам, – какими я наделил своего злодея в «Коллекционере». Снова и снова он, то превознося до небес, то самодовольно ухмыляясь, описывает выходки избалованной девчонки королевской крови, за которые любому порядочному человеку впору предать ее презрению; и весь ужас не в том, что это делает он, а в том, что миллионы глупцов обоего пола по обе стороны Атлантики, без сомнения, думают точно так же. Эта ничтожная книжонка написана не одним человеком, а всем обществом.
Путти. Мы купили эту фигурку на виа Номентана в память о нашем отпуске. Работы XVII или XVIII века, раскрашенное резное дерево, с серо-черными глазами, розовыми щечками, крохотным пенисом и очаровательной лукавой, но безмятежной улыбочкой.
11 сентября
Что означает «подлинное» в понятии «подлинное “я”»? Подж на людях намеренно акцентирует свои чудачества и капризы, пытаясь представить их как собственную «сущность»; таким образом ему удается игнорировать свою непоследовательность и смену настроений. В глазах окружающих он пытается сойти за веселого, расторопного, занятого Поджа, делая вид, что «веселость» – не заемная личина, не защитная маска, а подлинное содержание его натуры. Что до меня, то я, с одной стороны, слишком ленив (и труслив), чтобы проявлять собственное «я», а с другой – слишком мизантропичен, чтобы поддерживать на публике другой убедительный образ. Постоянное поддержание убедительного публичного образа, ношение внешней маски приводит к тому, что она становится подлинным лицом человека. Единственный способ обеспечить жизнеспособность своего внутреннего «я» – не наделять публичный образ конкретностью, относясь к нему как к щиту, объекту, к которому подлинное «я» не испытывает ни уважения, ни пиетета; иными словами, используя его как грим, как намалеванную маску. А отнюдь не как замысловатое барочное изобретение. Вокруг такое множество людей, затрачивающих на выстраивание публичного образа столько творческой энергии, труда, сил и обмана, внушающих подлинному лицу, что оно – отнюдь не подлинное; в результате последнее становится узником, заточенным в замке. На нем ставят страшные эксперименты. И подчас доходит до того, что его обладателю проще умереть, нежели признать, что его подлинное «я» – вовсе не тот искусно оштукатуренный фасад, какой создало его сбившееся с пути сознание.
Подлинное «я» – это «я», более всего ценимое своим обладателем, будь оно внутреннее или публичное.
* * *
Тот, кто любой ценой (или, точнее, ценой обаятельного, но с начала до конца сконструированного – читай публичного – «я») сохраняет «подлинное» внутреннее «я», и становится поэтом. Путь к этому – не мастерство владения словом, но мастерство сохранения собственной внутренней реальности.
17 сентября
Дома. Хлопотливая заурядность.
Представления экзистенциалистов об одиночестве; я ощущаю себя все ближе к собирательному образу персонажа Сартра – Бовуар – Камю. Это ощущение подкрадывается изнутри, подпитываясь обстоятельствами (моей натурой, воспитанием, историей и т. п.), существовавшими и властвовавшими надо мною задолго до того, как я впервые услышал такие слова, как «Сартр» или «экзистенциализм». Но стоит мне запечатлеть это состояние приближения в словах (как я сделал в «Мозаиках» и некоторых стихах недавнего времени), как возникает – или может возникнуть – впечатление, что оно – лишь поза в духе Рокантена[715]715
Главный герой романа Жан-Поля Сартра «Тошнота» Антуан Ро-кантен воспринимает окружающих людей и предметы всего лишь как фасад, за которым прячется бессмысленность существования.
[Закрыть], напяленная на себя маска. Однако это не так. Но что за невезение – иметь от природы то, что многие присваивают себе намеренно.
25 сентября
Издательство «Кейп» завернуло рукопись «Поездки в Афины». «Рассказчик кажется слишком молодым человеком». Мэшлер думает, что книга может испортить впечатление от «Коллекционера». Tant pis[716]716
Тем хуже (фр.).
[Закрыть]: придется положить рукопись в долгий ящик.
Ночь в лихорадке (я простудился): вереница беспорядочных видений, в основе которых загадки психологии личности. Исполненных блестящих прорывов в сферу природы человеческого «я». По большей части в форме натянутых каламбуров, подчас на французском. Окончательно проснувшись, я не смог припомнить ни одного из них, но не мог отделаться от чувства утраты, какое посещает после таких снов-озарении. Вчерашний сон перенес меня в те внутренние глубины, какие обычно пытаешься исследовать, прибегая к рациональному инструментарию. Странная череда глубокомысленных парадоксов, от которой осталась горстка пепла.
Потом уже не мог уснуть. Кажется, парадоксы группировались вокруг фигуры, чем-то напоминающей героинь Бардо. (На прошлой неделе в «Пари матч» было опубликовано «откровенное» интервью с нею. Я прочел его в воскресенье.) По-моему, растаявшее сновидение отчасти протекало в форме вопросов и ответов между интервьюером и звездой, в которой совместились черты Монро и Бардо. В этом обмене репликами не было ничего отдаленно сексуального: просто высказывания и попытки самоидентификации в контексте навязанной публичности и стремления осуществить свое право на личную жизнь.
Думаю, об этом стоит написать. Тема внезапно показалась весьма содержательной. Она видится мне в форме диалога. Не романа. Или необычного спонтанного романа, если на то пошло. А может, и просто повести.
Все это произошло за ночь до того, как я получил ответ от издательства «Кейп».
30 сентября
Э. и я прошлись по рукописи «Поездки в Афины». С моей стороны было глупостью отдавать ее Кинроссу сразу из рук миссис Ширли. Я так и не просмотрел ее распечатку. Кое-что мы изменили, многое выбросили. Но что касается «Кейп», дело уже сделано. А ведь я просил Кинросса не отсылать рукопись до того, как я просмотрю ее. Так что теперь остается винить и его тоже.
3 октября
Элиз в больнице («Флоренс Найгингейл» в Лиссон-Гроув). Новый хирург, мисс Мур-Уайт, ознакомилась с ее рентгеновскими снимками. Прошлую операцию сделали не так, как следовало; все было бы нормально, если бы ее делала она. Обычные сводящие с ума туманности и недоговорки врачей. Под этим прочитывается, как неосмотрительно мы поступили, согласившись на операцию в государственном медицинском учреждении.
– В госбольницах от простуды лечатся, а не операции делают, – негодующе заключила женщина, лежащая на соседней койке во «Флоренс Найтингейл»; для нее непостижима сама мысль о том, что в рамках государственного медобслуживания можно сделать успешную хирургическую операцию!
Это приводит меня в бешенство. Полагаю, сегодня есть против чего восставать в существующей системе здравоохранения. Но главный камень преткновения – в умах самих медиков, в той ненависти, что накипает в душе каждого врача против системы, в рамках которой они работают. Порочны сами доктора, отнюдь не идея. Мертвый груз их надежд на то, что система рухнет.
Решение делать операцию приняла Элиз. Сложилась своего рода экзистенциальная ситуация. Иными словами, я чувствовал, что это должно быть ее решение. Это тот случай, когда чудовищно решать за другого человека. Другое «я», «я» Элиз, принимает решение, и оно становится частью ее жизни; принимая это смелое решение, она создает нечто реальное и почти столь же ценное, как ребенок. Мы знаем, что шанс на успех минимален; знаем и то, что, коль скоро он выпадет, возникнет тысяча проблем: с ребенком, за которого заплачена столь высокая цена, un tant attendu[717]717
Как и следовало ожидать (фр.).
[Закрыть], будут связаны тревоги и опасения, он будет казаться невыносимо хрупким. Однако одно мы должны знать определенно: не исключено, что ребенка у нас никогда не будет; именно поэтому она решилась сделать операцию. Подчас приходится спрашивать ответа у своей судьбы – да или нет; и если ставки достаточно высоки, ответ приходит. Теперь мы будем знать наверняка.
4 октября
Ужасно; день перед операцией. Я видел ее в больнице. Это небольшое обшарпанное здание – больница для дам высшего сословия; поэтому мы испытываем к ней что-то вроде сочувственной теплоты. Элиз выглядит достойно: в костюме от Шанель и с бусами из красного стекла. Самое болезненное во всем этом – добровольный отказ от здоровья и нормального, активного состояния. Делать это нет необходимости; и все-таки это делаешь. Сидя рядом с ней на кровати, чувствуешь, как в воздухе разлита непривычная аура бренности; и, как всегда, не знаешь, что сказать. Расстаешься с ней на три часа, убивая время до семи, до срока следующего посещения. Лондон и Бейкер-стрит выглядят странно, очень странно: это день всеобщей забастовки железнодорожников. На улицах почти нет прохожих и никакого транспорта; в серо-белом освещении все пусто и мирно, как на фотографиях викторианской поры. Я забрел в галерею Уоллес поглядеть на картины, но, глядя на них, ничего не видел. Зашел в кинотеатр «Клэссик» и посмотрел – кусками – «Трамвай “Желание”», мультфильм, хронику новостей; затем в больницу, к внушающему трепет последнему разговору – такому нереальному, к последним минутам вместе. Последний поцелуй, последние слова, последнее прикосновение, последний взгляд.
Сегодня весь день не мог ничего делать; в 16.15, время операции, пошел в учительскую выпить чашку чаю, затем вернулся к себе в кабинет и перебирал разные мелочи. Потом отправился домой и принялся перебирать струны гитары. Позвонил в больницу в шесть, но:
– Еще полчаса она будет в операционной.
Невнятно бормочущая сестра-ирландка; казалось, ее заботят не моя жена или я, а телефон, это непонятное изобретение. Наконец в семь отозвался отчетливый английский голос.
– Она (мисс Мур-Уайт) сделала все, что могла. Миссис Фаулз пришла в себя. С ней все в порядке.
7 октября
Подж в Лондоне: навещает Элиз. Вечером мы отправились с ним в дом его матери в Бейсуотере и отужинали в странной большой полутемной комнате на первом этаже. Серо-стальные стены комнаты освещала одинокая лампочка, ввинченная в унылый викторианский канделябр. В сумеречном свете сновали канарейки. С нами был его брат Джеффри, совершенно пустой человек; самый его голос казался условным рефлексом. Отвечает лишь потому, что его спрашивают; от него исходит аура смерти, одиночества и неудачи; а где-то на заднем плане маячит пожилая женщина, его мать. Проживает в этом доме временно, но я почувствовал, что именно здесь его истинное пристанище. У его жены Венди – наследственный сифилис, теперь уже в третьей стадии. Они разведены. Но Венди каждый день звонит Поджу в Оксфорд, а его мать время от времени приглашает ее на чашку кофе. Джеффри талдычит о ней все время, хотя сам обручен с диковатой испанской беженкой. Видя все это, впору загрустить, но это высочайшей пробы Чехов, на соответствующем уровне исполняемый Поджем.
Наконец он в деталях поведал мне о собственных отношениях с Эйлин: о ее отказе от здравого смысла, ненависти ко всему, что для него свято, об ужасной напряженности в Оксфорде, которую ныне ощущает и Кэти. Э. долго убеждала П. обратиться к психиатру, и вот теперь, «дабы обрести спокойствие», он последовал ее совету.
– Мне нужен совет. Я просто хочу понять, как трое таких людей, как мы, уживаются в таком маленьком доме.
Мы вовсе не защищаем Эйлин, с ее острым язычком и по-ирландски вывернутым умом; с ее склонностью бросаться из крайности в крайность и интеллектуальными причудами. Что до П., то он, само собой, наделен рассудительностью бобра, эдакой способностью собирать и складывать веточки и хворостинки, силясь выстроить из них нерушимую рациональную дамбу, – если не принимать во внимание, что и сам он зачастую ведет себя не слишком рационально, собирая веточки в кучу лишь для того, чтобы создать иллюзию занятости полезным делом. Добавим к этому его полное непонимание сути вещей, приводящее к тому, что все его физические соприкосновения: с едой, разговором, питьем, искусством – не более чем ряд погружений на скорую руку, глотков, забегов. Я как-то дал общую оценку кругу его оксфордских знакомых, заметив, что их язык исключает самую возможность стабильности. Процитировал ему фразу Элиз Мейвор: «Если книга забавна, чего еще желать?» И, конечно же, Подж заметил, что «все мы настрадались, все утратили идеалы и теперь берем от жизни то гедонистическое наслаждение, какое можем себе позволить». В общем, то, что я и сам предполагал. Но ломкие маски неискренности, которые надевает на себя эта маленькая группка, собираясь вместе, и Подж в особенности, кажутся мне опасными игрушками. В машину, ветровые стекла которой сделаны из обычного бытового стекла, садиться нельзя, иначе рискуешь, что в один прекрасный день твое истинное лицо изранят осколки.
На этот раз Подж опять мне очень понравился. При всей своей клоунаде и непоследовательности он остается ярым радикалом. Я разделяю ужас, объемлющий его при виде этого мерзкого общества и мира, в котором мы живем, и, как и он, признаю лишь две достойные упоминания альтернативы ему: сартровскую или марксистскую. Он сказал это нынче утром, а я подумал, да. Да, да, да.
Опять не хватает денег. Снова брезжит погружение на дно. Скоро мы действительно окажемся на мели. Придется мне превысить кредит. В этом году мы немного подкопили на депозитном счету; но откладывать, в любом подлинном смысле слова, сегодня такое же постыдно-невозможное занятие, как и десять лет назад.
10 октября
Мартин Кэмерон. Бедный пожилой шотландец, что весной преподавал у нас стенографию, а на лето уехал на родину, в Глазго, вернулся к нам на этот семестр. Жалкое, бесхребетное существо, слишком мягкосердечное и доброжелательное, чтобы прийтись по вкусу кому бы то ни было, один из тех угодливых шотландцев, что напоминают жидкий чай. Он умер во вторник в Нью-Энде, в час ночи. Его кончина явилась для всех большим потрясением, чем я ожидал. Многие ученицы плакали, особенно гречанки. Он умер совсем один, совсем один, повторяли они. Умираешь всегда в одиночку, заметил я. Но они – им хотелось громких причитаний, хотелось, чтобы семья оплакивала беднягу. Поскольку он был болен, ему помогали женщины из учительской: старенькая миссис Баррет и душевная Мэрион Сингер; и вот когда он умер, люди почувствовали уколы совести. На фоне уютных маленьких мирков, что мы населяем, его одиночество саднило, как воспаленный большой палец; между тем никто из нас не сделал ничего, чтобы облегчить его участь, пока не стало слишком поздно.
У него была челка и круглое розовое, как сарделька, лицо; тучный корпус; мальчишеская шотландская манера повышать голос, когда произносилось что-то, что его шокировало. Но самым запоминающимся свойством его натуры была необыкновенная незлобивость: женщины окрестили его бабой, но в этом было что-то другое – своего рода невинность. У него ни с кем не было секса, от стакана шерри он хмелел, глаза наполнялись слезами, и он всегда очень по-доброму отзывался о людях. Неудачник, полнейший неудачник, всегда думалось мне; а теперь, оглядываясь на него, я вижу смирение и кротость Христа. Очень робкую, но все же несомненную: il voulait bien[718]718
Он хотел как лучше (фр.).
[Закрыть].
Он был полной противоположность человека двадцатого столетия: ни твердости, ни независимости (хотя он, должно быть, большую часть жизни был одинок), ни упрямого фатализма. Человек, как стакан молока. Вот что осознали люди: человек как стакан молока заслуживает большего, нежели презрение.
Несчастная умирающая старуха в палате Элиз: они отходят вовсе не тихо и не покорно. Агонизирующие пожилые женщины из среднего класса (вроде этих) ведут себя намного хуже, чем их невезучие сестры рабочего происхождения. Те, что лежат с Элиз, вываливают наружу все буржуазные неврозы: «Я не могу, не могу». (У них ничего не болит, детское хныканье просто призвано привлечь внимание.) «Я позову доктора, чтобы он объяснил вам, как правильно это сделать». (Сиделкам.) «Вызовите машину. Я поеду на прогулку». Нелепая смесь иллюзий, обнажившийся костяк изнеженной буржуазии. Избегай любого страдания, держи на расстоянии подчиненных, наслаждайся радостями жизни, хныкай и стращай. Элиз, похоже, не замечает этого, но, на мой взгляд, этой больнице, где действительно лучше кормят и ухаживают за больными, недостает человечности, причем катастрофически. Над каждой палатой бдит бессонный призрак леди, противостоящей женщине как таковой, а за ним – призрак главной аристократической медсестры. Самой Флоренс Найтингейл.
11 октября
Утром отправился в крематорий Голдерз-Грин на похороны бедного Мартина Кэмерона.
Утро выдалось по-шотландски туманное, серое и безветренное. С разных отделений колледжа нас собралось человек двенадцать. Крематорий – несколько кирпичных корпусов с асфальтированными двориками; дверной пролет выводит на сводчатую галерею, за которой открывается вид на зеленый газон с кустарником. Там мы и остановились, обмениваясь невеселыми шутками, а черная фигура поодаль на виду у немногих собравшихся развеивала пепел по ветру, а затем застыла, будто о чем-то забыв. Надо думать, служитель возносил молитву. Есть в крематории что-то напоминающее образцовый гольф-клуб; в любой момент так и ждешь, что появятся подносчики с клюшками, а кто-нибудь из игроков крикнет: «Мяч!»
Затем мы вошли внутрь и остановились в мемориальном зале. Воцарилось неловкое молчание. Траурные осенние акварели на стенах. Объявления: «Так как нашей молельней пользуются представители всех конфессий, просим воздержаться от использования благовоний»; и: «Легкие напитки могут быть поданы в передний двор». Наконец нас провели в малюсенькую часовенку, выполненную в романско-византийском стиле, с кирпичными стенами, дубовыми скамьями и турецкими коврами на вымощенном камнем полу. Потолок цвета яркой небесной синевы подсвечен невидимыми панелями. Вместо алтаря – разомкнутые створки, как на подмостках кукольного театра, обрамленные коринфскими колоннами с колотым цоколем, а в глубине – установленный на платформе из нержавеющей стали гроб.
Пресвитерианский пастор суровым голосом прочел заупокойную молитву Другой служитель жал на клавиши фисгармонии, а в нескольких метрах от нас в заднем ряду как ни в чем не бывало сидел сотрудник похоронного бюро. Что за нелепость эта заупокойная служба, эти возвышенные слова, подумалось мне; внезапно я ощутил всю неуместность собственного присутствия на подобной церемонии. Мы, взрослые люди, собрались и выслушиваем этот вздор…
«Прах к праху…» – это еще я могу принять; и тут пурпурный муаровый занавес медленно опустился меж створками кукольного театра (мне уже слышалось шарканье и шумы за сценой), и гроб исчез.
Вся церемония заняла не больше пятнадцати минут; не смешно ли? Я вздрогнул, услышав, как безутешно рыдает сестра покойного.
16 октября
Полтора часа с Томом Мэшлером. Он все больше мне нравится. Противоположен мне во всех отношениях: экстраверт, débrouillard[719]719
Проныра (фр.).
[Закрыть], настырный, ловкий и по-современному трезвый. С ним я разыгрываю роль мудреца из глубокого захолустья, спрашиваю его совета, что делать дальше. Его рекомендация совпала с моим собственным ощущением: продолжать работу над «Волхвом». Он разговаривал с Карелом Рейшем по поводу «Коллекционера». Обложку рисует Чоппинг, сделавший имя на книгах Флеминга[720]720
Начиная с романа «Из России с любовью» (1957), Ричард Чоппинг оформлял суперобложки всех изданий романов Яна Флеминга о Джеймсе Бонде в твердом переплете, за исключением четырех.
[Закрыть]; он – гиперреалист, поверхностность и аляповатость его манеры меня раздражают. Посмотрел и издательскую аннотацию: ужас, тебя словно раздевают догола на людях. Печатают пять тысяч экземпляров вместо обычных трех.
– В июле будущего года в самый раз, – ответил мне Мэшлер, когда я спросил, когда бы он хотел получить рукопись новой книги.
В каком-то смысле облегчение – передышка на девять месяцев. И в то же время скука, ожидание.
* * *
Произведение искусства может быть лишь убедительным, но никак не доказательным. Доказывает наука; искусство убеждает.
24 октября
Кубинский кризис[721]721
24 октября началась блокада Кубы вооруженными силами США, вызванная обнаружением на острове советских ракет с ядерными боеголовками. Все время, пока суда СССР двигались в направлении зоны карантина, объявленной советским правительством незаконной, мир находился под угрозой возможного ядерного конфликта.
[Закрыть]. Любопытно, как мало он сказывается на поведении людей. О нем только шутят. Бесконечные шутки – на занятиях, в учительской.
– В одном сомневаться не приходится: мы доели последний английский завтрак, – заявила одна из гречанок.
Я разъяснил, что эта часть Хэмпстеда оборудована так, чтобы выдержать напор самой сильной взрывной волны; в ответ гомерический хохот. Черно-юмористическое настроение и среди преподавательского состава. Я предложил вывесить объявление: «Ввиду того, что сегодня конец света, завтрашние занятия отменяются». Очень смешно. Однако сегодня утром мой класс углубленного изучения языка вышел из-под контроля: все закричали разом, и в голосах промелькнул отголосок той лихорадочной тревоги, какой в последние дни объяты все и каждый. Иду сегодня ближе к вечеру по Фицджонс-авеню и думаю: вот накатит необъятное тепловое излучение, и все дома рухнут. Не знаю почему, но страшнее всего показалось, что с деревьев облетит листва: ведь ее в любом случае сорвет первый же порыв осеннего ветра. В эти часы конец света оказался совсем рядом. Если мы не погибнем, облегчение будет смехотворным. Думаю, не погибнем, потому что русские всего лишь разыгрывают шахматную партию: Куба – это жертва, за которой таится западня. Но в первую очередь поражает сама гнусность этого мира и то, что за ней скрывается – несостоятельность всех существующих политических теорий, философий, религий.
Отношения между Мэшлером и Джеймсом Кинроссом на пределе.
– Он разносчик. Его дело – торговать из-под полы сигаретами у Бранденбургских ворот, – талдычит Кинросс.
– Он чертовски темнит, – отзывается Мэшлер. – Иногда мне кажется, что он вовсе не представляет, кто вы такой, черт возьми.
Мэшлер намеревается запродать «Коллекционера» издательству «Саймон энд Шустер». Говорит, что не возьмет за это комиссионных, потому что книга ему нравится и вообще он «хотел бы оказать им услугу». В то же время он рассказал о книге издательству «Литтл, Браун», и вот Кинросс отослал рукопись им. Или думает, что ее туда отошлют. Темнит, как обычно. Все, что нам известно, – издательство находится в Нью-Йорке. Последняя новость от Мэшлера: текст запросят из типографии, чтобы на нее мог взглянуть высокопоставленный представитель кинокомпании «Бритиш лайон».
– Во всем этом много шума из ничего, – замечает М., – но может и сработать.
Мне понятно, что ненавидит в Мэшлере Кинросс, но готов поручиться, что там, где он может продать товару на пенни, Мэшлер продаст на фунт.
31 октября
Дорогой Фаулз!
«МЕЖДУ»[722]722
Такое название было у исправленной и переименованной рукописи «Поездка в Афины».
[Закрыть]
Наконец-то мне выпала возможность очень внимательно прочитать Вашу рукопись, и я опасаюсь, что склонен целиком разделить мнение Мэшлера.
Хотя в ней продемонстрировано незаурядное литературное дарование и есть ряд чрезвычайно удачных мест, я убежден, что ее публикация не пойдет на пользу той репутации, которую – я в этом не сомневаюсь – Вы обретете после выхода «Коллекционера». Честно говоря, думаю, что решение опубликовать это произведение обернулось бы катастрофой. Во-первых, потому, что главная линия повествования слишком слаба, чтобы вытянуть всю книгу, и, во-вторых, потому, что в голосе рассказчика звучит слегка настораживающая naïveté[723]723
Наивность (фр.).
[Закрыть], которая – вне зависимости от исходных намерений автора – способна оказать раздражающее воздействие на чувствительных английских читателей.
Я очень надеюсь, что Вы не обидитесь на меня за прямолинейность, если я откровенно скажу, что взгляды Вашего рассказчика вызывают у меня ассоциацию с эдаким политизированные Урнеи Хилом. Не выходите из себя. Я был бы очень плохим агентом, если бы не сумел предвидеть неприязненной реакции какую способна вызвать подобная точка зрения.
Может быть, Вы позвоните мне и мы обсудим это более подробно? Тем временем беру на себя смелость возвратить рукопись, выслав отдельной бандеролью. Думаю, Вам стоит на время отложить ее, ибо на повестке дня есть вещи, могущие лечь в основу более сильного произведения. Что до этого, не делайте попыток его публиковать – даже под псевдонимом.
С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш,
Джеймс Кинросс,
литературный агент
4 ноября
Вовсю работаю над «Волхвом». На днях Мэшлер обмолвился об «отсутствии стиля», якобы имеющем место у Грэма Грина. Но на мой взгляд, Грин сознательно пытается подавить стиль как средство самовыражения – иными словами, его стиль про пане как стекло. И мне кажется, это отнюдь не так легко, как думает Мэшлер. Высокообразованным людям (а к таковым, по сути, относятся практически все писатели) почти невозможно устоять от соблазна прибегать к редким или малоупотребительным словам создавать метафоры, выстраивать сложные фразы – иначе говоря, писать «под Джеймса». Перегружать слова собственной эрудицией. С другой стороны, можно писать самым простым языком и эффект окажется таким же: читатель увидит сюжет, цепь событий весь мир книги сквозь стекло, но не прозрачное. Я отнюдь не утверждаю, что стекло с гравировкой (как у Вулф, Джеймса) цветное стекло (скажем, у Фолкнера, Джойса, Лоуренса) или матовое стекло (у повествователя в произведениях школы рабочих романистов) образчики неправильного стиля. Фред в «Коллекционере» матовое стекло. Но мне ближе традиция прозрачного стекла (Грин, Во, Форстер). Традиция Дефо – Филдинга, а не Стерна.
5 ноября
Сегодня пришли две телеграммы: обе с поздравлениями. Одна от Кинросса, другая от Мэшлера. Американское издательство «Литтл, Браун» предлагает за «Коллекционера» три с половиной
тысячи долларов. Если верить Мэшлеру, это намного выше их обычной планки – полутора тысяч долларов. Надо предложить книгу издательству «Саймон энд Шустер» – просто чтобы убедиться, не предложит ли оно больше.
Все это странным образом не волнует – может быть, кажется нереальным? Думаю, черед реального настанет, когда книгу опубликуют. В данный момент меня беспокоит «Волхв»: просто ужасно, как может колебаться оценка еще не завершенной работы. Один день мне кажется, что текст великолепен, другой – что никудышен. Но в целом я счастлив. Будто нахожусь за, а не перед чистым полем. Последние дни передо мной маячит образ топографического упражнения – умения читать карту, а также еще один – образ бега по пересеченной местности. Словно, стартовав вместе со всеми, испытываешь несказанное облегчение, наконец оставшись один. Один в открытом пространстве.
Обложка «Коллекционера» – работы Тома Адамса. Оказывается, я неверно понял Мэшлера. Он сказал: «Как Чоппинг». Похоже, Адамс не жалует Чоппинга и хотел сделать обложку в стиле trompe-l'oeil[724]724
Рисунок в технике обманки (фр.).
[Закрыть], дабы продемонстрировать, что способен создавать оптические иллюзии даже лучше Чоппинга. Что и осуществил. Бледно-желтое облако, ржавый ключ, прядь темных волос (причем каждый волосок прорисован отдельно) на фоне пробкового дерева. Издательство «Кейп» в восторге от его работы. Я тоже.
12 ноября
Ли. Здесь все зациклено на деньгах и смерти: говорят только об умерших, умирающих и деньгах, которые от них останутся. Диалоги совсем как у Ионеско. У М. ни с кем не сравнимый талант запоминать абсолютно незначащие вещи – числа, детали обедов, ужинов. Если и впрямь настанет день конца света, для нее он пребудет днем, когда она получила письмо от Хейзел. Она поведала Э. о постигшей Хейзел «трагедии»: каком-то молодом человеке, которого, как она надеялась, та сможет заарканить. Но, видите ли, тот намеревался переспать с ней, а она, неразумная, отказалась. Все это выглядит до ужаса неэмансипированно: прося совета, Хейзел написала М. – и это в наши-то дни, в наш-то век, просто поверить невозможно! Бедняжка так и не смогла освободиться от предрассудков, опутавших затхлый мирок Ли, в котором нет места ничему, кроме холодности и приличий.
* * *
Дж. Лавридж. Сегодня рассказал ему о «Коллекционере». Он воспринял новость на удивление доброжелательно. А потом поведал – к моему величайшему изумлению, – что и сам он поэт. Написал большой стихотворный цикл – в форме сонетов, – посвященный Елизавете I.
– Один из них я прочитал другу, и тот разрыдался.
Я замялся, пробормотал какие-то банальности; трудно было не расхохотаться. До чего трогательно: амбициозный маленький человечек и его потаенные стишки.
Если мне импонирует Дж. Лавридж, то его проклятого кузена, коммодора воздушного флота, пытающегося привнести во все, что он делает, лексику штабиста, служаки в мундире, я на дух не выношу. Вся эта абсурдная напыщенность и официальщина: он, извольте видеть, «отдает распоряжения». «Экзаменаторы должны учитывать» (это мы-то, когда проверяем письменные работы учащихся) то-то и то-то. Из породы тех, кто неизменно выплескивают из корыта с водой ребенка, он буквально помешан на таблицах, графиках, расписаниях, цифровых показателях, фактах. Полагаю, такие люди являют собой не что иное, как современное воплощение miles gloriosus[725]725
Хвастливого воина (лат.).
[Закрыть], достойное осмеяния, и к ним следует относиться как к таковым. Когда они на сцене, зрители покатываются со смеху, но коллегам по труппе вовсе не так весело. Все его самодурство и грубость – на бумаге; ну что же, придет день, и я отвечу ему тем же – на бумаге.
20 ноября
Пришел сигнал «Коллекционера». Роман воплощается в реальность, читается гораздо лучше, чем раньше. Есть и первая реклама – извещение в «Букселлере».
Ужин с Дженнифер Ардаг. Атмосфера официальная и скованная; у нее талант собирать вокруг себя далеких от естественного поведения людей. Вроде ее шефа Джона Розенберга, главы лондонского филиала компании «МГМ», – несуразного человечка, говорящего этаким особым командным тоном: всегда чересчур громким, гнусавым, пронизывающим. Его манеры отмечены каким-то окаменевшим и чуть циничным налетом светского – вернее, псевдосветского – лоска. Предпочитает безличные формы речи. Странно: такой же голос, как у бывшего мужа Дженнифер. Присутствовал и еще один молодой человек из «Таймс литерари саплемент» – Алан Дэвис: маленький, одноглазый, тоже язвительный или псевдоязвительный и тоже какой-то окаменевший. Люди, безнадежно далекие от живого слова, от творчества. Евнухи от литературы, навсегда застывшие у входа в гарем. Когда они пишут, в лучшем случае получается кто-нибудь вроде Фэрбенка или Честерфилда. Шеф «МГМ» долго распространялся о том, как ему хочется поселиться в загородном доме в Дорсете. А когда ужин кончился, Дж. поведала нам ошарашивающую правду: оказывается, он – американец. И к тому же еврей. И, стыдясь того и другого, напяливает на себя этот режущий ухо тон как защитную маску.